Текст книги "Нашим друзьям"
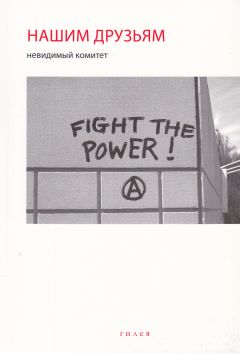
Автор книги: Невидимый комитет
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
С одной стороны, «движение площадей» перенесло, а точнее, обрушило кибернетическую фантазию о вселенской гражданственности на реальность, а с другой стороны, оно стало тем редчайшим мгновением, когда люди встречаются, действуют, устраивают праздники и берут в свои руки общественную жизнь. Этого-то и не могла понять вечная микробюрократия, которая выдаёт свои идеологические прихоти за «мнение ассамблеи» и пытается контролировать всё вокруг, ссылаясь на то, что ни одно действие, движение или заявление не имеет права на существование, если его не «утвердила ассамблея». Для всех остальных это движение окончательно развеяло мифический образ всеобщего собрания, то есть миф о централизованном управлении. В первый вечер, 16 мая 2011 года на площадь Каталонии в Барселоне вышло 100 человек, на следующий день их было уже 1000, затем – 10 000, а в первые выходные там собралось 30 000 человек. Каждый понимал, что при таком количестве людей нет больше никакой разницы между прямой и представительной демократией. На ассамблее приходится выслушивать чушь, а ответить невозможно – точь-в-точь как при просмотре телевизора; к тому же это место изнуряет своей театральностью, которая кажется тем более фальшивой, чем сильнее присутствующие стараются изображать искренность, печаль или восторг. Крайняя бюрократизация комиссий восторжествовала даже над самыми стойкими, и комитету, ответственному за «идеологическое содержание», потребовалось две недели, чтобы произвести на свет никудышный и жалкий документ длиной в две страницы, в котором обобщалось, по их мнению, «то, во что мы верим». Тогда, в этой абсурдной ситуации анархисты вынесли на голосование идею о том, чтобы сделать ассамблею просто местом для дебатов и информационным пространством, а не органом, принимающим решения. Смех да и только: вынести на голосование решение о прекращении голосования. Ещё смешнее стало тогда, когда это голосование сорвали три десятка троцкистов. А поскольку от подобных микрополитиков прямо-таки веет скукой и жаждой власти, все в конечном итоге отвернулись от надоевших ассамблей. Неудивительно, что участники движения Occupy23 оказались в точно такой же ситуации и пришли к тому же выводу. В Окленде и Чапел-Хилле заключили, что ассамблея не имеет права определять, каким образом та или иная группа может или хочет действовать, и что это место должно существовать только для обмена мнениями, а не для принятия решений. Если какая-либо идея, выдвинутая на ассамблее, и укоренялась, то лишь благодаря тому, что достаточное количество человек считали её достойной воплощения, а не из-за какого бы то ни было принципа большинства. Решения укоренялись или нет, но их никогда не утверждали. В июне 2011 года несколько тысяч участников «генеральной ассамблеи» на площади Синтагма проголосовали за проведение акции в метро; в назначенный день на место встречи явилось от силы двадцать человек, готовых к действиям. Так стало понятно, что вопрос «принятия решения», не дающий покоя чокнутым демократам по всему миру, с самого начала был лишь надуманной проблемой.
То, что в «движении площадей» культ генеральной ассамблеи пошёл ко дну, никоим образом не компрометирует практику собраний. Важно лишь понимать, что собрание не может породить нечто, чего там нет. Если созвать тысячи посторонних людей, не имеющих ничего общего, кроме того, что все они оказались на одной площади, то не стóит ждать от них невозможных при подобной разобщённости действий. Не стóит, например, полагать, будто у участников ассамблеи вдруг возникнет настолько искреннее взаимное доверие, что они вместе решатся на рискованный незаконный шаг. Само существование такого отвратительного явления, как общее собрание сособственников, должно было уже предостеречь нас от пристрастия к генеральным ассамблеям. Ассамблея отражает просто-напросто уровень сформировавшейся общности. Собрание студентов – это не то же самое, что районное собрание, а районное собрание – это не то же самое, что собрание жителей района, выступающих против «реструктуризации». Собрание рабочих в начале забастовки отличается от собрания рабочих в конце забастовки. И разумеется, оно имеет мало общего с Народной ассамблеей Оахаки24. Единственное, что при известных усилиях может создать любое собрание, – это общий язык. Но там, где единственная общая черта – отчуждение, можно услышать лишь бесформенный язык разобщённой жизни. А значит, возмущение – это действительно максимальная степень политической напряжённости, которой только может достичь индивид, превратившийся в изолированный атом и принимающий экран телевизора за весь мир, а свои чувства – за мысли. Пленарная ассамблея всех этих атомов – насколько бы трогательной такая сопричастность ни была – обнаружит лишь паралич, вызванный псевдопониманием политики, и главным образом неспособность как-либо влиять на ход мировых событий. Это похоже на множество лиц, прижавшихся к стеклянной стене и с изумлением рассматривающих механическую вселенную, которая продолжает вращаться без них. Чувство коллективного бессилия, сменившее радость от того, что они встретились и пересчитали друг друга, разогнало владельцев палаток марки Quechua так же успешно, как дубинки и слезоточивый газ.
И всё же было в захватнических движениях нечто большее – то, что как раз не связано с театральностью ассамблеи, то, что возникает из удивительной способности живых существ селиться, селиться даже в самых нежилых местах: в центре столиц. Всё, что политика со времён классической Греции презрительно отбрасывала в область «экономики», управления внутренних дел, «выживания», «воспроизведения», «повседневного существования» и «труда», напротив, утвердилось на оккупированных повстанцами площадях как признак коллективной политической силы и таким образом вышло из частной сферы. Именно там раскрылся потенциал бытовой самоорганизации: одним за раз удавалось накормить до 3000 человек, другим – в считанные дни построить деревню или же оказать медицинскую помощь раненым, и это, пожалуй, свидетельствует об истинной политической победе «движения площадей». Свою лепту внесут и захваченные Таксим и Майдан, продемонстрировав искусство обороны баррикад и изготовления коктейлей Молотова в производственных масштабах.
Тот факт, что столь банальная и невыразительная форма организации, как собрание, вызывала такой благоговейный трепет, много говорит о природе демократических чувств. Если восстание подразумевает сначала гнев, а затем ликование, то увязшая в формализме прямая демократия – это прежде всего отражение тревожности. Только бы не произошло нечто, выходящее за рамки предсказуемых процессов. Только бы ни одно событие не вышло из-под контроля. Только бы справиться с ситуацией. Только бы никто не чувствовал себя обманутым и не вступал в открытый спор с большинством. Только бы никому и никогда не приходилось в одиночку объяснять и отстаивать свою позицию. Только бы никто никому ничего не навязывал. С этой целью различные механизмы ассамблеи – от поочерёдных выступлений до безмолвных аплодисментов – формируют совершенно монолитное ватное пространство, где нет никаких неровностей, кроме череды монологов, и где исчезает необходимость бороться за убеждения. Если демократ должен так жёстко структурировать окружающие условия, то это потому, что он им не доверяет. А не доверяет он им оттого, что по сути он не доверяет себе. Именно боязнь с ними не справиться и вынуждает его пытаться во что бы то ни стало их контролировать, даже если зачастую контроль приводит к их разрушению. Демократия – это прежде всего комплекс процедур, при помощи которых мы придаём форму и структуру этой тревожности. Незачем осуждать демократию, ведь тревожность не осуждают.
И лишь всестороннее внимание – внимание не только к тому, что говорится, но и главным образом к тому, что умалчивается, внимание к тому, кáк произносятся слова, к тому, чтó читается в глазах и в молчании – может избавить нас от пристрастия к демократическим процедурам. Нужно заполнить пустоту, которую демократия поддерживает между изолированными атомами, вниманием друг к другу и совершенно новым вниманием к общему миру. Наша задача заключается в том, чтобы заменить механический режим аргументации режимом правды, открытости, восприимчивости к окружающему пространству. Ночная встреча и разговор Тристана и Изольды в XII веке – это «парламент»; общение людей, собравшихся по воле случая и обстоятельств на улице, и есть «ассамблея». Вот что нужно противопоставить «суверенитету» генеральных ассамблей и пустой болтовне в парламентах: вновь обретённый эмоциональный заряд, который несут слова, истинная речь. Противоположность демократии – вовсе не диктатура, а истина. И восстания никогда не бывают демократическими именно потому, что они представляют собой мгновения истины, обнажающие власть.
3. «Величайшая демократия в мире» затевает – не вызвав при этом особых общественных возражений – глобальное преследование одного из своих агентов, Эдварда Сноудена, опрометчиво обнародовавшего её всеохватную программу слежки за средствами коммуникации. На деле бóльшая часть наших славных западных демократий превратилась в распоясавшиеся полицейские режимы, а большинство сегодняшних полицейских режимов с гордостью называют себя «демократиями». Никто особенно не возмущался, когда очередного премьер-министра вроде Папандреу25 без предупреждения отстранили от должности за то, что ему пришла в голову совершенно недопустимая идея передать политику своей страны, то есть тройки, в руки избирателей. Впрочем, в Европе теперь довольно регулярно приостанавливаются выборы, если возможен незапланированный результат; а порой население вынуждено голосовать повторно, если итоги выборов не соответствуют ожиданиям Европейской Комиссии. Демократы «свободного мира», которые ещё двадцать лет назад самодовольно выпячивали грудь, теперь, вероятно, рвут на себе волосы. Известно ли, что в разгар скандала из-за участия в программе шпионажа PRISM26 Google отделался лишь лекцией Генри Киссинджера, рассказавшего работникам компании о необходимости сотрудничества и о цене нашей «безопасности»? Всё же смешно представить себе, как человек, в 70-е годы провернувший все фашистские государственные перевороты в Южной Америке, разглагольствует о демократии перед такими «крутыми», такими «непогрешимыми», такими «аполитичными» сотрудниками штаб-квартиры Google в Силиконовой долине.
На ум приходит цитата из трактата «Об общественном договоре» Руссо: «Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но правление столь совершенное не подходит людям»27. Или же другое, более циничное высказывание Ривароля: «На свете существуют две истины, которые следует помнить нераздельно. Первая: источник верховной власти – народ; вторая: он не должен её осуществлять».
В «Пропаганде» – книге основоположника public relations Эдварда Бернейса – первая глава под названием «Организуя хаос» начинается так: «Сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и вкусами масс является важной составляющей демократического общества. Приводит в движение этот невидимый общественный механизм невидимое правительство, которое является истинной правящей силой в нашей стране»28. Эти слова написаны в 1928 году. Когда мы говорим о демократии, то по сути предполагаем тождественность между управляющими и управляемыми, какими бы средствами эта тождественность ни достигалась. Отсюда и эпидемия ханжества и истерии, охватившая наши земли. При демократическом режиме управлять нужно не слишком заметно; хозяева наряжаются в костюмы рабов, а рабы мнят себя хозяевами. Первые, властвуя во имя благосостояния масс, обречены на пожизненное лицемерие, а вторые бьются в истерике, воображая, будто у них есть «покупательная способность», «права» или же какое-то «мнение», которое без конца втаптывается в грязь. А поскольку лицемерие – это по определению буржуазная благодетель, то к демократии всегда липнет нечто неисправимо буржуазное. В таком деле народное чутьё не обманывает.
Неважно, идёт ли речь о демократе-обамовце, или же о яром стороннике рабочих советов, и неважно, как мы себе представляем «народ, управляющий сам собой», вопрос демократии всегда зависит от вопроса управления. Такова аксиома, безотчётная уверенность: управление необходимо. Управление – это особый вид власти. Управлять не значит заставить некое тело повиноваться и не значит обеспечить выполнение Закона на конкретной территории, пусть даже посредством старорежимных пыток. Король царствует. Генерал командует. Судья судит. Управлять – это совсем другое. Это значит руководить поведением населения, миллионами, за которыми нужно следить, как пастух следит за стадом, чтобы максимизировать их потенциал и направить свободу в нужное русло. Это значит учитывать и формировать их желания, образ действия и мыслей, привычки, страхи, склонности, окружение. Это значит использовать целый комплекс мер – риторических, полицейских и материальных стратегий, чутко прислушиваясь к народным настроениям, к их непредсказуемым перепадам; это значит действовать, всегда учитывая эмоциональную и политическую конъюнктуру и предотвращая мятежи и бунты. Воздействовать на окружающую среду и постоянно изменять её переменные, воздействовать на одних, чтобы влиять на поведение других, чтобы держать стадо под контролем. В целом это значит вести безымянную, безличную войну почти на всех фронтах человеческого существования. Войну за влияние – тонкую, психологическую, опосредованную.
То, что с конца XVII века непрерывно набирало силу на Западе, – это вовсе не власть Государства, а управление как специфическая форма власти, укреплявшаяся сначала за счёт образования национальных государств, а затем – за счёт их развала. Сегодня можно спокойно смотреть, как рушатся старые проржавевшие надстройки национальных государств лишь потому, что они освобождают место для того самого податливого, гибкого, неформального, таоистского «управленчества», насаждённого во всех сферах, будь то самоуправление, управление связями, городами или предприятиями. Мы, революционеры, никак не можем отделаться от ощущения, будто мы проигрываем все битвы потому, что они ведутся на фронте, к которому мы до сих пор не в состоянии подобраться, потому что мы выводим силы на заведомо проигрышные позиции и потому что нас атакуют там, где у нас нет защиты. Это происходит по большей части оттого, что мы всё ещё воспринимаем власть как Государство, Закон, Дисциплину, Суверенитет, а она тем временем продолжает наносить удары, выступая в роли управления. Мы разыскиваем власть в твёрдом виде, а она уже давно перешла в жидкое, если не в газообразное состояние. Отчаявшись, мы с опаской смотрим на всё, что ещё сохранило чёткую форму: привычки, привязанности, корни, умения или логические суждения – в то время как власть воплощается скорее в бесконечном разрушении всех форм.
В выборах нет ничего демократического: выборы королей существовали испокон веков, да и какой самодержец откажет себе в удовольствии устроить как-нибудь небольшой плебисцит. И если такие голосования можно назвать демократическими, то не потому, что они предоставляют людям право на участие в управлении, а потому, что они дарят ощущение некоей причастности к оному, иллюзию мало-мальски избранного правительства. «Все государственные формы, – писал Маркс, – имеют в демократии свою истину»29. Он ошибался. Скорее демократия имеет свою истину во всех государственных формах. Тождественность управляющего и управляемого – вот та самая пограничная точка, в которой стадо становится коллективным пастухом, а пастух растворяется в стаде, точка, в которой свобода совпадает с послушанием, а население – с властителем. Слияние правящего и управляемого и есть управление в чистом виде, без каких-либо форм и границ. Неспроста сейчас так культивируется теория жидкой, подвижной демократии. Ведь любая устойчивая форма – это помеха для прямого управления. Посреди этого всеобщего разжижения нет никаких опор, а есть лишь плато на асимптоте. Чем больше жидкости, тем легче управлять; а чем легче управлять, тем демократичней процесс. Одинокий городской житель, очевидно, демократичнее, чем супружеская пара, которая в свою очередь демократичнее, чем семейный клан, который в свою очередь демократичнее, чем мафиозный район.
Тех, кто видел в правовых формах окончательное завоевание демократии, а не исчезающую переходную форму, ждало разочарование. Теперь это формальное препятствие на пути к уничтожению «военных врагов» демократии, а также к постоянной реорганизации экономики. Начиная с Италии 1970-х годов и до dirty wars[22]22
грязные войны (англ.).
[Закрыть] Обамы антитерроризм – это не прискорбное нарушение славных демократических принципов, не исключение из них, а скорее непрерывная основообразующая деятельность современных демократий. США составляют список «террористов» со всего мира длиной в 680 000 имён и кормят отряд из 25 000 человек – Совместное командование специальных операций США, призванное в полной секретности убивать чуть ли не кого угодно и когда угодно в любой точке земного шара. С целой флотилией дронов, не слишком разбирающих, кого конкретно они разрывают на части, эти внесудебные казни заняли место внесудебных процедур вроде Гуантанамо. Те, кого это смущает, просто-напросто не понимают сути демократического управления. Они остались в предыдущей фазе, когда Государство ещё говорило на языке Закона.
В Бразилии под предлогом борьбы с терроризмом арестовывают молодых людей, которые считаются преступниками лишь потому, что они решили организовать демонстрацию против чемпионата мира по футболу. В Италии четырёх наших соратников посадили в тюрьму, обвинив их в «терроризме» на том основании, что нападение на строительную площадку высокоскоростной железнодорожной линии TAV и сожжение компрессора (за которое всё движение целиком взяло на себя ответственность) якобы серьёзно навредило «имиджу» страны. Бессмысленно перечислять примеры, факт остаётся фактом: на всё, что оказывает сопротивление правительственным интригам, вешают ярлык «терроризма». Либералы могут опасаться, что правительства тем самым подрывают свою демократическую законность. Ничего подобного, они её только реконструируют. По крайней мере если всё идёт по плану. Если они как следует прозондировали души и подготовили эмоциональную площадку. Но когда Бен Али или Мубарак называют вышедшую на улицу толпу бандой террористов, а должного эффекта нет, то операция по реконструкции обращается против них; это поражение выбивает у них из-под ног почву законности; они у всех на виду беспомощно болтаются над пропастью, и падения им не миновать. Истинный смысл операции открывается лишь тогда, когда её ждёт провал.
4. Возникший в Аргентине лозунг “¡Que se vayan todos!” заставил управленцев со всего мира порядком понервничать. Не сосчитать всех языков, на которых мы в последние годы кричали о стремлении свергнуть действующие власти. И что самое удивительное, во многих случаях нам это удалось. Но какими бы шаткими ни были режимы, установившиеся в результате подобных «революций», вторая часть лозунга – “¡Y que no quede ni uno!”, «И чтобы ни одного не осталось!» – по-прежнему пустые слова: новые марионетки заняли освободившиеся места. Самый показательный случай – это, безусловно, Египет. Повстанцы с площади Тахрир заполучили голову Мубарака, а движение Тамарод – голову Мурси. И там, и там улица требовала свержения власти, которое она не в силах была организовать самостоятельно, поэтому подготовкой свержения занялись уже организованные силы (Братья-мусульмане, а затем армия), захватившие процесс и завершившие его в собственных интересах. Движение, которое требует, всегда уступает той силе, которая действует. Поразительно, кстати, насколько роли властителя и «террориста» взаимозаменяемы, как быстро из дворца можно попасть в тюремные подземелья и наоборот.
Как правило, вчерашние мятежники сетуют: «Революцию предали. Мы умирали не для того, чтобы очередное временное правительство провело выборы и какое-нибудь учредительное собрание подготовило новую конституцию, закрепляющую порядок новых выборов, результатом которых станет новый режим, практически идентичный прежнему. Мы хотели, чтобы изменилась жизнь, а в итоге не изменилось ничего, или почти ничего». У радикалов на этот случай заготовлено их излюбленное объяснение: народ должен управлять собой самостоятельно, вместо того чтобы выбирать представителей. Если революции систематически не оправдывают ожиданий, то, может быть, это их судьба; а может быть, есть в нашей идее революции какие-то невидимые изъяны, обрекающие её на такую судьбу. И вот один из этих изъянов: мы до сих пор нередко воспринимаем революцию как диалектическое соотношение между учреждающим и учреждённым. Мы всё ещё верим сказкам о том, что любая учреждённая власть коренится в учреждающей власти, что Государство происходит от нации, как абсолютная монархия – от Бога, что действующую конституцию всегда предопределяет другая конституция, некий подспудный и в то же время высший порядок, установленный зачастую негласно, но временами вспыхивающий на поверхности точно молния. Нам хочется верить, что стоит только «народу» собраться где-нибудь, желательно у парламента, и закричать: «Вы нас не представляете!», и сразу же после такого незамысловатого богоявления учреждающая власть как по волшебству прогонит учреждённые власти. Эта выдумка об учреждающей власти нужна лишь для того, чтобы завуалировать собственно политический, случайный принцип, акт насилия, посредством которого утверждается любая власть. Те, кто пришёл к власти, проецируют теперь источник собственного влияния на подконтрольную им общественную массу, на законных основаниях вынуждая общество молчать ради его же блага. Таким образом с завидной регулярностью власть отважно расстреливает народ ради народа. Учреждающая власть – это плащ тореадора, накинутый на неизменно корыстный источник власти, эдакая мантия, обладающая гипнотической силой и заставляющая всех угадывать в учреждённой власти нечто большее, чем то, что она из себя представляет.
Те, кто, как Антонио Негри, предлагают «управлять революцией», видят повсюду – будь то в массовых беспорядках, охвативших пригороды, или в восстаниях арабского мира – лишь «учреждающую борьбу». Мадридский негрист, сторонник «учреждающего процесса», гипотетически возникающего из движения площадей, даже осмеливается призывать к созданию «партии демократии», «партии 99 %» с целью разработки «новой демократической конституции – такой же «никакой», такой же нерепрезентативной, такой же постидеологической, каким было движение “15М”. Подобные иллюзии скорее побуждают нас переосмыслить идею революции как чистого свержения власти.
Утвердить или учредить власть значит наделить её основанием, фундаментом, законностью. Для экономического, юридического или полицейского аппарата это значит закрепить своё непрочное существование на более широкой плоскости, в некоей трансцендентности, которая предположительно должна вывести его из зоны досягаемости. В результате этого манёвра то, что всегда было лишь локальной, определённой, частичной единицей, поднимается до нового уровня, где уже может претендовать на всеохватность; власть как учреждённый элемент превращается в строй без внешних параметров, в существование без оппонента, которое может лишь подчинять или уничтожать. Диалектика учреждающего и учреждённого привнесла высший смысл в феномен, представляющий собой исключительно случайную политическую форму: так Республика становится вселенским знаменем для непреложной и вечной человеческой природы, а халифат – единственным очагом сообщества. Учреждающая власть накладывает чудовищные чары, которые преобразуют Государство в нечто, никогда не допускающее ошибки, поскольку оно основано на разуме; в нечто, не имеющее врагов, поскольку противостоять ему значит быть преступником; в нечто, способное на всё, поскольку ему неведома честь.
А следовательно, чтобы свергнуть власть, недостаточно победить её на улице, разобрать на части её механизмы, поджечь её символы. Свергнуть власть значит лишить её основания. Именно это и делают восстания. Тогда учреждённый элемент предстаёт в первоначальном виде, со всеми своими неказистыми и действенными, грубыми и изощрёнными трюками. «А король-то голый», – обнаруживаем мы, когда завеса учреждающей власти разорвана в клочья и всё видно насквозь. Свергнуть власть значит лишить её законности, вынудить её признать собственный произвол, разоблачить её случайную природу. Это значит показать, что она держится лишь в заданной ситуации, поскольку прибегает к уловкам, приёмам и махинациям; превратить её во временную фигуру, которая, как и многие другие, вынуждена бороться и хитрить, чтобы выжить. Это значит заставить правительство опуститься до уровня повстанцев, которые теперь вовсе не «чудовища», «преступники» или «террористы», а просто враги. Прижать к стенке полицию, превратить её в уличную банду, а правосудие – в кучку злодеев. В период восстания действующая власть – это всего лишь одно из многочисленных формирований на общем поле боя, а не та метасила, которая распоряжается, командует или выносит приговор всем игрокам. У любого мерзавца есть адрес. Свергнуть власть значит вернуть её на землю.
К чему бы ни привело уличное противостояние, восстание уже изначально разрезает плотную материю верований, которая делает возможным управление. Вот почему те, кто спешит похоронить восстание, не теряют времени на попытки залатать истерзанное основание утратившей силу законности. Они, напротив, стараются внести в само движение новые притязания на законность, то есть новые притязания на разумную основу, на преимущества в стратегическом пространстве, где разворачивается противостояние между различными силами. Законность «народа», «угнетённых» или же «99 %» – это Троянский конь, при помощи которого в мятежное свержение власти проникает учреждающая власть. Это самый верный способ свести на нет любое восстание – он даже не требует победы на улице. Соответственно, чтобы свержение режима было необратимым, мы должны для начала отрешиться от нашей собственной законности. Нам необходимо отказаться от мысли о том, что революцию мы совершаем во имя какого-то идеала, что когда-нибудь сформируется в высшей степени справедливая и непорочная реальность и что революционные силы станут её представителями. Мы спускаем власть на землю не для того, чтобы самим вознестись к небесам.
В наши времена для свержения этой специфической формы власти требуется сперва отнести к ряду гипотез очевидный тезис, согласно которому людям нужно управление – будь то демократическое самоуправление или же иерархическое управление, осуществляемое другими. Эта установка восходит ещё к греческим корням политики, и она настолько весома, что даже сапатисты и те объединили свои «автономные коммуны» под началом «хунты хорошего правительства». Здесь мы наблюдаем явную антропологическую тенденцию, характерную как для анархиста-индивидуалиста, стремящегося к полному удовлетворению собственных желаний и потребностей, так и для, казалось бы, более пессимистичных концепций, видящих в человеке алчного зверя, которого может удержать от пожирания ближнего лишь некая обуздывающая сила. Макиавелли, считавший, что люди «неблагодарны, непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечёт нажива»30, единодушен в этом вопросе с основателями американской демократии: «При формировании правительства следует исходить из принципа, что все люди подлецы», – отмечал Гамильтон. В любом случае мы отталкиваемся от постулата о том, что политический режим призван ограничивать относительно звериное существование человека, где Я противостоит окружающим и всему миру, где есть лишь отдельные тела, и собрать их вместе можно только с помощью каких-то ухищрений. По мнению Маршалла Салинса, идея человеческой природы, которую сдерживает «культура», – это западная иллюзия. В ней выражается беспомощность, свойственная только нам, а не всем жителям земли. «Для большей части человечества так хорошо известный нам эгоизм совсем не естественен в традиционном смысле слова: в нём усматривается некий вид помешательства или одержимости, повод для изгнания и казни или хотя бы симптом недуга, требующего лечения. Корысть отражает не столько досоциальную человеческую природу, сколько отсутствие человечности»31.
Но чтобы свергнуть правительство, мало просто раскритиковать эту антропологию и её предполагаемый «реализм». Нужно оценить её со стороны, найти иную плоскость восприятия. Поскольку мы и вправду вращаемся в иной плоскости. Глядя с относительно сторонней позиции на то, чтó мы переживаем, чтó мы пытаемся соорудить, мы пришли к такому выводу: вопрос управления возникает лишь в пустоте, в той пустоте, которую в основном приходилось формировать. Власть должна была в достаточной мере отделиться от мира, создать пустоту вокруг индивида или в нём самом, создать пустынное пространство между существами, чтобы потом уже решать, как объединить все эти отдельные элементы, которые больше никак не связаны, как сложить разнородные частицы, сохранив их разнородность. Власть создаёт пустоту. Пустота требует власти.
Выйти из парадигмы управления значит отталкиваться в политике от противоположной гипотезы. Пустоты не существует, любое пространство обитаемо, каждый из нас представляет собой точку пересечения и соединения многочисленных чувств, линий, историй, смыслов, преобладающих над нами осязаемых потоков. Мир нас не окружает, он проходит сквозь нас. Внутри нас живёт то, в чём живём мы. Нас формирует то, что нас окружает. Мы себе не принадлежим. Мы изначально растворились во всём, с чем себя связываем. Суть не в том, чтобы сформировать пустоту, в которой нам удастся, наконец, охватить недосягаемое, а в том, чтобы обжить уже существующее пространство и, следовательно, научиться его воспринимать – а это не такая уж и простая задача для слепого потомства демократии. Воспринимать мир, населённый не вещами, а силами, не предметами, а энергией, не телами, а связями.
Именно полнота форм жизни позволяет свергнуть власть.
Здесь извлечение – это утверждение, а утверждение – средство нападения.

Турин, 28 января 2012
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































