Текст книги "По разные стороны экватора"
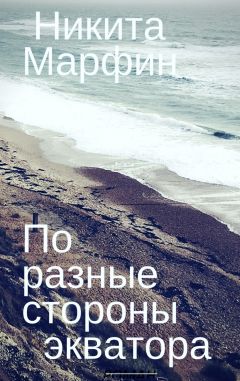
Автор книги: Никита Фроловский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ассоциативно же, драгоценный мой, развлекает себя твой автор мечтательными размышлениями о не по-детски занервничавшем за свое иерархически-статусное положение привидении бородатого графа. Прознало беспокойное, что мы с отчаянно-серьезной решимостью, крепко закусив обе губы, чтоб не раскатались раньше времени, рьяно, как всякий переросток, взялись, наконец, за дело и пошли ломить напролом с энтузиазмом такого невиданно-раскаленного накала, что, ежели не перегорит посреди пути от космических перегрузок волшебная лампочка, должная гореть на финальном краю многоизвилисто-лабиринтного туннеля, то заменит нам и титул, и статус, и деньги, и Ясную, как перец, Поляну, и бороду, и авторитет, и Софью Андреевну. Прослышало бесплотное бородатое тревожные слухи о, грозящей его, великой пока еще, тени, невероятно-зловредной опасности, потеряло глыбистый покой, аллегорически выраженный в камне на Девичьем Поле, и суетливо зарыскало вокруг дерзкого выскочки в тщетной надежде получения годной к анализу информации о нежданном сопернике. Безрезультатно, однако. Выскочка-дебютант крайне скрытен не по масти, а уж мнителен на десять классиков и хранит до поры, до времени свои секреты со страстью одержимого золотом Скупого рыцаря и отважен становится до беспредельной свирепости при первой мысли о посягновении на творческую его лабораторию.
Великий граф от своего замысла не отступился, не потеряв и в бесплотной трансформации ни грана своего стального, выше подробно описанного, родового бойцовского духа, но решил пока, вспомнив офицерскую молодость и историческое поведение своих героев Барклая да Кутузова, маневрировать, тянуть время и терпеливо высмотреть должную быть брешь в чешуйчато-драконьей броне обороны наступающего потенциального конкурента и безжалостно того придушить еще в зародыше, буде тревожные слухи о бескрайнем потенциале исключительных способностей наглого выскочки имеют под собой реальную почву, а не блеф трусливых шаек вечно-бездарных, еле различимых на пестрой простыне литературной карты клопов-завистников, до зевоты безвредных в навечно им присужденной непоправимо-убогой никчемности. Они и раньше бывало суетились вокруг графа с мелочно-бессмысленной мстительностью думая попортить наследственно-толстые, как корабельные канаты, нервы при помощи таких же бездарных, как они сами, одно, само много двухходовых комбинаций, но Железная Анафема даже не замечал эти неизбежные отбросы процесса, однако, бдительная интуиция никогда не дремала и на этот раз неприятно кольнуло его тревожным предчувствием и он, профессионально не откладывая на завтра беспокоившее дело, решил разобраться, да вот наткнулся на глухую защиту загадочного новичка. Как мы уже сообщали, классический писатель с приобретенной за долгие годы деревенской жизни крестьянской матерой хитростью решил покамест обождать и присмотреться, а пока суть да дело попугать сопляка клоповыми методами, только в своем изобретательном исполнении, благо у того, как понимал животно-проницательный, отлученный от матери-церкви классик, нервишки сейчас оголено-беззащитны, он весь торчит на изменах, борется с тысячами нелепых сомнений и вздрагивает от любого безобидного литературного стука или шороха. И торжественно проклятый в позапрошлом веке граф, с давно не испытываемым удовольствием, мысленно покатываясь со смеху, принялся подробно обдумывать детали предстоящих диверсий, внешне сохраняя величаво-божественную насупленность, аки Зевс-громовержец перед карательной акцией.
Пусть себе забавляется тень-бюллетень,– решил выследивший самонадеянного безбожника-маразматика и на раз вычисливший все его хитроумные планы автор. Болезненный интерес нелюбимого классика ему польстил, но не до такой степени, чтобы эйфорически терять бдительность или того хуже свернуть со страху работы. Автор теперь находился в безвременном, военного типа, походе, одинаково сдержанно реагировал на добрые и дурные предчувствия и новости, не расслаблял ни на секунду сгустка, собранной для работы последнего шанса, воли и, даром, что угрожали ему одни безвредные тени, не разрешал себе теперь даже спать, а только чутко подремывать возле письменного стола, обложившись всевозможным комнатным оружием и на всякий случай даже не снимая тяжелых ботинок, как серьезного подспорья в возможной рукопашной, буде неведомые агрессивные посетители предпримут попытку нападения с целью овладеть неусыпно-охраняемой драгоценной рукописью.
Пусть же себе мечутся неопасные тени, а завидущий, жадный пен-хрыч изобретает бессмысленные диверсии, позабыв в азарте борьбы, что и он тень, пусть и великая, а тени, как бы алчно они того не желали, как издавна известно, не кусаются. «… Ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь!» Так разглагольствует перед сопляком-юнгой прожженно-просоленный ветрами, морями и разбоями второй боцман незадолго до собственной гибели от его рук, позволяющей нам применить к нему же им или его пиратскими подельниками сказанные ранее слова об ихнем товарище штурмане Билли: «Теперь он и сам мертв и может проверить свою поговорку на опыте».
Ну, а ежели сунутся какие-нибудь отчаянные живые, автор с удовольствием чуял в себе злую хищную решимость не раздумывая отправлять таковских с наивозможной скоростью и с наименьшими энергетическими затратами прямо в царство взбесившихся теней, не испытывая и намека на угрызения совести. Работа, наконец, дошла до той, ничего, конечно, не обещающей и не проясняющей отметки-стадии, с которой она уже обретала значимый статус и все явственнее становилась выше и значительнее собственного изобретателя, оставляя тому лишь одну тяжкую, но почетную привилегию нескончаемого труда, способного пообещать только неведомо-безграничные, как и ранее, свои размеры. Впрочем, как уже выше не раз говорено и не раз еще будет, выбора у автора нет, возврата нет, ничего нет и он рад, что так обернулось, а то не хватило бы воли, сил и терпения или еще чего, а теперь хочешь – не хочешь, хватит – не хватит, а надо продолжать.
Итак, если память нас не подводит, мы так и не успели сообщить читателю рабочее название личного сверхнаправления в прозе, в идеале должном затмить новизной, блеском и хваткой и все остальные искусства. Автор думал не долго, а может и не думал, а так как-то понял, что называется оно, пока во всяком случае, литературный реализм. Автор, спору нет, дебютант и новичок в прозе больших размеров, однако, отнюдь не дебютант в художественной письменности и пишет, бывали случаи и за деньги, профессионально, уже даже не первое, а второе десятилетие. Просто он и всегда мало писал, а за последние годы, начав забывать и о подобии удач, вовсе не писал ничего, а только размышлял, да разносил уже написанное призрачно-возможным покупателям. К чему это я расхвастался? Или рассетовался? Нет, мои милые, ни то и ни другое, просто опять же по добросовестности сообщаю необходимые для адекватного восприятия факты, чтобы не смущать никого фантастической для самого разгениального новичка искушенностью. Литературный, стало быть, реализм. По своему, не слишком большому, но давнему опыту автор знает простую, как аналогичная ей автомобильная, истину. Никого не догоняй и ни от кого не убегай. В своем собственном ключе всегда езжай. И еще припомнилась одна, подходящая нам ныне, дорожная истина, особенно в свете суеты вокруг нас тени пня хрычового и других, и возможного появления новеньких стаек привидений. Все участники движения равны. Слыхал, дедушка? Расскажи остальным на ближайшем мастер-классе. Ты и сам… Ой, простите, ваше сиятельство, я заговорился. Вы и сами, многоуважаемый граф, вечный участник движения, невзирая на бесплотную сегодняшнюю Вашу трансформацию. Вот и волоките себе свои бренчащие, громоздкие, многотомные сочинения и не мешайте нам волочить наши, еще не облекшиеся в подобающую форму.
Литературный-то реализм удобная для автора штука. Всего-то и затевалось все это так называемое лирическое отступление ради одного, двух абзацев, чтобы поделиться с читателем неожиданным и для самого автора открытием, нет, не знакового, а все же заметно-важного совпадения в соседстве произвольно выписываемых и автоматически временно нумеруемых только для уменьшения путаницы героев. Вот это мы и заметили, с чего было и начали очередное от основного повествования отступление.
В формировании характеров и образов, оказавшихся по соседству, четвертого и пятого номеров, фундаментальную роль сыграли их семейные воспитания, нестандартные по опыту и знаниям, совершенно непохожие, но объединенные присущими обоим ярко выраженной единичностью рисунка и избранной отделенностью от общей массы, что для наследников одновременно становится и привилегией, приятной, как у притихшего графа, авансом выделяющей их в кандидаты на индивидуальности, но и грузом, не столько ответственности или соперничества с состоявшимися карьерами родителей, а грузом много более остальных получаемых объемных и тонких знаний о жизни, недоступных ни для получения, ни для понимания основной разночинной массой, что опять же и неоспоримое преимущество, и фактор невозможности непосредственно-беспечно-нетребовательного взгляда на себя и действительность.
Опять где-то замелькала тень неутомимого маэстро, но, будем надеяться, лишь по ассоциации.
Как бы то ни было, обоим номерам их выдающиеся семьи привили ум и хватку, дух и бойцовские качества и привили внешний лоск манер и осанки, познания иностранных языков, выученных не по-советски, обеспечили навечно естественно-вросшей в тело привычкой к автомобилю и многими еще всякими ценными особенностями, оснастившими владельцев гораздо более крепкой, а то и непробиваемой защитой от не дающих никому спуску, жизненных бурь и неизбежных перипетий. О не менее эксклюзивных значительных недостатках, автоматически с феиными подарками полученными нашими персонажами, мы поговорим поподробнее позже, если останется время и место, а сейчас только извинимся перед ангельски терпеливым читателем за то, что все отступление затевалось ради этого небольшого сообщения-обобщения.
Ай, да автор! – воскликнет читатель, – вот так выдумал себе направление! Литературный, вишь ты, реализм! Да уж однозначно не социалистический или капиталистический. Не советский, так сказать, и не кадетский. Можно в целом сказать – эго-реализм! Даже лишенные всякой совести сюрреалисты с постмодернистами и примкнувшими авангардистами-абстракционистами и еще какими-нибудь гипер-бипер-гастарбайтерами не морочили так голову своими, как там, перформансами что ли. Инсталляциями и акциями, а здесь под видом традиционной литературы автор только и делает, что бурно резвится в свое полное удовольствие, а читателя продолжает нахально кормить заманчиво-красочными обещаниями. Где это говорят так (в Одессе-маме или в Ростове-папе?): «Пацан сказал – пацан сделал!» и, после многозначительной пафосной паузы, добавляют: «Не сделал – опять сказал!».
Наверное, везде так говорят. Вот уж прямо про нашего дорогого автора! Читателю слово, себе сто, если не тысячу! Эго, эго-реализм! Литературный ли или нет, пусть решают специалисты, если доберется до них сомнительное по всем параметрам сочинение. Пусть они же, приятно-сердечные, и выносят вердикт решения реализм ли. А вот что эго теперь яснее ясных перца и поляны любому самому неопытному читателю, простодушно доверившемуся коварному автору и вынужденному теперь тащиться вместе с ним себялюбивым до окончательных результатов экспедиции, если только бывают у таких экспедиций результаты и окончания.
Молчите, читатель! Молчите и следуйте за мной – мы с Вами добрались до предпоследней шестой презентации из некогда заявленного пакета списочной номенклатуры нашего совмещенного мега-эго-проекта.
Г л а в а Ш е с т а я.
Прознай представляемый ныне наш новый персонаж о непроизвольно присвоенном ему логикой повествования, а не злым авторским умыслом, порядковом числительном, с его в нормальных кругах уничижительным значением, мог бы и оскорбиться, и возмутиться, и справедливо вскипешнуться на ушастых фраеров, возомнивше-вообразивших себя командоро-лидерами экспедиционного корпуса, и по полной спросить с них за локшовый базар, порочащий честно заслуженную по самым строгим понятиям репутацию ни разу не накосячившего арестанта-каторжанина и пусть не блатного, но настояще-нормального чисто пацана, не бывавшего во всю свою нелегкую жизнь ни у кого шестым.
Только ничего-то он, распальцованный, не проведает, как бы не хлестался собственною жиганскою проницательностью, обретенною длительным морально-жестоким опытом и физиологически до онемения многобитою, да не погибшей, а лишь задубевшею шкурою.
Ничего он не увидит, не проведает, не узнает, не примет мер и не предъявит по простой, понятной и приветствуемой искушенно-знающим читателем художественной причине-особенности искусства литературного мастерства, скрытой от малограмотных собственной их лоховской ограниченностью. «Старая и жалкая шутка»,– говаривал некий Лермонтов об этом казусе восприятия текста вечно-непереводящимся, не в пример поголовно вымершему мамонту, фраером от чтения. По причине, орел, отсутствия прямопараллельного прототипа в высокотехнологично организованной прозе, симфоническая оркестровка которой допускает для красочности неподотчетное использование черт характеров от неограниченных доноров. И некалечимых (!) заметим-добавим с гуманитарной гордостью виртуального хирурга-мясника, неутомимого потрошителя и сшивателя.
С подробно по всем понятиям обоснованной полномочной правотой продолжаем представление.
Большая часть, а то и вся масса его друзей, подруг, коллег и знакомых считала его если не сумасшедшим, то уж крайне неадекватным, но в их среде и в их время элементы ненормальности почитались неотъемлемо-профессиональной особенностью, а по степени разнообразия и полноты достигали и определения достоинства, запросто могшего в мистическом восторге естественно-уверенно перелиться в уже звание таланта.
Он не родился в Москве, но начал жить в ней еще подростком, попавши в столицу из самостоятельно-большого южного города. Ростова-на-Дону, скажем, или ему подобного и он с куражом напоминал при случаях свое происхождение фразами типа: «Ростов круче Краснодара!» В Москву к неблизким родственникам попал он стараниями интеллигентных, не сильно влиятельных, но не бедных по ростовским меркам родителей, бросивших все свои силы, деньги, смекалку и темперамент на борьбу за отторжение от мира преступности единственного ребенка, очарованного с раннего детства буйно цветущей вокруг криминальщиной и классически-поступательно засасываемого ее болотными трясинами.
Весь мир его города был пронизан тюремно-романтическими миазмами, неразрывно слившимися в неотделимом переплетении с бытовой атмосферой. Даже интеллигентных профессий взрослые в спорах о высоких материях и научных достижениях свободно использовали блатные слова и выражения, тоже с детства им подробно знакомые.
Только взрослые, интеллигентные или нет, являлись в массе своей гораздо морально-устойчивее наследующего поколения и не испытывали от детства до старости сомнений в границах отделения себя, граждан, от шпаны и уголовников, хотя запросто вворачивали в речь злодейские словечки или пели на вечеринках по случаям советских праздников воровские песни от неудовлетворенности близким и далеким начальством.
Уверенные в безобидности игр с чужой атрибутикой недальновидные взрослые вдруг с ужасом обнаружили в подрастающих детях гибельную размытость в определении той границы, отделяющей честно-нормальные представления от запредельно-противоправных.
Наш герой не стал исключением из печально-повального правила и в самом малолетнем возрасте уже действенно толокся в дворовом ответвлении-ячейке районной банды и участвовал в настоящих преступлениях, пусть чаще неумело-неудачных, но раз от разу набиравших осмысленности. Вскоре его оперативно выловила бдительная милиция и по судебному решению водворила на исправление в спецшколу закрытого режима, практически колонию первой ступени для самых мелких малолеток, сулившую своим буйным обитателям вместо исправления закалку утверждения в пагубных заблуждениях и профессиональное расширение разбойных познаний для почти гарантированных потусторонних карьер. Вот это, его, мигом прозревшие, родители поняли сразу и приложили все мыслимые и немыслимые усилия и деньги в хлопотах по немедленному вызволению сына, увенчавшихся номинальным, но не фактическим успехом. Освобожденный отрок родительских забот не оценил, спецшколой напуган не был и криминальную стезю оставлять не собирался, а только стал скрытее, изощреннее и осторожнее действовать. Далеко не сразу, но все равно неотвратимо он оказался вторично арестован, но теперь по серьезному, огнестрельно-вооруженному, практически взрослому эпизоду и светили за него уже две настоящие колонии. До совершеннолетия для малолетних, а после продолжение во взрослой, такой длительно-губительный ломился теперь ему обеспеченный срок. Только родители, интеллигентски винившие и себя в общем несчастье, не сдались и сумели, использовав незаконные пути и почти лишившись благосостояния, вторично же вырвать непутевого сына из ежово-цепких рукавицо-лап правосудия. Давшееся огромной ценой, унижениями и сделками с совестью достижение ученые теперь родители терять не собирались и решили на семейно-мозговом совете-штурме еще и вырвать сына, благо, наконец, и он проникся серьезностью последствий мазурико-похождений, из, не позволившей бы ему опомниться и вновь бы в себя затянувшей, всепроникающей среды родного города.
Так попал он в Москву, и цивилизованные в сравнении столичные нравы вместе с благотворными культурными впечатлениями, неиссякаемо-обеспечиваемыми благородно принявшими его в семью, родственниками, действительно отвратили от мрачных бездн уже почти рухнувшую в них душу.
Семья была театральной. Муж и жена, взявшие на себя бремя новых родителей, оставались во всю карьеру известны только среди постоянных зрителей своих театров, в кино снимались редко и зарабатывали немного. Но у них нашлись сотни отличных друзей, от таких же по положению до знаменитых и великих, в доме часто собирались огромные компании гостей, неутомимо превращающие каждое собрание в бесценное познавательное событие, и сами они не менее часто ездили по всяким гостям, ни один вечер не повторял предыдущие, а всегда каждый блистал отличительной новизной людей и событий и бывший криминал-малолетка влюбился в театр и театральный мир и самым естественным образом, не представляя себе другой судьбы, поступил в подошедшее время на актерский факультет одного из крайне немногочисленных знаменитых столичных театральных училищ.
Первый год он, как и все однокурсники и однокурсницы, проучился и прожил в неутомляемой эйфории, вдохновленной успехом поступления, подтвердившего право на избранность, и начальными, всегда иллюзорно-гигантскими в любом мастерстве, достижениями в осваиваемой профессии.
Ко второму курсу экстаз стал бледнеть, взлет тормозиться, всякий крохотный шажок вперед даваться неимоверно-каторжными и длительными трудовыми усилиями, да еще и стали их всех регулярно посещать неизбежные для изучающих искусство двусмысленные открытия и черные сомнения. Блистающий еще недавно светлостью гармонии громадный и бесконечный художественный мир непроницаемо покрылся тяжелыми грозовыми тучами, а зигзаги молний последовательных разочарований раскалывали само воспоминание о нем на несобираемые бесформенные осколки.
Им всем недоставало юношеских сил противостоять навалившимся испытаниям и без движения почти тянуть режущую бурлацкую лямку потерявшей всякую прелесть учебы. Недоставало и жизненного опыта для осознания простой истины, что многолико-тяжелая выбранная профессия ставит непреодолимые преграды для случайных и недостойных оказаться посвященными в ее тайны соискателей. Только считанным единицам из однокурсников, имевших нечуждых театральному поприщу доброжелательных родных, некогда переживавших подобные ужасы, теперь с трудом и улыбкой припоминаемые, как всего-то эпизодический штришок многозаботной дороги, и способных частично объяснить естественные процессы пусть все одно ничего не понимающим, но несколько утешаемым депрессантам, приходилось полегче. Ну и, конечно, те, кто обладал крепким характером, не теряли мерцающего ориентира веры в себя и призвание в охватившей их маленький коллектив пучине истеричного уныния.
Наш герой, как мы понимаем, счастливо обладал и родственниками и характером и достойнее всех переносил чернушные состояния, еще и больше остальных закаленный неординарными подростковыми опытами, но с ним случилось несчастье, спровоцированное в какой-то мере учебными кошмарами и отяжеленное догнавшим вдруг его прошлым, казалось бы, навсегда оставшимся в давно пройденных, полностью изжитых и радикально исправленных ошибко-этапах беззаконного детства в большом южном городе.
После одной запойной многодневки, где одичавшие от сменяющихся, но не проходящих жуткостей артистические студенты боролись со своими слабостями с помощью раскрепощенных, но не потерявших мрачности и не обретших от алкоголя спасительного веселья, метафизических поисков несуществующих решений и ответов к ложным задачам учебных сомнений, весь мужской состав мастерской, традиционно отличавшийся, как и все актерские курсы, бретерной забиячливостью, ввязался у одного из центральных метро в большую уличную потасовку, с оперативным энтузиазмом создав в ее завихряющемся эпицентре неожиданную для противоборствующих сторон третью силу против всех, превратив патриархально-скучную размеренную схватку стенка на стенку в упоительно-безадресное, стихийно-свободное бескомпромиссное побоище.
Девичий состав с заполошными, как водится, взвизгами забегал вокруг.
Организаторы вялой в своей честной спортивности баталии, вдохновленные ярким примером живительно ввалившихся к ним старших по разуму собратьев, сразу поскидывали ханжеские маски и ожесточенно пошли работать кулаками и ботинками, не жалея себя и противника, в полную тоже первобытную силу.
Все смешалось в бешено заметавшемся темными пятнами и бесформенно вспухающими и опадающими разнобедренными многоугольниками, мятом, как подушка, хрипло рычащем и свирепо визжащем клубке плотного, как морской узел, сплетения взлетающих и молотящих рук, ног и голов, брызжущим во все стороны слюной, потом, кровью, лоскутами одежды и клоками вырванных волос.
Актеры, нашедшие, наконец, действенный способ избавления от любых мыслей, самозабвенно стряхивали в счастливо подвернувшемся бою груз рефлексий и сомнений и возвращали себе изначальное, чуть было не потерянное насовсем безмысленное чувство знания живого и послушного тела – главного актерского инструмента. Целебная терапия жестокой битвы живительно перетряхнула их, мертвевшую в декадентской беспросветной стылости, сущность, установила по местам базовые понятия и содрала ороговевшую чешую разуверенности в себе, возродив к учебе и надеждам.
Им так не хотелось ни уходить, ни убегать с места исцеления и полной победы, что всех задержала милиция. После долгих, придирчивых выяснений и как под копирку полученных показаний, что не помнят начала, а заступились за своих, обижаемых прилипчивыми бакланами-хулиганами, всех и отпустили, кроме него, из-за подходящей биографии записанного в зачинщики. Особых повреждений, гематомы и переломы не в счет, никто не получил, никого не убили и уж во всяком случае никто из участников самоотверженного месива ни на кого не заявил, но протянувшиеся до оправдавшего его суда полгода он провел в Бутырке, и (здесь находился не Ростов) для так и не состоявшегося вызволения нужны оказались или хлопоты на другом уровне или попросту другие деньги.
За это время его отчислили из Училища, свято хранившем традиции академической чопорности, категорического недопущения скандальной публичности и непрощенчества студентам попаданий в порочащие истории, не взирая ни на какие оправдательные доводы.
В конце концов, стараниями и усилиями целых групп заступников его с трудом удалось восстановить на курс двухгодовало-ниже родного. Новые однокурсники встретили его дружески, но ему стойко казалось, что они никогда и не подозревали о преодоленных переживаниях, насланных судьбой на него с подлинными соучениками. Молодежь виделась ему бледнее и проще их. А от своего бывшего курса, неизменно также выражавшего расположение к прежнему товарищу, он безнадежно отстал, и не в учебе, а именно в чем-то более важном, в неких, неопределяемых формулами, но основополагающих познаниях. Всех возродившая зверско-варварская битва, вернее ее милицейско-юридические последствия, в нем одном, самом крепком, безнадежно надломили что-то ценное в сознании и, хотя он не переломился, не собирался сдаваться и, собрав всю свою волю, упорно занимался, поселилось в нем чувство отделенности от людей и скрываемая тщательно черточка скорбности одиночки, неудачно пострадавшего за общее дело. Он ни с кем не делился новыми болезненными переживаниями, что тоже не пошло ему на пользу, а только совсем раздвоило сознание, потому что он всегда держался среди коллег, знакомых и родственников шумно, бодро и весело и только один знал, что это наигрыш. В общем, он потерял после той пресловуто-этапной битвы и подытоживших ее испытаний цельность натуры и животную органику, которой искал теперь искусственный заменитель, составляя личную профессиональную энциклопедию интеллектуальных комбинаций, способную при накоплении достаточно-громадного количества статей помочь в иллюзорной замене природной силы, но никак не заменить ее по-настоящему.
Дорогой мой, дорогой читатель! Ты даже не представляешь, как я благодарен тебе. Благодарен, что ты еще здесь и сносишь россказни про психа. На самом деле он не псих, вернее псих, но как-то в свою пользу, что всегда наталкивает на смутные подозрения. Впрочем, он нам еще понадобится, увидишь, если останешься. Я писал его, писал, мне надоел и он, и писанина, но, как любят говорить мои родители: «от невыполненного задания ждать нечего!» За то длительное время, что я изредка выполняю разные задания, несколько раз удрученно убедился, что и от выполненного случается нечего ждать. Все же в родительской формуле больше оптимизма и позиция правильная. Во-первых, от невыполненного, в отличие от выполненного, точно ждать нечего, а во-вторых, все тобою сделанное сохраняет шанс увидеть свет и принести тебе всякие удовлетворения и отдачу и, в любом случае, не разочаровывайся в своих детищах, не предавай их забвению и неуклонно заботься об их судьбе всеми доступными способами. Самые доступные могу назвать прямо сейчас. Первый: старайся, чтобы твое нынешнее произведение отличалось от предыдущего всем – стилем, формой, сверхзадачей, содержанием и фактурою. Тем ты оказываешь уважение ему, предыдущему, отделившемуся и живущему собственной жизнью и себе, доведшему замысел до ему же соответствующего результата, и подтверждаешь свое право на новое, уже продемонстрировав мастерство расчета художественной, а значит главной, составляющей проекта. Второй: обязательно работай дальше, несмотря на отсутствие отдачи, востребованности и прочих общественных проявлений. Работай, стараясь изобрести в конце концов такой проект, что подтвердит всем-всем-всем то, что ты давно и несомненно о себе знаешь. Да еще такой проект вытащит к свету те, что лежат пока невостребованными стопками и скрывают до поры до времени свои красоты и истины. Еще есть способы, опишем и их может когда-нибудь. И не сетуй на невоспринимающую тебя публику – это лестное подтверждение твоей полной новизны, ведь публика способна воспринимать только знакомое, а новое ей надо тщательно, системно и неутомимо разжевывать и заманчиво-долбяще рекламировать. Не любит публика котов в мешке в черной комнате наполненной неизвестной сублимацией, не любит быть объектом индивидуалистически-сомнительных экспериментов, да еще платить за это деньги! Да, и публика хочет и требует гарантий, ну типа «голливудской системы звезд». Подумать только! Эх, автор, автор! Кот в мешке? Кот. Проекты все как один экспериментальны и индивидуалистичны. Правда, не сомнительны, в этом он уверен (смотри выше о «мастерстве художественного расчета). Вот мой единственный аргумент. И какой спорный! Пятьдесят на пятьдесят. Я – производитель – требую деньги, а публика по-банковски требует с меня гарантии. Я ей: «мастерство художественного расчета», а она (закоснело, на мой взгляд) считает с удручающей непереубеждаемо-необоримой единогласностью мастерство – нескромным, художественное – спорным, расчет – подлым. Вот значит. Слов-то и нету. Права она по-своему. Нет, не в косности, конечно, своей малограмотной, а в недоверии к неведомому. Прав и я, привет тебе, привет. На том стоим. Самонадеянно считаю, что обе стороны в убытке. Я материально, она… Нет гарантий! Квадратура круга. Никаких внятных предложений по сближению позиций не имею. Не справедливо, что только я их ищу и обдумываю, а она манкирует. На, подобные этому, неудовольствия природой миропорядка и общественного устройства, моя первая теща кричала: «Несправедливо, что идет дождь!» Сближения позиций. Выходит, публика нужна мне больше, чем я ей, один их обдумывая? Тьфу! Нет! Мне нужны деньги. Все остальное тайна. Но как ни осветятся вопросы и все «кто кому нужен», «кто прав», «сближение», «эксперимент», «гарантии», ничего из этого, и вообще ничего и никто не могут отменить обязательность необходимости моей работы. И будь, что будет.
Ты заснул, читатель?
Наш спутник не спит, но пребывает в некотором тягостном недоумении – нехорошее впечатление производит на него неожиданная слабость, стоны, выкрики и беззащитный пафос автора. Плюнь, читатель. Это не личное, а общественное.
Читатель все еще верен нам и не бросает в пути, несмотря на отсутствие всяких гарантий. Он даже испытывает к нам дружеские чувства и для разряжения атмосферы нашего общения спрашивает: «Что это ты стал говорить, как вождь индейцев?»
Да уж. Что-то там автор хотел обобщить в описании актера. Писал, писал… А! И подозревает, что мог зарапортоваться и наврать в открытую, в разных местах написав противоположные, опровергающие одна другую характеристики или еще что, с одинаково-вычурной старательностью. Да и выше по всему тексту могут находиться всякие казусы. Автор не делает вид, что это его специальная особенность, однако уже сообщал, что не в Ясной Поляне находится и не видит смысла брать в расчет чужие предрассудки, тем более, что ляпы и ляпсусы скорее всего мелкие, да пусть будут и крупные, не должны портить общей стройности ввиду доминирующей обширности, а читатель, единственный о ком мы кроме текста беспокоимся, привык уже вместе с нами плевать на условности. Мы с ним, допуская погрешности, уже извинительно сообщали, что делаем это от тяжелых условий обстоятельств и жестких ограничений времени, и заявляем, что небрежно упомянутые выше «предрассудки» и «условности» по сути первые необходимости подлинной литературы. Никому не советуем ими пренебрегать, а себе позволяем лишь в быту экспедиции. В быту экспедиции мы себе многое позволяем. Практически все. Под запретом лишь то, что может ее, долголелеемую, сорвать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































