Текст книги "По разные стороны экватора"
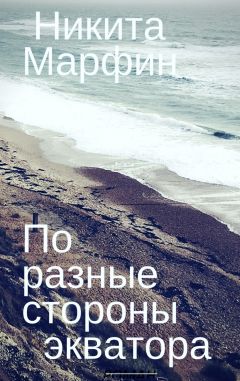
Автор книги: Никита Фроловский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
О! Кстати! Вспомнил, отчего сбился с актера на претензии к личной ситуации. Вскоре поведаю, а пока надо все-таки закончить о нем предварительный рассказ.
Кроме тайного изъяна потери природной лицедейской силы, навеки его поразившего, ведал он за собой еще один, беспокоящий его не менее первого. Он теперь не мог любить женщин, зная, что ни одна из них, если поймет правду, не сможет полюбить уродство раздвоенности. Он мог любить женщину в своих одиноких мечтах, мог возвышенно думать о ее неповторимой единственности, мог представлять себя с ней прежним, но в обоюдно-личном общении всегда чувствовал себя обманщиком, а ее дурою, и скоро начинал испытывать к ней вместо любви недобрые чувства, переходящие почти в ненависть за то, что она, не понимая, заставляла его страдать острее и удваивать усилия по скрытию недугов. Ему приходилось немедленно с таковою расставаться, пока не вышли из под контроля какие-нибудь сдерживаемые черные проявления. Не только с женщинами, но и вообще в жизни он страшными усилиями воли заставлял себя оставаться приличным и порядочным не только внешне, но и внутренне соблюдая чтимый человеческий кодекс. Однако его «мистер Хайд» всегда оставался вместе с ним и будто ждал времени, когда он ослабеет, чтобы с неконтролируемой свирепостью вырваться из него на волю и расправиться с ближайшими представителями несправедливо-здорового человечества. Он был тяжело болен, хорошо знал свою болезнь, но не видел никаких способов к ее излечению или хотя бы к ослаблению ее острой тяжести. На всем пространстве его жизненной пустыни не могло случиться ничего похожего на тот массовый сшибко-махач, разом излечивший его первых однокурсников от всех язв прогрессирующего распада и произведший в них, по лермонтовскому выражению, счастливую диверсию.
Тем временем Училище "доктор Джекил" окончил, диплом защитил и начала успешно складываться его карьера, но он теперь, в довершение к остальному, вдруг потерял к ней всякий интерес, везде болезненно видя и ощущая свою и чужую ложь. Один за другим он сменил три театра, но вскоре испытал не просто потерю интереса к выходам на подмостки, а бесконечно-неодолимое к ним отвращение. Чуть лучше чувствовал он себя в кино и даже сыграл две главные роли в средне-успешных фильмах без особых страданий за свою лживость. До других ему на съемочной площадке и дела не было, так сильно отличались люди кино от людей театра. Люди кино получались настолько толстокожи, прожженны и ни к чему не восприимчивы, умея при этом идеально и многообразно мимикрировать под любые нужные состояния, что он и воспринимал-то их не за людей, а за роботов-автоматов и общение с ними не причиняло никакой боли. Так бы он и остался в кино, но оно умерло, фильмы почти перестали снимать, по опустыненным киностудиям летали бумажки и встречи даже с неживыми душами в плохо освещенных коридорах стали редкостью и он, впрочем, безо всякого сожаления, очутился без работы.
Еще в институтские времена он приобрел комнату в двухкомнатной квартире с тихими соседями, с которыми старался не видеться. Теперь месяцами он валялся у себя на диване и том за томом читал толстенные философские, религиозные и религиоведческие труды, перебиваясь случайными радио или конферанс заработками, а то и помощью престарелых ростовских родителей. Жуткие по объему, на вид просто нечитаемые никем и никогда книги, темные по содержанию, он поглощал, как безнадежно больной в отчаянно-бесстрашном экспериментальном поиске спасительного лекарства.
Ничего подобного волшебным эликсирам не нашел он в этих ложных манускриптах, зато они несколько примирили его с действительностью и человечеством, внятно показав его не одиночество в страданиях от мучительных душевных недугов, тем самым сильно притупив неизлечимые боли и частично вернув к пусть не совсем душевно здоровым, но людям, вернее целым их многочисленным сообществам. Нет, не зря он читал чудовищные книжищи, с них началось его, не то чтоб выздоровление, но избавление от самого страшно-тупикового чувства ненормальной одиночности. Он вновь осмелел, стал спокойнее выходить к людям, заезжать на возрождающиеся постепенно киностудии и, не скрывая больше своей двойственности, а даже находя в ней личные профессиональные достоинства, начал заново интересоваться проектами, ролями и кастингами. Его помнили, но считали, не без оснований, серьезно по фазе сдвинутым, причем не как в прежние времена комплиментарно, а наоборот настороженно, когда псих означает псих, а не неповторимый талант. Психом он не являлся никогда, да к тому же от увеличивающихся посещений общественных мест вдруг почувствовал если и не полное отступление болезни то сильное ее ослабление, а в перспективе и реальную возможность изыскания действенного способа излечения. Первым делом была нужна работа и желательно хорошая, как когда-то раньше. Однако он обеднел, поизносился и не помолодел за время чтения. Знакомые, оставшиеся на плаву, отворачивались, а не оставшиеся представлялись ему самому не нужны, но не отмерший характер стал возрождаться к прежней своей силе и он решил, что пока ему сгодится любая работа, лишь бы она приходилась на поле его профессиональных интересов. Далеко не сразу, но все же рано или поздно подобного типа работа для него сыскалась.
Теперь, отчего сбился с него на личные рассуждения. Раз как-то беседовали мы с его прямопараллельным прототипом (тут я не ляпснулся и не заврался, прекрасно помня, что высокомерно объявлял такового отсутствующим, чего и сейчас не отрицаю – метафизико-диалектика, мой дорогой) об искусстве, и он процитировал мне на наши совместные сетования слова одного преподавателя, с которыми тот обращался к студентам в Училище: «В искусстве тяжело первые двадцать лет, потом легче».
Что-то еще интересное он мне то ли цитировал, то ли сам говорил, не помню. Одно время мы с ним много общались, у нас изыскивались совместные дела, мы понимали друг друга, стали настоящими товарищами. Он многое знал, пусть много и лишнего, и обладал некоторой верной проницательностью людей и явлений. Я научился у него нескольким истинам. Он меня кое с кем нужным познакомил и вообще ценил не в пример публике. На протяжении лет, что мы художественно-дружески общались, вокруг нас не раз менялись многие обстоятельства, сталкивались непримиримые интересы, возникали острые недоразумения и вспыхивали горячие конфликты, но ничего не омрачало взаимно-высокой братской привязанности. А одним прекрасным майским воскресением по обыкновению радостно встретились, гуляли, пили пиво, болтали, запальчиво спорили, зашли к нему, хохотали и вдруг сильно поругались из-за… не важно. Оскорбили друг друга, схватились за ножи и чуть было уже не выписали ими первые обоюдные горизонтальные восьмерки, начальные, как в шахматах е-два – е-четыре, приемчики улично-неспортивного фехтования, скупого и невзрачного, но коротко-эффективного. Братоубийственного столкновения не случилось, но взаимный холод проник в нас глубже тускло-сверкающей стали клинков, мы перестали быть братьями и с тех пор больше никогда не помирились.
Во мне нет сожаления и вспоминательного воздыхания о потерянном названном брате, но осталась грустная аллегорическая иллюстрация обреченного несовершенства, не знающего себя человека, близоруко принимающего за алмазную прозрачную твердость бесплотную иллюзорность небылицы о глубине и богатстве людских чувств, без следа в мгновенье плоско слизнутых первым огненным лепестком произвольной злобы.
Ой! Что же это вру я так по-черному? Ничего же такого не было, а враки из меня так и сыпятся. И его не было, и меня в реальности, лезут в голову всякие глупости, а дела заброшены и читатель, как гад Деникин, хмурится. Хмурится?! Совсем рыло-то у него не того. Господи! Вот скроил какое невиданное, что же его так разобрало? Россказни ажурные? Да, ладно. Они у нас и не к такому привычные. Чего же тогда супится? Говорить готовится, предъявы кидать? Давай, чтец! Послушаем.
Из-за..? Что это вдруг наш смелый автор стыдливо пропускает причины чуть было не потекшей реками крови небанальной братской поножовщины? Да еще хамски отмахивается от читателя бессовестной скороговоркой «не важно», отягченной предыдущим троеточием.
Лицо читателя стынет в неподвижную маску.
Вот спасибо тебе, автор! Читатель уже столь всякого насмотрелся, начитался и натерпелся и приготовился ко всякому еще большему и худшему, но никак не ждал такого откровенного пренебрежения. Пусть, положа на сердце руку, честно скажет оробевший этот автор, добрался бы он в такие дали без добросовестно-самозабвенно все дни пути, в любую погоду деля невзгоды, ночевавшего с ним под одной тетрадкой, безустанно ассистирующего иллюзорно-виртуального друга читателя? Куда там, если бы вообще решился выйти в поход в одиночестве.
Автору ужасно стыдно, он никак не может подобрать ни одного слова, а взгляд вперяет то под ноги, то по бокам, то в небо, только не смотрит на читателя и не видит, что тот ухмыляется. Читатель-то у него теперь не прежний. Сильно поднатаскался в разных тонкостях, некоторые из которых экспериментатор может и не заметить, вписывая автоматически, а некоторые и замалчивает по, на всякий случай, скрытности. Читатель совсем не собирается покидать спутника, а спектаклик отчужденности и обиды устроил автору в шутку отчасти и для усыпления бдительности, и для проверки, чтобы завершить небольшую, но тонко разыгранную партеечку козырным финишем разоблачения мотива автора.
Читатель, ему можно верить, знает, что автор бывает изощрен и простодушен, тонок и рассеян, смел или оглядчив, да какой нужно для текущей темы или подтемки такой и бывает, но любит еще для экстремального развлечения отдать перо кривой стихии и, бросив паруса и весла, и, сложив на груди руки, бесстрастным фаталистом созерцать крученые спирали и разные вычерки его, швыряемой с вала на вал и под, и над маленькой крепкой яхточки. Читатель всем этим хотел сказать, что автор… Если тут где-нибудь затесался случайно еще один читатель, то здесь он не выдержит и выкрикнет: «что? талантлив? тьфу! вот надоели!». А наш родной читатель сам степенно плюнет в сторону дурацких криков и скажет: «тьфу! Сам ты талантлив! Автор владеет нужными инструментами письма в нужных ему количествах, а в их хранилище не пускает даже читателя». Так. Еще знает читатель, что автор болезненно честен и принципиально-скрупулезно добросовестен в полноценном раскрытии всяких тайн и подтайнок и не допускает в таких случаях и безобидных небрежностей, а не то что вопиющего на всю книжку хамского безобразия «из-за…не важно».
Читатель прикидывает, если автор выдумал, зачем-то нужный ему к этому месту, рассказец о названном брате, то автоматически написал бы вместо троеточия первую подвернувшуюся под нее причину, а если бы та по каким-нибудь параметрам в текст не ложилась, то не поленился бы и выдумать. В лени его тоже не заподозришь. Значит, рассказец этот не выдуманный и автор не стал этого скрывать, а то бы, опять же, вписал вместо трех точек что-нибудь и гадай надвое. И последнее: декларативно вставил автор сюда невыдуманную историю для целей то ли усиления персонажа, то ли еще каких (здесь бессилен дедуктивъ-любитель) или, находясь в сильном душевном волнении, записал, а настоящая причина не произнеслась и он поставил точки, чтобы не застрять и не отстать от уносящейся вперед мысли.
Довод: автор на работе, а не у дамы и никаких потому сильных душевных волнений, да и не сильных не испытывает, а если испытывает, способен скрыть, а если не скрыл, то преднамеренно. Еще он способен душевное волнение сымитировать, если понадобится, да с такою силою, что сам может запутаться где выдумал, где не выдумал.
Вывод: историйка невыдуманная, фигуранты располагаются в досягаемой реальности, а то бы автор указал бы, не задумываясь, настоящую причину не случившейся поножовщины, а не может только из этических соображений. Ну и, наконец, подлинная причина многомерна, сложнообъяснима и бездубликатно-единственна.
Читатель смотрит на автора с джокондовой полуулыбкой и взгляд у него не устало-смурной от китайской грамоты смысловых горно-скальных внушительно-несуразностей, и не восторженный виртуозными виражами мастера, а спокойно-уверенный, знающий себе, новому, цену.
«Что скажете, вселюбезнейший?»– поддразнивает он автора.
Автор опять не знает, что сказать и молчит, только смотрит теперь не вверх, вниз и по бокам, а прямо вглядывается в читателя. Ишь, ты, думает, действительно поднатаскался, а виду не подавал, ходил себе этаким логиком-недоучкой Ватсоном, а сам автора выставил дурачком и посмешищем, обращавшемся по привычке к несмышленышу и в упор не заметившему, что рядом не матерый, конечно, волчище, но шибко подросший такой крепкий лобастый волчок с наливающимися мускулами и чутко приподнятыми ушками, а он ему все, как начинающему лопоухому дошкольнику втолковывает, а по большому счету воспринимает как ходящую, говорящую тумбочку, надо ж так заработаться. Пихнет его локтем, присядет на уши и давай заливать, а волчок-читатель и не слушает, свое обдумывает. Ишь, ты, думает несколько от удивления обедневший на слова и мысли автор, с тобой, значит, надо теперь ухо востро держать, глаз с тебя не спускать, а то вон во вкус вошел, чего от тебя еще теперь ждать? Ишь, ты, тьфу привязалось, ухо надо востро держать, глаз не спускать. Тут к автору, наконец, возвращается самообладание, и он спокойно думает про лобастого волчка – не спускать, так не спускать, востро, так востро, тем интереснее и уже собирается произнести вслух какие-нибудь нейтральные слова, типа «не пора ли ужинать», как, не дождавшийся похвал лобастый вдруг говорит, иезуитски растягивая слова и по-кулацки поцикивая губами о зубы:
– Собственно, я и саму подлинную причину мог бы уже назвать прямо в подробностях, все ведь на поверхности, ну, да, для ради цеховой солидарности единоэкспедишников воздержался от публичности, да и уважаю ваши, учитель, этические принципы.
И зубами этак лениво, но оглушительно – щелк!!
Ишь, ты, думает автор. Что ему еще остается.
М-да, моя прелесть! Автор сам с собой сидит на солнышке, беседует, а читатель его новый где-то неудержимо носится, практически не появляется и им не интересуется. Овец, что ли режет? Ты сер, а я, приятель, сед. Ага. Неизвестно вообще, когда он теперь покажется. Оно пока и к лучшему. Мысли разбредаются, стройность исковеркана, проверенные подходцы перекопаны. А ведь было уже все традиционно заготовлено. Милый, дорогой, любимый, единственный. Верный. Единственный. Было уже. Терпеливый, замечательный. Мы с вами, ты да я, да мы с тобой вышли через тернии к звездам, через Гоби и Хинган к завершающей презентации. Мы вместе горы срыли, звезды сбили, поля заасфальтировали, океаны выкачали, леса вырубили, шахты засыпали. А чего мы еще понаделаем! Вперед, читатель, за мной, приступаем к седьмой презентации. Седьмой!!! А он зубом – щелк! Дичает. К нему теперь и обращаться неудобно по прежнему. Читатель. Ничего себе! Надо ему погремуху-кличку выдумать. Полиграф Полиграфович. Белый Клык. Щелкающий Зуб. Ну, погоди!
Тут автор встает во весь рост, разворачивает в бодрящем потяге пропорционально широкие плечи и решительно скидывает прочь одурь бесконечно льющихся бормотаний бессмыслицы монолого-болтовни с собою обо всем. Потерял он свою единственную опору и спутника, непредусмотрительно-невовремя расслабившись, но эта драма не алиби его бездействию и опять же не повод сворачивать работы и замораживать проект-экспедицию.
К потерям автору не привыкать стать, они могут доставлять неприятности на минуты, дни или, самое худшее, месяцы, это в исключительных случаях любви, но никогда не наносящими закаленному многолетним одиночеством повествователю, никакого урона. А этот читатель-оборотень, конечно, согревал его фактом постоянного присутствия, да еще и представлял немалое походное удобство живой тумбочки, но без тепла автор проживет, а без говорящей тумбочки тем более, к тому же она стала не по рангу и чину болтливой в последнее время, забыла главную свою обязанность-функцию сбережения авторского душевного равновесия и только нервы треплет теперь, отвлекает и вообще открыла какие-то соревнования маразматические. Обойдется автор без этого самозваного олимпийца и без тепла, и без чего угодно, а все нужное у него итак есть. Автор – тотальный аскет, притом, что ничего против роскоши не имеет и ценит ее. Однако спокойно обходится без ничего и ему никто не нужен.
Где-то там, далеко выше, мы уже приспосабливали к личным, прости Господи, нуждам цитату из Апостола Павла и хотим опять позволить себе подобную вольность. « Привык жить,– пишет о себе Апостол,– и в достатке, и в скудости»,– разъясняя корреспондентам, что негоже христианину придавать какое-либо важное значение ни тому, ни другому, ничему прочему, кроме того, что он христианин.
Нехристианская досада на озверевшего читателя все же не совсем оставила автора, ввиду торжественного дня, некогда представлявшегося вместе заветной мечтой, да и надо отдать вервольфу должное, весь к сегодня путь он прошел вместе с автором бок о бок терпеливо и мужественно, приносил немалую общую пользу и заслуживает праздник не меньше самого автора. Простить его что ли? Да только где же он теперь шлындрает? Ладно, начнем пока, а там, глядишь, и подтянется ускользнувший люпус. И образумится?
П р е з е н т а ц и я н о м е р с е м ь, д о л г о ж д а н н о з а в е р ш а ю щ а я с м е ш а н н– ы е, в ы ч у р н о-с т р у я щ и е с я м е ж д у н е н а с ы т н ы м и о т с т у п л е н и я м и, у з о– р о ч н ы е к а с к а д ы р а с с е я н н о-в е т в и с т ы х о п и с а н и й и в е л и ч а в о-р а з б р о– с а н н ы х п р е д с т а в л е н и й.
Да, конечно, несомненно, некоторых мелких успехов она только и добилась благодаря неутомляемой силе авторитарной мамы.
Последний год мама ее мучительно раздражает все больше, а временами исступленно-слепо бесит, но она подавляет омрачающий гнев и ничего еще вслух не сказала и, надеется, не обнаружила необоримо охватывающих ее злых темных чувств.
Сама мама за последний год как раз поуспокоилась и нехарактерно затихла. Правда, все равно без мамы не решается ни один крупный, ни пустячный, ни бытовой, ни рабочий, ни личный вопрос.
Так вот, она считает, что мелких только и добилась «благодаря» маме, а та считает, что хоть чего-то добилась только благодаря ей. Противоположные толкования семейной формулы ими не обсуждались, но она итак знает, что у мамы на уме, да та и не скрывает в отличие от дочери своих мнений, так лишь, явно не выражает, но ее дочь видит, что успехи мелкими считать мама по определению не может, ведь это мамины целиком успехи. Она маму всегда-всегда побаивалась и вплоть до последнего времени. И сейчас побаивается. Только раньше боязнь имела некий священный окрас, ведь они вместе трудились над ее ростом в высокообразованную, высокоорганизованную, выдающуюся личность и вроде бы не маму она боялась, а предать их союз, убежденная, что, огорчив матушку ленью, недисциплинированностью или хоть в чем-нибудь ординарностью, просто убьет ее. А теперь светлые и сердечные чувства в одночасье трансформировались в противоположные, и доказуемы прежними же подтверждениями святых антиподов, контрастно высветившихся скрытной стороной от незначительного внешнего толчка-щелчка, разом переключившего груз копившихся смутных сомнений-сопоставлений и внутренних неудобств во всепожирающую уверенность.
Теперь она боится именно маму, ведь та ее умнее, сильнее, практичнее и резче, а она без нее не умеет толком оценить ни людей, ни события, ни даже простенькую новость из компьютера или телевизора. Да что там? Жить она без нее не может, шагу ступить оказывается.
Мамаша, она теперь иногда уже спокойно звала ее про себя так, но изредка же все еще вздрагивала, ужасаясь преступной циничности наименования святого, самого близкого человека, но, вдруг вспомнив, что все наоборот, думала опять с аффектированным удовольствием: мамаша! Мамахен! И, несмотря на то, что это были ужасные слова, все же они обозначали родное существо, а ей все чаще думалось гораздо страшнее, как о чужой: «она». Она, мамаша, как будто вовремя не отрезала, как положено, пуповину, а наоборот, воспользовавшись младенческой неразумностью, проращивала новые отростки и прививала дочь к себе, свивая все более толстеющую жгутовыми сплетениями безысходную неразрывность.
Есть еще, конечно, отец, но как будто его и нет. И никогда не было. Нет, они с мамой не в разводе и даже никогда формально не жили раздельно, но отец всю жизнь пропадает в длительных разъездах по разным городам и заграницам, а если дома, пропадает неделями по театрам, где делают по его эскизам декорации и костюмы, или по новым кафе и ресторанам, чьи хозяева заказывают ему полный дизайн, от оформления интерьера, до формы столов, стульев, вилок, цвета салфеток и одежды персонала. Он, с тех пор, как она его помнит, практически всегда и по сейчас занят. А если не занят и не в отъезде, дома все равно можно сказать не бывает, а торчит в своей громадной мастерской то ли работая, то ли читая бесконечные книги, но, скорее всего, принимая многочисленные компании нелюбимых мамою знакомых.
Маленькую мама ее туда не пускала, а выросши, она сама уже туда не рвалась, чувствуя себя чуждо и неуютно среди множества полупьяных, пылких и липких, не похожих на нормальных, людей в режущей глаза несопоставимыми цветами и формами одежде, с угловатыми жестами, натужно-вольными манерами и сиплыми голосами, свободно выговаривающими красными и серыми ртами, не стесняясь ни детей, ни женщин, грязные словечки.
Женщины там, правда, и сами отличались не особой чопорностью, а шумливой вздорностью и даже старались перещеголять мужчин в напускной развязности.
Для них с мамой, их всегда трудового в непрестанных занятиях распорядка, они и не отдыхали-то никогда – мама приучила ее, что отдых это не тупое сидение или валяние, а наоборот активное переключение – набор внешних неблаговидностей отца и его друзей символизировал необратимые метастазы внутреннего распада и железным занавесом отчеркивал брезгливую неприемлемость общения.
Причем, они с мамой вовсе не являлись сектантами в синих чулках с замотанными в паранджу бритыми трясущимися головами. И они, и к ним ходили в гости, пили вино и пели, как все нормальные люди, песни, шутили и хохотали, дети визжали от беготни и счастья, женщины позволяли себе шептаться по углам, двусмысленно округляя глаза и втягивая щеки до превращения губ в трубочку, а мужчины курить, выходя на кухню или лестничную площадку, и (о, ужас!) в разгар многолюдных горячих праздников позволяли себе снимать пиджаки и ослаблять узлы галстуков, а особо буйные, войдя в раж, и неутомимо гоняться за разбегающимися в восторженном азарте жути детишками со слоновьим топотом и безаналогичным по громкости и составу свирепости рыком, заодно слегка запугивая со-гостей и соседей.
Но ни от кого здесь (да и нигде, пусть и в отсутствие детей и женщин) было невозможно услышать, справедливо недопускаемых в традиционные словари, зловонных звукосочетаний, должных быть лишенными почетного звания слов и выражений, зловредное достоинство мерзко разговаривать коими огульно приписывается лживыми черными филологами поголовно нации под фальсифицированной этикеткой всеобще-присущей народной лихо-удали.
Никто из присутствующих на их с мамой праздниках и в гостях куда они ходили не носил чересчур узких или слишком широких штанов, во всех случаях бесформенно уродующих лишенных даже подобий осанки червеобразно-истонченных кривых фигур или червеобразно же расплывшихся, как осевший, но не лопнувший нарыв, покрытых взлохмаченными курточками из тканей и кож, годных лишь на одноразовые костюмы к Хеллоуину.
Женщины не бегали в первобытнообщинных молотобойно-каблучных псевдотуфлях, страхолюдно изламывающих по всем кривым итак несовершенные ноги, едва прикрытые под видом юбок попугайно-пепельными тряпками, распаханными от пупка до крестца и по внешним и внутренним вкривь и вкось бедрам.
Ни один из гостей не маялся в зазорном одиночестве вдоль дорого крашенных всеми известными, но гуще безызвестными абстракционистами десятилетиями стен, отчаянно взбивая неприглядно-редкие волосяные перья над заношенным лицом в пародийную медузность, испуская вдохновенные миазмы мелко-гнилых без разницы и очередности восторженных и сожалительных аханий.
Сейчас, уже совсем, на ее взгляд, повзрослев и так разочаровавшись в маме, попыталась она взглянуть на отца по-другому и установить-восстановить с ним близкие отношения. И не смогла. Слабый он. Без мамы ей совсем не за что оставалось на свете зацепиться. Выяснилось, что нет у нее настоящих ни подружек, ни кавалеров, но папа оказался не опора.
Таня начала постепенно, но с увеличивающейся быстротой разочаровываться в маме примерно, как выше уже говорилось, год назад, когда познакомилась с одним молодым человеком.
Г л а в а В о с ь м а я.
Знакомство случилось на каком-то полуроскошном-полуофициальном приеме. Таня стояла в обширной зале с цветно-наборным паркетным полом, декорированной поддельными, но очень милыми колоннами и освещенной громадной, в полпотолка, сверхлюстрой с миллионами сверкающих всеми огнями разнообразных полудрагоценных висюлек и цацек. Бокал с шампанским, Таня попробовала – вкусное, еле-еле слышно скворча пузырьками, холодил ладонь. Таня всматривалась в стайки-компании в вечерних нарядах и костюмах, легко, как сухопутные фигуристы, скользящих по матово-отсверкивающим дощечкам паркета в самых замысловатых траекториях. Некоторые гости попадались ей знакомы, некоторые только лицами. Таню пока ничего не вдохновляло.
Тут откуда ни возьмись вдруг прямо на нее набежали чьи-то, плохо помнимые ею, знакомые, и со старта, еще не достигнув ее, уже затараторили что-то чрезвычайно приветственное. Таня улыбнулась и вежливо, приветливо тоже отступила, но, как совсем начинающий автомобилист, который принципиально смотрит не в ту сторону куда едет, чувствительно налетела на оказавшееся позади большое и крепкое и, как вскоре выяснилось, живое препятствие. Сама она даже не облилась, а вот молодой человек, оказавшийся позади, облился весь – Таня сумела одновременно и наступить ему на ногу, и, не глядя, метко и действенно ткнуть под локоть.
Она повернулась, осмотрела подвижной камень преткновения и стыдно ей не стало, а только смешно, потому что молодой человек оказался слишком хорош, а те знакомые знакомых, что спровоцировали столкновение, помельче и они в ужасе от наделанного незаметно-мгновенно, будто и не к ней стремились, а мимо, растаяли, видимо, чтобы, по лермонтовскому выражению, не быть замешанными в историю. Однако молодой человек их вовсе не заметил и ни капельки не смотрелся серьезно расстроенным душем из собственного шампанского, а только слегка озабоченно поставил пустой бокал на поднос вовремя вынырнувшего белокостюмного официанта и рассеянно счищал с себя бумажной салфеткой брызги шипуче-торжественного напитка.
– Извините,– сказала Таня смирно-смущенно с виду, но как бы давая понять, что готовая к отпору.
Облитый красавец уставился на нее с необидной наглостью и несколько преувеличенно забыл обо всем на свете. Однако ничего противного в этом легком наигрыше не проявлялось, а лишь насмешка над собой-неудачником, знакомящимся с такой чудесной девушкой в наиболее плачевном виде, сразу перечеркивающим своей вопиющей антиэстетичностью всякие надежды и шансы.
Таня знала себе немалую цену, но и нелишне польстил ей искренний большей частью взгляд высокого и пропорционального, симпатичного молодого незнакомца.
Быть может иногда мы называем именно это любовью с первого взгляда, когда двое в первые мгновения знакомства приятно-неожиданно узнают друг-друга, как нечто безнадежно-давно искомое и неясно-несбыточно мечтаемое. Ничего еще не известно, даже не названы имена, но между парой уже чиркнула искра интересо-доверия, способная безоглядно-быстро распалиться до счастливых и нервных стихий неудержимо-романтических порывов.
Тут у него в кармане затрезвонил простыми приличными звонками мобильный телефон, а ей сразу стало досадно и неприятно, что вот наверное звонит ему какая-то. Кто такая? Тане захотелось себя высмеять за оперативно-скоростной хищнический инстинкто-выпад и не получилось. К счастью, у нее в сумочке у самой в этот критический момент еще более приличными, старорежимно раскатисто-внушительными трезвонами, как с древних черных аппаратов первых наследников Дзержинского, стал заливаться смартфон. Пригодилась мама – вовремя позвонила. Таня отошла и все равно в таких выражениях, чтобы осталось непонятно с кем говорит, быстро от мамы отделалась и как ни в чем не бывало естественно шагнула обратно, так и не поняв, говорил ли он по телефону или наблюдал за ней, но цепко-радостно заметив, что и он, не сомневаясь, двинулся ей навстречу.
Двое участников столкновения разговорились легко, тем более, что ко всему прочему довольно близко совпали вдруг у них и профессиональные интересы, если, конечно, его можно было назвать профессионалом, а не профессиональным бездельником-мечтателем. Неутомимым строителем воздушных замков на истончающемся слое драгоценного песка из опустошающейся кладовой прежне-прошлых семейных накоплений. Истончающемся и все чаще трескающемся прорехами и полыньями, открывающими подлинные непросматриваемые глубины серо-сырых пластов жестко-слежавшейся жизни.
Таня сочиняла в толстые глянцевые журналы и в интернет-издания колонки и материалы, а Олег вообще оказался главным редактором своего собственного журнала, название коего ничего ей не говорило. Это обстоятельство уравновешивала непобедимая молодость, а для такого объемно-внушительного начинания так просто отрочество-юность вкратце обрисованного Олегом журнала.
В шутейно-хлестаковской манере описав свои титанические усилия, заслуги и достижения, он немедленно предложил Тане написать любой на ее усмотрение материал на нужное ей для полного раскрытия темы количество знаков, пообещав заплатить за каждый, как в самых лучших и богатых изданиях. Не в материале, конечно, заключалось дело, но ей все равно стало интересно и жгло слегка устремление к административно-художественным свершениям, тем более, что Олег, во всем остальном безупречный, рассуждая о своем и чужих журналах и вообще о журналистике, показался зеленым лопушком-латуком, бессистемно нахватавшемся самых беспонтовых верхушек.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































