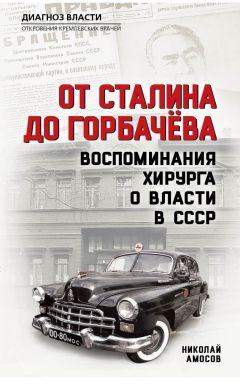
Автор книги: Николай Амосов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Зиму 1933–34-го мама прожила у своего брата, дяди Павла, начальника НКВД Чувашии, в Чебоксарах.
Местные врачи поставили диагноз: подозрение на рак. Оперировали: опухоль удалить невозможно. Скрывали от больной, но она все равно поняла, хотя виду не показывала.
Я приезжал в конце марта всего на несколько дней. Познакомился с бытом начальников: жили богато, по моим тогдашним стандартам, по современным – скромно: три комнаты, кухня, ванна. Прислуги не было. Дядя сам выносил во двор ведро с мусором. Не знаю – фасон или демократизм?
Изредка вели с ним разговоры: признал меня взрослым.
Я рассказал, как меня вызывал следователь. Он спросил напрямую:
– Не предлагали сотрудничать? Не говорили: «Кругом враги, нужно чекистам помогать»?
– Нет. А что это значит?
Тогда я еще был стерильный по этой части.
Дядя объяснил. Назвал даже термин: «шкапной сексот».
– Отказывайся наотрез. Ничего не сделают, а то попадешь к нам в лапы, так и будешь жить обосранный.
Обстановкой в стране был недоволен. Делал намеки в адрес Сталина, но не уточнял. Он первый зародил во мне антипатию к вождю.
К маме, конечно, относились хорошо, но все равно она чувствовала себя в гостях и тосковала. Сидела в своей комнатке за кухней, такая жалкая, исхудавшая. Плакала украдкой. Даже сейчас сердце сжимается, как вспоминаю.
Уехал с тяжелым сердцем. Нужно было работать, и, кроме того, ждала Галя. Женитьбу скрыл.
С приходом весны мама сильно затосковала по родным местам, и Маруся привезла ее в Ольхово. Сама нашла работу в Череповце и приезжала по воскресеньям. За больной ухаживала тетка Евгения, «бабы» ее навещали, молодая акушерка приходила, рассказывала, советы спрашивала.
Заочный институт. Авантюра с университетом. Похороны мамы
Очень хотелось учиться. По закону нужно отработать три года, чтобы поступить в вуз. Не было терпения ждать. Весной 1934-го выдержал контрольные испытания во ВЗИИ – Всесоюзный заочный индустриальный институт в Москве. Энергетический факультет.
Но меня прельщала не инженерия, а теоретическая наука с уклоном в биологию. Изобретательство только увлечение. Университет! Вот куда хотелось. Выбрали – Ленинградский.
Галя увлеклась идеей об институте и активно готовилась к экзаменам. Подали заявления на биофак.
Но были сложности. Мама тяжело больна. Я обязан ей помогать. Где взять деньги? Можно для начала продать книги, а потом буду подрабатывать.
По дороге в Ленинград мы с Галей заехали в Ольхово. Маме не сказали, что уже полгода женаты, будто «невеста». Она делала вид, что поверила. До сих пор стыдно за этот визит. Разве можно давать такую психическую нагрузку умирающей матери? Наверное, она все понимала. Черствый человек, Амосов.
В университет давал адрес Ольхова, а вызова на экзамены все нет и нет. Седьмого августа поехали, не дождавшись. Оказалось – недоразумение. Экзамены в разгаре. Допустили, но нужно в большом темпе наверстывать, и конкурс огромный, а служащих принимают в последнюю очередь. Самое главное – книги не покупают. Носился со своим списком по букинистам, магазинам – напрасно: «Своих много». Хоть плачь. Отправил обратно.
Все рассыпалось. Поступать в университет не решились. Галя поехала в Архангельск и сходу выдержала экзамены в мединститут, он открылся за два года перед этим.
После неудачи в Ленинграде я один вернулся в Ольхово, чтобы побыть с мамой. Там и закончил свой отпуск, недели две прожил. Один разговор стоит в памяти:
– Если женишься, будь верным мужем. Знай, что женщина страдает неизмеримо больше, чем мужчина. Помни мою несчастную жизнь, удерживайся.
Этот завет мамы не исполнил – разошлись с Галей после шести лет брака. Правда, по взаимному согласию, без детей и обязательств.
Однако всегда помню мамины слова о женской доле страданий при семейных неприятностях. Старался их уменьшить. Чем? Увы, нарушением заповеди – тайной.
Не знал, что прощаюсь навек: мама умерла через три недели.
А жизнь продолжилась, как и не было летней авантюры с Ленинградом. Принял смену и начал работать. Жена – студентка, стала каждый день ездить на занятия в этакую даль: трамвай, переправа, автобус. Бывало, вечером жду, жду:
Маруся прислала телеграмму: «Мама умерла». Ничего не добавила: обида тлела – ей пришлось ухаживать за мамой, не мне.
Путь неблизкий, прибыл в день похорон.
День четко отпечатался в памяти: яркий, осенний, северный. Красные ягоды на наших рябинах: на одной как киноварь, на другой – слегка оранжевые. Было тепло, окна в доме открыты. Во дворе и в комнате полно женщин, многие с детьми. Подумалось: всех их она первая подержала в руках. Но разве кто-нибудь знает о той акушерке, что помогала нам появиться на свет? Увы, даже учителей забываем. (А иные – и родителей.)
Слез не было. Обстановка тормозила чувства. Мама лежала в гробу, почти не узнать. Не фотографировали, помню только живой.
Скоро ее понесли на кладбище. Долгим показался этот путь через село. Мужчины всю дорогу несли гроб на плечах, женщины голосили. За четверть века каждая приносила к Кирилловне свои горести и беды, не говоря уж о болезнях.
Много было народа на кладбище, как на пасху.
Хоронили без священника, мама не обратилась к богу. Музыки в Ольхове тоже не было. Председатель сельсовета сказал несколько чувствительных неумелых фраз, и под плач женщин сосновый гроб опустили в могилу, рядом с бабушкой Марьей Сергеевной.
Венков в Ольхове не делали, цветов тоже не растили в палисадниках. Поминок не было.
Горе охватило, когда вернулись домой с кладбища. Домик пуст. Кровать убрали, чтобы поместить гроб. Но будто еще витает дух мамы в каждой вещи. Слезы полились, и долго не мог их унять.
Все! Будто исчезла некая страховочная веревочка, за которую уже не держишься, но всегда можно схватиться, если начнешь падать.
Переночевал одну ночь. Не смел прикоснуться к ее вещам, но утром наткнулся на старую клеенчатую тетрадку. Вижу: что-то вроде дневника. Мысль: «Нарочно оставила на виду?» Нет, хитрость ей не свойственна. Возможно, перечитывала перед смертью, а спрятать уже не было сил.
Не стал читать, не смел касаться. Только взглянул мельком на короткие записи от времен войны. Резнули по сердцу. Горе, тоска по мужу, придирки свекрови, приставания мужчин, болезни Коленьки, долги, долги от жалования до жалования: «Нет, пусть полежит». (И до сих пор не могу себе простить, что не взял с собой: дневники пропали.)
Увольнение. Мединститут
Вернулся с похорон и начал усиленно заниматься в заочном институте. За один семестр прошел весь курс высшей математики и сдал ее в зимнюю сессию при учебном пункте в лесотехническом институте. Восемь часов длился экзамен – по разделам. Вышел чуть живой. Не скажу, что знал блестяще, но на «четыре» – честно. Шутка ли, всю математику зараз. Очные студенты учат полтора года.
В декабре 1934 года убили Кирова. Помню, что услышал об этом из уличного репродуктора, когда шел на ночную смену. Трудящиеся возмущались. Клялись. Тогда еще не знали, какие последуют гонения на интеллигенцию.
Но с января отменили карточки и на заводе появился белый хлеб. Мы – на севере – не пробовали его лет пять. Сначала стояли большие очереди.
Весной сдал физику, термодинамику и какую-то из общественных дисциплин. У Гали тоже были хорошие оценки. Она оказалась толковой.
Однако заочный институт меня не устраивал. Электростанции изучил, быть главным инженером не собирался. Нужно учиться по-настоящему, чтобы для науки. Кроме того, было важное обстоятельство – призывной возраст. В армию люто не хотел.
Только университет! И не меньше.
На этот раз выбрал МГУ. Вызвали на экзамены, приехал, поговорил в приемной комиссии. Огорчили:
– Вы служащий. Будут все пятерки – пройдете, нет – значит, нет.
Уверенности не было, и армия маячила на горизонте. Забрал я, несчастный, документы и вернулся в Архангельск. Благо комната еще осталась пока за нами. Пришлось поступать в медицинский. Выдержал на пятерки, приняли.
Рассчитался в конторе. Простились хорошо. Предлагали возвращаться. Сдал комнату, и переехали в общежитие института. Галя – в женское, я – в мужское.
Так кончилась производственная работа. Впрочем, не совсем: весной и летом подрабатывал на старой должности в ночные смены и делал чертежи.
Когда начинал вспоминать, думал, напишу чуть-чуть, самое важное, не для биографии (ординарная), для понимания людей, жизни и себя. Получилось много. И еще не все.
«Дело о вредительстве» на заводе все-таки создали в 1937. Директор Леготин построил лесопильно-целлюлозный гигант на голом болоте, довел его до толку и загремел на много лет. Из наших станционных арестовали главного механика Марченко, но, слава богу, через полгода выпустили. Очень боялись ареста мои друзья – Ленька и Толька, они работали на скользких местах: механизмы ломаются, завод простаивает, ущерб экспорту – вредительство запросто можно придумать. Но пронесло. Оба были членами партии, но это не спасало тогда, скорее наоборот.
Экзамены. Два курса за год
Что такое был тогда наш Архангельский институт? За два года до этого его создали на голом месте. Дали два старых двухэтажных здания. Прислали из Москвы кандидатов для заведования теоретическими кафедрами. Теперь оглядываюсь назад: хорошие получились профессора. Ассистенты молодые, после года аспирантуры в столице, «неостепененные». Но зато полны энтузиазма. Оборудование кафедр? Понятное дело, электроники не было, так где она тогда была? Зато трупов для анатомички сколько хочешь: много беглых крестьян помирали, хоронить некому, только возьмите. Когда мы пришли учиться, был уже первоклассный анатомический музей: попался хороший профессор и отличный энтузиаст-препаратор из сосланных интеллигентов.
Больницы, где учат студентов, тоже были не так уж плохи. Что больные часто лежали в коридорах, так и теперь их встретишь там же.
Вот с общежитиями было очень плохо – двухэтажный барак на улице Карла Маркса переполнен. Новое здание не достроено. Поэтому нас временно поместили в большую комнату в помещении, примыкавшем к анатомичке. Ходили через коридор, где в пол врезаны огромные бетонные ванны, очень глубокие, в них плавали трупы. Тот самый служитель-препаратор будто нарочно вытаскивал и перекладывал свое хозяйство. Лежали груды рук и ног. Запах формалина разъедал глаза.
В этом общежитии я встретил Бориса Коточигова, с которым дружили потом тридцать лет – до самой его смерти. Он был мой ровесник, и жизненный опыт похожий – девятилетка с педагогическим уклоном, учительство в начальной школе. Даже мать у него сельская акушерка. Борис тоже был «читаль», пожалуй, глубже образован и вообще был умнее меня, хотя ученая карьера его в последующем остановилась на доценте. Мы сошлись сразу, еще экзамены шли, а мы уже ходили вечером по набережной Двины и вели разговоры о литературе и о политике. Он мне многое рассказал. «Сродство душ», как раньше говорили.
Странную вещь поведал о себе. Он таки побывал тем «шкапным». Его завербовали на идейной почве: был большим комсомольским активистом и очень убежден в коммунизме. Вот его и попросили помогать.
– Это ваш гражданский долг!
Нет, никаких врагов народа Борис не нашел, долг не исполнил, но очень скоро люто возненавидел НКВД и понял, что попал в сети. Он был резкий человек – Борис. Поссорился с хозяевами, не испугался угроз, дал расписку о молчании и уехал в Архангельск. Но опасается, что припомнят. Меня предупредил:
– Если что случится со мной, знай: «достали». Но ты не беспокойся.
Потом его доставали несколько раз: студентом из комсомола исключали, с партией ссорился на войне. Но не посадили. Был истинный борец за справедливость и идеи социализма.
Я не беспокоился, что продаст. Очень любил его и уважал. Царство ему небесное. Это к слову.
Экзамены мы с Борисом выдержали, были зачислены в группу, его назначили старостой, меня выбрали профоргом.
Первые лекции не вызвали волнения – одну скуку. Помню, так хотелось спать, что соседа просил: «Толкни». Месяца два привыкал. Занятия казались легкими. Угнетала только зубрежка. Но ничего, освоил технологию.
Месяц прожили в той комнате позади анатомки, потом открылось новое общежитие, и мы с Борисом попали в комнату на шесть человек – кровать к кровати. (Кровать с сеткой – первая в моей жизни, раньше на досках спал.) Компания в комнате попалась плохая. Вечер спят, ночь зубрят в голос, не уснуть. Уши затыкал хлебным мякишем. Все вернулось «к истокам», к общежитию на «прорыве». Только народ хуже.
Галя жила на улице Карла Маркса. Семейная жизнь в таких условиях – дело трудное и неприятное. Супружеские дела вершили в бане, там были отдельные номера и дешево. А что делать? Стыдно, банщики смотрят косо. Не будешь же свидетельство о браке показывать. Но любовь еще горела, поэтому не жалел о холостой жизни.
Самолюбие задевало, что жена учится на курс выше, но она превосходство не показывала. У меня уже были полтора курса в Заочном институте. Гораздо хуже – дела денежные. Стипендия 80 р., обеды – в студенческой столовой, завтраки и ужины – «из тумбочки»: хлеб, кружка кипятку – титан всегда кипит. Без заварки, разумеется. Я-то педант. Все продукты были рассчитаны, сколько калорий на копейку, но и то отощал до 54 килограммов. На маргарин хватало, а на масло нет. Но Галя любила одеваться, что-то ей было нужно купить. Хорошо, что Маруся стала посылать по 50 рублей в месяц, пока я не начал прирабатывать.
Заниматься было легко. После заочного института вся эта медицинская зубрильная наука казалась пустяком.
Проучился два месяца и заскучал. В это время случилось событие: стахановцы появились. Выполнение двух или больше планов. Как раз для меня:
– Даешь два курса за год!
Тем более что учились в две смены, второй курс днем, первый вечером. Пошел по начальству: директор отказал, но заместитель, Седов, разрешил, если профессора второго курса согласятся. Всех обошел, похвалился зачеткой из Заочного института, и они согласились. Тогда Седов благословил:
– Давай. Но условие: без троек, практические занятия не пропускать на обоих курсах, а на лекции – как хочешь.
Разумный человек, спасибо ему.
Так начался мой эксперимент. Сильно вдохновился, занимался как проклятый, с утра до десяти вечера – институт и библиотека.
Отличная областная библиотека была в Архангельске. Несчетные часы там проведены.
На втором курсе пристроился в группу к Гале. Сначала косились на «выскочку», потом привыкли, вел себя скромно, не высовывался.
Первая задача в зимнюю сессию – сдать анатомию и гистологию со вторым курсом. Оставалось всего два месяца вместо полутора лет при нормальной учебе. Нужно вызубрить, и найти на трупе около 1500 анатомических «пунктов». Пришлось сильно жать.
Днем ходил на занятия второго курса – на физиологию, биологию, политэкономию. Слушал лекции, которые интересны, на скучных занимался своим делом, учил. Ассистентом по физиологии была Мария Григорьевна Седова. Она же и кружок вела, очень интересно. При том – красивая женщина: помню ее грустный взгляд и пепельные волосы. Анатомичка Серафима Ильинична тоже красивая, но хромала. Они обе болели за меня при экзаменах. На женщин поглядывал Амосов.
Дело с продовольствием неожиданно быстро улучшалось. Денег только не было. Подрядился обслуживать электричество в общежитии за 25 р. Поздно вечером, после библиотеки, чинил поломки, менял лампочки.
Сессию сдал отлично.
Второе полугодие было уже легче. Начал увлекаться физиологией, читать и думать о теориях мышления, о регулировании функций. В начале 1936 года умер Иван Петрович Павлов – ученый герой моей юности. Весной того же года не стало Горького – тоже моего любимого. Газеты и радио трещали об отравителях, арестовали врачей Левина и Плетнева. Мы с Борисом не верили ни одному слову – сволочи!
Отношения с Галей периодически обострялись. Сказывалась раздельная жизнь и бедность.
Весной стал подрабатывать на станции – заменял отпускников. Приятно было вернуться в прежнюю стихию. Хороши июньские ночи, когда после вечерней смены в белую полночь возвращался домой в город.
Помню: заработал 250 рублей. Как раз для каникул.
Весенние экзамены хлопот не доставили – шли спокойные пятерки. По окончании года премировали именными часами. Они мне служили до середины войны. Когда был студентом, немножко баловался ремонтом часов. Еще сам сшил себе брюки, перелицевал костюм, по бедности и для интереса. Швейную машину Галя привезла в приданое.
«Другая физика». Квартира
В ту первую зиму я познакомился с Вадимом Евгеньевичем Лошкаревым. Его сослали в 1935 году из Ленинграда от академика Иоффе будто бы за спиритизм. Возможно, так и было, врага народа упекли бы в лагерь. А тут даже на кафедру, к молодому поколению допустили. И две комнаты выделили.
Пошел к нему сдавать физику без подготовки и получил «четыре», стыдно для меня, просил о пересдаче. Тогда же начал мудрить с искусственным сердцем. Выдумка ерундовая, но идея логичная. Теперь на принципе такого насоса создали протезы сердца, некоторые работают уже по несколько месяцев, пока донора для пересадки подбирают. Чертеж показал Вадиму Евгеньевичу, он одобрил и пятерку в зачетку написал, не спрашивая.
Сердца я не сделал, но знакомство состоялось. И след – на всю жизнь.
Летом его жена уехала, остался один (невыездной), скучал, наверное, и пригласил зайти, «попить чаю». Пришел, потом еще и еще. До утра просиживал.
ВЕ открыл мне мир «чудес»: спиритизм, телепатия, телекинез, левитация, полтергейст, йога. Советское воспитание и жестокая цензура скрыли от меня все эти вещи, давно известные культурным людям. Сам он участвовал во многих сеансах и верил абсолютно.
После ВЕ я интересуюсь этим всю жизнь. Но доказательств истинности так и не получил. Много раз в Отдел кибернетики приглашали «экстрасенсов»– ни разу они не показали того, чего обещали. Но и совсем отвергнуть не могу: очень уж много свидетелей и публикаций. Понять тоже не могу. ВЕ называл это «другая физика». В Киеве мы с ним встречались снова, но прежней близости уже не было. Во все эти феномены он продолжал верить.
Итак, пошел второй год учения, сразу на третьем курсе.
Каникулы прожили вместе, понравилось. Поэтому нашли квартиру в деревне, по дороге на завод, за три километра, платили 50 р. Хорошая комната, с мебелью, с видом на реку Кузнечиху. Только далеко и дорого.
На саночках по первому льду перевезли вещички и зажили по-новому. Пищу готовили по очереди. Концентрат «Суп-пюре гороховый» и немного мяса, кастрюля на три дня. Обедали вечером.
На третьем курсе началась настоящая медицина: клиники, больные. Нагрузка совсем пустяковая. Ходил в дирекцию, просился еще раз перепрыгнуть через курс, не стали слушать:
– Нужно видеть много больных.
Может быть, и логично, но тогда жалел.
Процессы. Арест дяди Павла. Сталинская конституция
Заскучал от недогрузки. И сделал ложный шаг: восстановился в заочном институте. (Годом раньше был исключен за невыполнение заданий.) Не стоило этого делать, увлекло совсем в сторону, потребовало массу времени. Лучше бы занялся наукой у ВЕ.
Моя техническая специальность называлась «паросиловые установки для электростанций». Дело знакомое. Мог бы институт кончить без большого труда. Но увлекла новая идея: спроектировать огромный аэроплан с паровым котлом и турбиной. Он забрал больше времени, чем сам институт или, к примеру, диссертация.
Теперь все время отдавалось технике, а точнее проекту. Медицина изучалась между делом. Я нормально посещал занятия, но на лекциях считал на линейке свои проекты, слушая одним ухом. Сессию сдавал досрочно, потом ехал в Москву, в заочный. Кроме того, подрабатывал преподаванием в фельдшерской школе. Научился говорить, в будущем помогло.
Но самая беда – это «проект». Сколько пришлось перечитать, передумать, сколько сделать ложных расчетов. Понадобилось учить не только теплотехнику, но и аэродинамику. Теперь, когда вспоминаю, удивляюсь, как потерял чувство реальности. Я же всерьез рассчитывал спроектировать самолет, «который полетит». А ведь был уже неудачный опыт с машиной для укладки досок. Но не будем жалеть тех трудов. Они дали хорошую тренировку для мозга.
Весной 37-го года нам с Галей дали комнату в общежитии на улице Карла Маркса. Там и прожили до самого развода в 1940 году.
Еще на третьем курсе семейная жизнь дала первую трещину. Сначала я приревновал без должных оснований, потом сам стал захаживать к нашей старосте, Леле Гром. И тоже вполне невинно.
Внешне мы жили очень мирно. За все время брака была одна большая ссора. Как всегда в таких случаях – винят партнера. Не помню даже повода для громких слов, Галя замахнулась утюгом, и тогда произошло ужасное: я ее ударил ладонью по спине. Одумался моментально. «Что ты сделал!» Стыдное ощущение в ладони чувствую даже теперь. Оно и уберегло от повторения на всю жизнь.
События того времени: процессы врагов народа (Бухарин, Рыков) и выборы в Верховный Совет.
О, как возмущали эти судебные спектакли на кремлевской сцене! Чтобы пасть так низко героям-революционерам! Тем и другим – обвинителям, то есть Сталину, и жертвам, бичующим себя. Мы с Борисом не верили ни одному слову. Только спрашивали: как это возможно? Пытки? Но процессы – публичные – объяви, пожалуйся! Лион Фейхтвангер («Москва 1937») свидетельствовал: «Отлично выглядели, никаких следов избиений». Вера в коммунистов окончательно рухнула. Всю жизнь носил в душе эту занозу антипатии и презрения. Нет, Амосов, будем точны: кроме короткого периода 42-го года во время разгрома немцев под Москвой. Но даже тогда не славословил Сталину и коммунистам. Ничего не подписывал, когда клеймили академиков и писателей, не выступал на собраниях.
Но ведь молчал, Амосов? Против – только на кухнях. К диссидентам не примкнул. Так что давай не будем.
Нет, не будем. Объяснение? Рассудочность: рано научился оценивать человеческую природу, рассчитывать за и против, шансы на успех движений, сомнительность идей.
Впрочем, не стану оправдываться:
«Трусоват был Ваня бедный!»
Не настолько, чтобы предавать, но достаточно, чтобы не бросаться в драку. Всегда жалко было потерять любимую работу. Полезность ее для людей не вызывала сомнений. Впрочем, и эти слова – не для героев.
Закроем эту тему. Пока закроем.
В том же 37-м, в июне, во время экзаменов в Москве, получил телеграмму из Горького от Маруси: «Приезжай немедленно». Тут же поехал в полном неведении.
Приезжаю и узнаю: дядю Павла арестовали. Два дня назад.
Вот оно: настигло и нас. Прожил в Горьком два дня. Хорошая квартира, беспорядок, следы обыска.
Жалко дядю, жалко тетку, сын у них Сережа, 15 лет, балованный.
И тут же мысль на задворках сознания: «За все нужно платить. То сам арестовывал, теперь – тебя». Мне всегда казалось, что дядя – чекист гуманный, но умом-то знаю: не бывало таких! Поэтому и острой жалости не было. Или от черствости?
Тетку, слава богу, не тронули. Она переехала в Ярославль, к сестре, и там дожила до смерти. Дядю расстреляли, а после – реабилитировали.
Надо заметить, что Архангельск тогда дешево отделался, если сравнивать, например, с Украиной и Москвой. Интеллигенцию не тронули, посадили партийную верхушку, директоров заводов.
Чуть пораньше, будто в насмешку, родилась социалистическая демократия: «царь дал манифест» – Сталинскую конституцию. В декабре 1937-го были выборы в Верховный Совет. Я даже был в театре на выдвижении кандидатов. (Борис меня свел, он был в комсомольском активе.)
То еще было зрелище!
Первым кандидатом везде называли товарища Сталина. Хлопали стоя 15 минут, ей-богу не вру, замечал по часам. «Ура» кричали без счета раз.
Резервным кандидатом от «Союза коммунистов и беспартийных» выдвигали первого секретаря крайкома Конторина. Аплодировали недолго, «ура» не кричали, соблюдали дистанцию.
Выбрать его не успели. Три дня спустя я видел его жену заплаканной, она была нашей студенткой. Шепоток шел в массах: «Арестовали Конторина. Враг народа».
Каюсь: большой жалости к партийным вождям не ощущал.
«Носить бы вас не переносить!» Другое дело – интеллигенция, свое, родное. Попадали, как кур во щи, в чужую кашу.
Странно, но моя ненависть к партийным боссам сочеталась с верой в социализм. В то время европейские интеллектуалы тоже попадались на эту удочку: умел втирать очки Сталин. Достаточно было прочитать выступления Анри Барбюса, Бернарда Шоу и Лиона Фейхтвангера, Ромена Роллана.
Бешеная пропаганда была перед первыми выборами. Из студентов создали бригады, чтобы ходить по домам. Даже я не сумел увильнуть, дали мне двухэтажный дом, набитый жильцами под завязку (тогда всюду так было). Приказано было познакомиться с каждым избирателем, прочитать с ними «обращение». В день выборов проследить лично, чтобы каждый пошел. Не может – принести ящик домой.
Все же я наплевал на них. Один раз зашел в домовой комитет, проверил список и больше не являлся. Бригадиру врал, что хожу. Ругался.
– Ну вас туда-сюда! (Как на станции говаривал. Но – увы! – теперь только шепотом.)
В день выборов, помню, 12 декабря, с самого утра уехал на завод и только вечером заявился проголосовать. Общественные начальники на меня накинулись:
– Где ты шлялся, такой-сякой, за тебя пришлось работать!
– Вот ужо нажалуемся, со стипендии снимем!
Нет, не сняли. Последствий не было.
Много раз я потом ходил на «всенародное голосование», сначала честно отпускал бюллетени, боялся НКВД, потом осмелел и вычеркивал, благо в кабину рекомендовали заходить.
Не будем преувеличивать: «Дуля в кармане».
Еще запомнился эпизод из более позднего времени, когда уже Ежова арестовали. Шел какой-то пленум ЦК, и был доклад Кагановича, его тогда в Киев назначили. Он назвал потрясшую меня цифру: 80 % членов партии киевской организации написали доносы в НКВД. Подумать только, что сделали коммунисты с народом! Надо же было так его изнасиловать. Притом что всегда считал рядовых коммунистов в массе своей честнее нас, беспартийных.
В августе 1938-го были события на озере Хасан. Гитлер с японцами заключили союз. «Запахло жареным».









































