Читать книгу "Сочинения"
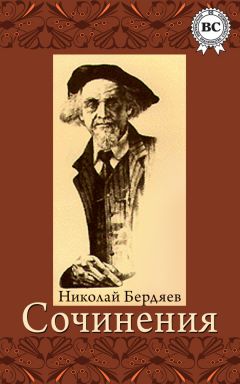
Автор книги: Николай Бердяев
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Суждение о русской революции предполагает суждение о революции вообще, как совсем особом и в конце концов духовном феномене в судьбах народов. Совершенно бесплодны рационалистические и моралистические суждения о революции, также как и о войне, которая во многом походит на революцию. Революция иррациональна, она свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели революции сознательно могут исповедовать самые рационалистические теории и во имя их делать революцию, но революция всегда является симптомом нарастания иррациональных сил. И это нужно понимать в двойном смысле: это значит, что старый режим стал совершенно иррациональным и не оправдан более никаким смыслом, и что сама революция осуществляется через расковывание иррациональной народной стихии. Революционеры-организаторы всегда хотят рационализировать иррациональную стихию революции, но она же является ее орудием. Ленин был крайним рационалистом, он верил в возможность окончательной рационализации социальной жизни. Но он же был человеком судьбы, рока, т. е. иррационального в истории. Революция есть судьба и рок. Три точки зрения возможны на революцию:
1) революционная и контрреволюционная, т. е. людей активно в ней участвующих,
2) объективно-историческая, научная, т. е. людей познавательно созерцающих, но в ней не участвующих, и
3) религиозно-апокалиптическая и историософическая точка зрения, т. е. людей принявших внутрь себя революцию, ее мучительно переживающих и возвышающихся над ее повседневной борьбой.
Менее всего понимают смысл революции революционеры и контрреволюционеры. Революционеры обыкновенно не понимают смысла революции, которая не покрывается их рационалистическими идеями, но в своей обращенности к будущему они могут быть орудиями осуществления смысла, орудиями высшего суда. Контрреволюционеры, как люди бессильно и бесплодно обращенные к прошлому, есть люди судимые, нераскаянные и в этом своем состоянии ничего не понимающие.
Объективные историки могут многое выяснить в критике источников, в раскрытии второстепенных исторических причин, но они даже не ставят себе цели понять смысл революции. Они обыкновенно на известном расстоянии говорят, что революция была необходима, детерминирована прошлым, но раскрытие смысла не дело исторической науки, это есть уже дело историософии. Но и историософия может подходить к проблеме смысла революции, если она религиозна по своей основе. Впрочем философия истории всегда в известном смысле есть теология истории и всегда имеет сознательно или бессознательно религиозную основу. Религиозная же историософия неизбежно имеет апокалиптическую окраску.
И вот для религиозной историософии, для историософии христианской раскрывается, что смысл революции есть внутренний апокалипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличение неудачи истории. В нашем греховном, злом мире оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы разложения. Слишком часто бывает так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающих сил. И тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции, тогда происходит разрыв времени, наступает прерывность, происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными и которые, если смотреть сверху, а не снизу, означают суд Смысла над бессмыслицей, действие Промысла во тьме. Реакционер Ж. де Местр, который не был чистым типом реакционера, признавал этот смысл революции.[69]69
См. книгу Ж. де Местра «Соnsidеrаtiоns sur lа Frаnсе».
[Закрыть]
Революция имеет онтологический смысл. Смысл этот пессимистический, а не оптимистический. Обнаружение этого смысла направлено против тех, которые думают, что общество может бесконечно существовать мирно и спокойно, когда в нем накопились страшные яды, когда в нем царят зло и неправда, внешне прикрытые благообразными формами, идеализированными образами прошлого. Трудно понять тех христиан, которые считают революцию недопустимой ввиду ее насилия и крови и вместе с тем считают вполне допустимой и нравственно оправданной войну. Война совершает еще больше насилий и проливает еще больше крови. Революция, совершающая насилие и проливающая кровь, есть грех, но и война есть грех, часто еще больший грех, чем революция. Вся история есть в значительной степени грех, кровопролитие и насилие. И трудно для христианской совести принять историю. Это основной парадокс христианского сознания. Христианство исторично, оно есть откровение Бога в истории, а не в природе, оно признает смысл истории. И вместе с тем христианство никогда не могло вместиться в историю, оно всегда искажалось историей, оно всегда судит неправду истории, оно не допускает оптимистического взгляда на историю. История потому и должна кончиться, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется правда Христова. Революция есть малый апокалипсис истории, как и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как наступит конец всей истории, прохождение мира через смерть для воскресения к новой жизни, так и внутри истории и внутри индивидуальной жизни человека периодически наступает конец и смерть для возрождения к новой жизни. Этим определяется ужас революции, ее жуткость, ее смертоносный и кровавый образ. Революция есть грех и свидетельство о грехе, как и война есть грех и свидетельство о грехе. Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло; в революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории.
Революции в христианской истории всегда были судом над историческим христианством, над христианами, над их изменой христианским заветам, над их искажением христианства. Именно для христиан революция имеет смысл и им более всего нужно его постигнуть, она есть вызов и напоминание христианам о неосуществленной ими правде. Принятие истории есть принятие и революции, принятие ее смысла как катастрофической прерывности в судьбах греховного мира. Отвержение всякого смысла революции неизбежно должно повести за собой и отвержение истории. Но революция ужасна и жутка, она уродлива и насильственна, как уродливо и насильственно рождение ребенка, уродливы и насильственны муки рождающей матери, уродлив и подвержен насилию рождающийся ребенок. Таково проклятие греховного мира. И на русской революции, быть может больше, чем на всякой другой, лежит отсвет Апокалипсиса. Смешны и жалки суждения о ней с точки зрения нормативной, с точки зрения нормативной религии и морали, нормативного понимания права и хозяйства. Озлобленность деятелей революции не может не отталкивать, но судить о ней нельзя исключительно с точки зрения индивидуальной морали.
Бесспорно в русской революции есть родовая черта всякой революции. Но есть также единичная, однажды совершившаяся, оригинальная революция, она порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление. В первые годы революции рассказывали легенду, сложившуюся в народной среде о большевизме и коммунизме. Для народного сознания большевизм был русской народной революцией, разливом буйной, народной стихии, коммунизм же пришел от инородцев, он западный, не русский, и он наложил на революционную народную стихию гнет деспотической организации, выражаясь по ученому, он рационализировал иррациональное. Это очень характерная легенда, свидетельствующая о женственной природе русского народа, всегда подвергающейся изнасилованию чуждым ей мужественным началом. Так народ воспринял и Петра. В русской революции, как впрочем и во всякой революции, произошло расковывание и сковывание хаотических сил. Народная толща, поднятая революцией, сначала сбрасывает с себя все оковы и приход к господству народных масс грозит хаотическим распадом. Народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским государством. России грозила полная анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться.
Разложение императорской России началось давно. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и выдохся. Война докончила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в России, монархия в России сама пала, ее никто не защищал, она не имела сторонников. Религиозные верования народа, которыми держалась монархия, начали разлагаться. Нигилизм, который в 60-е годы захватил интеллигенцию, начал переходить в народный слой. Полуинтеллигенция, вышедшая из народного слоя, была решительно атеистической и материалистической. Озлобленность была сильнее великодушия. Церковь потеряла руководящую роль в народной жизни. Подчиненное положение церкви в отношении к монархическому государству, утеря соборного духа, низкий культурный уровень духовенства – все это имело роковое значение. Не было организующей, духовной силы. Христианство в России переживало глубокий кризис. Роковой фигурой для судьбы России был Распутин. Распутин вышел из народа, принадлежал, по-видимому, к секте хлыстов и обладал несомненно мистической одаренностью. Про него говорили, что он обладал дарованиями, которые делают человека старцем и святым, но он употребил эти дарования на зло. В нем сосредоточилась страшная тьма русской жизни. Отношения между царем и Распутиным представляют гораздо более глубокое явление, чем обыкновенно думают. Последний русский царь – фигура трагическая, он жестоко расплатится за зло прошлого, зло, совершенное династией. Он искренно верил в мистический смысл царской власти. И он мучительно переживал разрыв между царем и народом, изоляцию царя. Он хотел соединения с народом. Царь не имел никакого общения с народом, он был отделен от народа стеной всесильной бюрократии. Между тем как он мистически чувствовал себя народным царем. И вот он впервые встретился с народом в лице Распутина. Это первый человек из народа, который получил непосредственный доступ ко двору. Царь, и особенно царица, поверили в Распутина, как в народ. Он стал символом народа, религиозной жизни народа. Царь искал религиозной опоры в трагических событиях своего царствования, он хотел поддержки церкви. Он не находил поддержки в высшей иерархии, потому что она рабски зависела от него самого. Распутин же представлялся ему народным православием, которое не зависит прямо от царя и может быть поддержкой для него. И цепляясь за Распутина, как за народное православие, царь и царица, имевшая огромное влияние, поставили церковь в зависимость от хлыста Распутина, который назначал епископов. Это было страшное унижение церкви и это совершенно компрометировало монархию. Распутин, мужик нравственно разложившийся от близости ко двору, окончательно восстановил против монархии даже консервативные дворянские круги русского общества. Во время войны, перед февралем 1917 года, все слои общества, кроме небольшой части высшей бюрократии и придворных, были, если не против монархии в принципе, то против монарха и особенно против царицы. Это был конец династии. Монархия в прошлом играла и положительную роль в русской истории, она имела заслуги. Но эта роль была давно изжита. Религиозно обоснованная русская монархия была осуждена свыше, осуждена Богом и прежде всего за насилие над церковью и религиозной жизнью народа, за антихристианскую идею цезаропапизма, за ложную связь церкви с монархией, за вражду к просвещению. Это же было и осуждением церкви в ее исторической стороне. К этому мы вернемся в последней главе.
3Русская революция возможна была только как аграрная революция, опирающаяся прежде всего на недовольство крестьян и на старую ненависть их к дворянам-помещикам и чиновникам. В русском крестьянстве не исчезли еще воспоминания об ужасах крепостного права, об унижении человеческого достоинства крестьян. Крестьяне готовы были мстить за своих дедов и прадедов. Мир господствующих привилегированных классов, преимущественно дворянства, их культура, их нравы, их внешний облик, даже их язык, был совершенно чужд народу-крестьянству, воспринимался как мир другой расы, иностранцев. Только аграрная революция, которая есть не только революция социально-экономическая, но, может быть, прежде всего революция моральная и бытовая, сделала в России возможной диктатуру пролетариата, вернее диктатуру идеи пролетариата, так как диктатуры пролетариата, вообще диктатуры класса быть не может. Диктатура эта оказалась также диктатурой и над крестьянством, и она совершила жестокие насилия над крестьянами, как то было при насильственной коллективизации, при создании колхозов. Но насилие над крестьянами совершалось своими людьми, вышедшими из народных низов, не барами, не привилегированной «белой костью». Крестьянину больше не говорят «ты», а если говорят, то и он может говорить «ты». Аграрная революция означает конец цивилизации, основанной на господстве дворян в бытовой жизни, дворянского стиля. Дворянство давно уже перестало быть передовым сословием, каким оно было в первую половину XIX века, когда из недр его выходили не только великие русские писатели, но и революционеры. После освобождения крестьян дворянство начало разоряться и вытесняться нарождающейся буржуазией. Большая часть земли принадлежала крестьянам. Но при низком уровне сельскохозяйственной культуры, при социальной неустроенности крестьян положение было тяжелым и среди крестьян было постоянно недовольство и мечта о новом устроении. В жизни – если не экономически, то морально – господствовал «барин», следы феодализма оставались до революции 1917 года. Строй продолжал быть сословным. Существование огромных латифундий, принадлежащих небольшой кучке магнатов, психологически и морально вызывало в крестьянстве возмущение и протест, тем более что русские бары обыкновенно сами хозяйством не занимались. Это даже гораздо более психологический и моральный вопрос, чем чисто экономический. Русским крестьянам всегда были чужды понятия римского права о собственности. Крестьяне считали, что земля Божья, т. е. ничья в человеческом смысле. Присвоение земли помещиками-дворянами крестьяне всегда считали такой же неправдой, как и крепостное право. Общинное, коллективное владение землей было более свойственно русскому народу, особенно великороссам, благодаря существованию общины. Крестьяне мечтали о «черном переделе», т. е. переделе земли между крестьянами. Раньше верили даже, что это сделает царь. Революционная народническая организация 70-х годов называла себя «Черный передел» в соответствии с настроениями и мечтами крестьянства. Русская коммунистическая революция и совершила этот «черный передел», она отобрала всю землю у дворян и частных владельцев. Как и всякая большая революция, она произвела смену социальных слоев и классов. Она низвергла господствующие, командующие классы и подняла народные слои, раньше угнетенные и униженные, она глубоко взрыла почву и совершила почти геологический переворот. Революция освободила раньше скованные рабоче-крестьянские силы для исторического дела. И этим определяется исключительный актуализм и динамизм коммунизма. В русском народе обнаружилась огромная витальная сила, которой раньше не давали возможности обнаружиться. При этом, естественно, произошло понижение уровня культуры, ибо высокая культура всегда создается путем качественного отбора и в сравнительно узком кругу элиты. Большевики пришли к господству в революции уродливо, с уродливым выражением лица, с уродливыми жестами. Это определилось не только тем, что они не принадлежали к тому слою, в котором выработалась культурная форма и манеры, более соответствующие понятию о прекрасном, но и тем, что у них было много ненависти, мстительности, ressentiment, которые всегда уродливы, у них не было еще никакого стиля, не произошло еще оформления. В революциях всегда есть уродливая сторона. И те, которые хотят особенно быть верными красоте, не могут быть слишком активными в революциях. Впрочем большевистская масса принесла с собой определенный стиль, стиль войны, и войны разложившейся. Это один из главных факторов русской коммунистической революции. Русским не свойственна риторика и театральность, которых так много было во французской революции. Поэтому русская революция более груба, но это, может быть, ее преимущество.
Русская коммунистическая революция в значительной степени была определена войной. Ленин, как и Маркс и Энгельс, придавал огромное значение войне как самому благоприятному моменту для производства опыта коммунистической революции. В этом отношении у коммунистов есть поражающая двойственность, которая может произвести впечатление лицемерия и цинизма и которая ими самими утверждается как диалектическое отношение к действительности. Кто же больше коммунистов негодовал на империалистическую войну и кто больше их протестовал? Именно коммунисты, которые, впрочем, тогда так не назывались, и представляли левое крыло социал-демократов интернационалистов, хотели сорвать войну или по крайней мере делали вид, что хотят сорвать. И вместе с тем в России именно коммунисты более всего выиграли от войны, война привела их к победе. Коммунисты или социалисты-интернационалисты, протестовавшие против войны, отлично предвидели, что мировая война может быть для них только благоприятна. Я не думаю, чтобы можно было их обвинить в неискренности и лживости. Это диалектическая неискренность и лживость. Марксизм вообще думает, что добро осуществляется через зло, свет через тьму. Таково ведь и отношение к капитализму, который есть величайшее зло и несправедливость и вместе с тем есть необходимый путь к торжеству социализма. На капиталистических фабриках приготовляется грядущее могущественное человечество. Коммунисты в сущности совсем не хотели, чтобы война не состоялась, они только хотели внедрить в сознание масс, что война капиталистических государств есть то страшное зло, которое сделает возможным и необходимым восстание против этого зла. Коммунизм хотел и хочет войны, но для того, чтобы войну национальностей превратить в войну классов. Весь стиль русского и мирового коммунизма вышел из войны. Если бы не было войны, то в России революция все-таки в конце концов была бы, но, вероятно, позже, и была бы иной. Неудачная война создала наиболее благоприятные условия для победы большевиков. Русские по характеру своему склонны к максимализму, и максималистический характер русской революции был очень правдоподобен. Противоположения и расколы достигли в России максимального напряжения. Но только атмосфера войны создала у нас тип победоносного большевизма, выдвинула новый тип большевика-победителя и завоевателя. Именно война с ее навыками и методами переродила тип русской интеллигенции. Методы войны перенесены были внутрь страны. Появился новый тип милитаризованного молодого человека. В отличие от старого типа интеллигента, он гладко выбритый, подтянутый, с твердой и стремительной походкой, он имеет вид завоевателя, он не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, он одержим волей к власти и могуществу, он пробивается в первые ряды жизни, он хочет быть не только разрушителем, но и строителем и организатором. Только с таким молодым человеком из крестьян, рабочих и полуинтеллигенции можно было сделать коммунистическую революцию. Ее нельзя было сделать с мечтателем, сострадательным и всегда готовым пострадать, типом старой интеллигенции. Но очень важно помнить, что русская коммунистическая революция родилась в несчастьи и от несчастья, несчастья разлагающейся войны, она не от творческого избытка сил родилась. Впрочем революция всегда предполагает несчастье, всегда предполагает сгущение тьмы прошлого. В этом ее роковой характер. Нет ничего ужаснее разлагающейся войны, разлагающейся армии и притом колоссальной, многомиллионной армии. Разложение войны и армии создает хаос и анархию. Россия поставлена была перед таким хаосом и анархией. Старая власть потеряла всякий нравственный авторитет. В нее не верили, и во время войны авторитет ее еще более пал. В патриотизм правительства не верили и подозревали его в тайном сочувствии немцам и желании сепаратного мира. Новое либерально-демократическое правительство, которое пришло на смену после февральского переворота, провозгласило отвлеченные гуманные принципы, отвлеченные начала права, в которых не было никакой организующей силы, не было энергии заражающей массы. Временное правительство возложило свои надежды на учредительное собрание, идее которого было доктринерски предано, оно в атмосфере разложения, хаоса и анархии хотело из благородного чувства продолжать войну до победного конца, в то время как солдаты готовы были бежать с фронта и превратить войну национальную в войну социальную. Положение временного правительства было настолько тяжелым и безысходным, что вряд ли можно его строго судить и обвинять. Керенский был лишь человеком революции ее первой стадии. Никогда в стихии революции, и особенно революции, созданной войной, не могут торжествовать люди умеренных, либеральных, гуманитарных принципов. Принципы демократии годны для мирной жизни, да и то не всегда, а не для революционной эпохи. В революционную эпоху побеждают люди крайних принципов, люди склонные и способные к диктатуре. Только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии. Нужно было взбунтовавшимся массам дать лозунги, во имя которых эти массы согласились бы организоваться и дисциплинироваться, нужны были заражающие символы. В этот момент большевизм, давно подготовленный Лениным, оказался единственной силой, которая, с одной стороны, могла докончить разложение старого и, с другой стороны, организовать новое. Только большевизм оказался способным овладеть положением, только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям. И он демагогически воспользовался всем.
Большевизм воспользовался всем для своего торжества. Он воспользовался бессилием либерально-демократической власти, негодностью ее символики для скрепления взбунтовавшейся массы. Он воспользовался объективной невозможностью дальше вести войну, пафос которой был безнадежно утерян, нежеланием солдат продолжать войну, и он провозгласил мир. Он воспользовался неустроенностью и недовольством крестьян и передал всю землю крестьянам, разрушив остатки феодализма и господства дворян. Он воспользовался русскими традициями деспотического управления сверху и, вместо непривычной демократии, для которой не было навыков, провозгласил диктатуру, более схожую со старым царизмом. Он воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризированному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался русским мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы в бессознательной форме, русской верой в особые пути России. Он воспользовался историческим расколом между народом и культурным слоем, народным недоверием к интеллигенции и с легкостью разгромил интеллигенцию, ему не подчинившуюся. Он впитал в себя и русское интеллигентское сектантство и русское народничество, преобразив их согласно требованиям новой эпохи. Он соответствовал отсутствию в русском народе римских понятий о собственности и буржуазных добродетелях, соответствовал русскому коллективизму, имевшему религиозные корни. Он воспользовался крушением патриархального быта в народе и разложением старых религиозных верований. Он также начал насильственно насаждать сверху новую цивилизацию, как это в свое время делал Петр. Он отрицал свободы человека, которые и раньше неизвестны были народу, которые были привилегией лишь верхних культурных слоев общества и за которые народ совсем и не собирался бороться. Он провозгласил обязательность целостного, тоталитарного миросозерцания, господствующего вероучения, что соответствовало навыкам и потребностям русского народа в вере и символах, управляющих жизнью. Русская душа не склонна к скептицизму и ей менее всего соответствует скептический либерализм. Народная душа легче всего могла перейти от целостной веры к другой целостной вере, к другой ортодоксии, охватывающей всю жизнь.
Россия перешла от старого средневековья, минуя пути новой истории, с их секуляризацией, дифференциацией разных областей культуры, с их либерализмом и индивидуализмом, с торжеством буржуазии и капиталистического хозяйства. Пало старое священное русское царство и образовалось новое, тоже священное царство, обратная теократия. Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным коммунизмом. И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов и Достоевского – «ех Oriente lux». Из Москвы, из Кремля исходит свет, который должен просветить буржуазную тьму Запада. Вместе с тем коммунизм создает деспотическое и бюрократическое государство, призванное господствовать над всей жизнью народа, не только над телом, но и над душой народа, в согласии с традициями Иоанна Грозного и царской власти. Русский преображенный марксизм провозглашает господство политики над экономикой, силу власти изменять как угодно хозяйственную жизнь страны. В своих грандиозных, всегда планетарных планах коммунизм воспользовался русской склонностью к прожектерству и фантазерству, которые раньше не могли себя реализовать, теперь же получили возможность практического применения. Ленин хотел победить русскую лень, выработанную барством и крепостным правом, победить Обломова и Рудина, лишних людей. И это положительное дело по-видимому ему удалось. Произошла метаморфоза: американизация русских людей, выработка нового типа практика, у которого мечтательность и фантазерство перешло в дело, в строительство, технику, бюрократа нового типа. Но и тут сказались особенности русской души, народные верования получили новое направление. Русские крестьяне сейчас поклоняются машине как тотему. Техника не есть обыденное дело, прозаическое и столь привычное западным людям, она превращается в мистику и связывается с планами почти космического переворота. Русский коммунизм с моей точки зрения есть явление вполне объяснимое, но объяснение не есть оправдание. Неслыханная тирания, которую представляет собой советский строй, подлежит нравственному суду, сколько бы вы ее ни объясняли. Постыдно и позорно, что наиболее совершенно организованное учреждение, созданное первым опытом революции коммунизма, есть Г.П.У. (раньше Чека), т. е. орган государственной полиции, несравненно более тиранический, чем институт жандармов старого режима, налагающий свою лапу даже на церковные дела. Но тираничность и жестокость советской власти не имеет обязательной связи с социально-экономической системой коммунизма. Можно мыслить коммунизм в экономической жизни соединимый с человечностью и свободой. Это предполагает иной дух и иную идеологию.









































