Читать книгу "Сочинения"
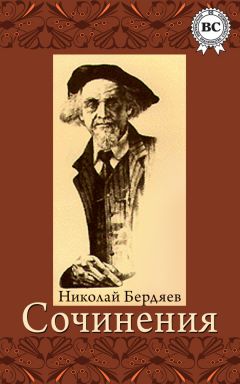
Автор книги: Николай Бердяев
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Не так давно еще «передовому» сознанию представлялся решенным и упраздненным древний спор знания и веры. Сама постановка этого вековечного вопроса производила впечатление анахронизма. Кто только не повторял контовского учения о трех фазисах развития и не пел победного гимна третьему, позитивно-научному периоду? Передовая интеллигенция всех стран переживала в юности пафос окончательной победы знания и безвозвратного поражения веры, а интеллигенция русская со свойственной ей склонностью к крайностям, со страстной верой пережила это поражение всякой веры и поверила в знание. Но за последние годы картина изменилась. Теперь отрицание веры и исключительное утверждение знания становится анахронизмом. Спор знания и веры вновь обостряется и требует пересмотра. Наша эпоха стоит под знаком богоискания. Богоискание отразилось в современной литературе, о богоискании пишут газеты и журналы, о богоискании громко говорят в обществах и собраниях. Факт коренного изменения настроения почти не требует доказательства. Но чувствуется ли возможность выхода, созревает ли внутренняя сила для свыше посланного виденья истины о знании и вере? Вопрос этот требует философского и психологического углубления, так как он не может быть решен исключительным отданием себя субъективным настроениям.
Существует три типических решения вопроса о взаимоотношении знания и веры, и, как увидим ниже, решения эти, несмотря на различия, сходятся в том, что одинаково признают коренную противоположность знания и веры, не ищут общей подпочвы в глубине. И потому типические решения эти предлагают выбирать между знанием и верой и неизбежно выбирают или знание, или веру, или известную пропорцию знания и известную пропорцию веры, взаимно друг друга ограничивающие. Три решения я бы формулировал так: 1) верховенство знания и отрицание веры, 2) верховенство веры и отрицание знания, 3) дуализм знания и веры. Первое решение долгое время господствовало и считалось самым передовым. Отщепленной от народного целого интеллигенции всего мира поверилось, что она окончательно вступила в третий фазис развития, окончательно освободилась от пережитков прошлого, что знанием для нее исчерпывается восприятие мира и сознательное отношение к миру, что все человечество тогда лишь станет на высоту самосознания, когда вырвет из своей души семя веры и отдастся гордому, самодержавному, всесильному знанию. Воинствующий рационализм так характерен для второй половины XIX века, хотя позитивный дух этого века значительно отличается от просветительного духа века XVIII. Романтическая реакция начала XIX века оплодотворила свой век историзмом и идеей развития. Подвергнем анализу этот опыт окончательной замены веры знанием.
Знание не может уничтожить веру и заменить веру. Это прежде всего должно быть психологически признано. Психологию веры мы встречаем у самых крайних рационалистов, у самых фанатических сторонников научно-позитивного взгляда на мир. На это много раз уже указывалось. Люди «научного» сознания полны всякого рода вер и даже суеверий: веры в прогресс, в закономерность природы, в справедливость, в социализм, веры в науку – именно веры. Возьмите самых крупных глашатаев наступления позитивной веры, тех, которые во имя будущего человечества страстно отрицали религиозную веру, – Конта, Фейербаха, Спенсера, Маркса. О. Конт был не только верующий по своей психологической природе, но и настоящий мистик: он верил в человечество, которое сближалось для него с вечной женственностью христианской мистики, и кончил построением позитивной религии человечества с культом, напоминающим католичество. Л. Фейербах по природе своей был религиозным атеистом и страстным глашатаем религии человечества. Спенсер верил в свое Непознаваемое и в мировое развитие. Маркс верил в социализм, в будущее общество, в разумную диалектику материального экономического процесса; психология веры лежит в основе рационалистического, «научного» марксизма. Все эти люди отрицали веру своим сознанием, но они верили в разные вещи, часто столь же невидимые, как и объекты подлинно религиозной веры. Видимая ли вещь социализм, или прогресс, или всеобъемлющая наука, и могут ли эти вещи быть предметами знания? Все это психологически предметы веры. Быть может, тут избираются недостойные предметы веры, быть может, тут совершается идолопоклонство, живой Бог подменяется ограниченными и относительными вещами, но само психологическое состояние веры не упраздняется, оно остается в силе. Даже в единственность и верховенство научного знания можно лишь верить, научно, позитивно, доказательно нельзя утверждать этой самодержавности и окончательности науки. Позитивистические верования – тоже ведь верования, хотя, может быть, и плохие. Требование научного обоснования веры, доказательства истинности веры психологически нелепо и обнаруживает непонимание самой природы веры. Требование это ведь не выполняется противниками религиозной веры и сторонниками веры позитивистической, социальной; их вера также не научна, не доказательна, не убедительна для тех, у кого воля направлена в другую сторону. Наступление совершенного состояния в социалистическом обществе так же недоказуемо, как и наступление совершенного состояния в царстве Божьем. Поэтому позволительно предпочесть веру в царство Божье. Пролетариат, напр., такая же невидимая вещь, как и нация. Поэтому позволительно избрать нацию предметом своей веры. А догматы материализма так же вненаучны и так же недоказуемы, как и догматы христианского богословия. Три фазиса Конта не хронологически сменяют один другой в истории, а сосуществуют в человеческом духе. У каждой живой души есть не только научное, но и метафизическое и мифологическое отношение к миру.
Вера в бога науки ныне пошатнулась. Кризис совершается не только в верхах философской мысли, но и в низах положительной научной работы. Не только философия и гносеология, но и сама наука снизу преодолевает множество идолов и божков и расшатывает те общепринятые основы знания, которыми наивно питалась материалистическая и позитивистическая философия.[5]5
Укажу для примера на Пуанкаре, философски сознательного ученого, который отстаивает теорию знания, близкую к прагматизму.
[Закрыть] Научный кризис зашел так далеко, что нынешнее естествознание отрицает само существование материи, унижает материю в той области, которую она считала безраздельно своей. Стоит указать только на электромагнитную теорию современной физики, на энергетизм и т. п. явления. Современная наука также расшатывает основы дарвинизма и недавно еще господствовавшей теории развития. Витализм все более и более побеждает механизм. Преодолевается самодовольство ученых, их догматическое отношение к незыблемым основам науки заменяется отношением критическим. В область научного знания вторгаются новые явления, которые казенный догматизм ученых недавно еще отвергал как сверхъестественное, допускаемое лишь суеверием.[6]6
Скоро, скоро настанут времена, когда наука восстановит в своих правах многие истины алхимии, астрологии, магии, когда реабилитированы будут знания средневековья и Возрождения.
[Закрыть] От веры в единую, всеобъемлющую, догматическую науку, постигающую тайну мирового механизма, от веры в материализм, в механизм, в эволюционизм и пр. не остается камня на камне. А с другой стороны, философия и гносеология выяснили, что наука сама себя не может обосновать, не может укрепить себя в пределах точного знания. Сами первоосновы науки требуют иного, философского обоснования. Своими корнями наука уходит в глубь, которую нельзя исследовать просто научно, а верхами своими наука поднимается к небу. На этой почве совершается гносеологический кризис, который начался с призыва к Канту, а в дальнейшем своем развитии должен преодолеть и кантианство, эту для многих элементарную школу, в которой научное знание защищают от скептицизма и лишают его абсолютной притязательности.
Наука отрицает разум и опирается на разум, опирается на опыт и ограничивает опыт. Тут скрыты антиномии науки, на которые должен быть пролит философский свет. Ниже мы увидим, почему обычные обоснования научного знания неудовлетворительны. Даже для людей научного сознания становится все ясней и ясней, что наука просто некомпетентна в решении вопроса о вере, откровении, чуде и т. п. Да и какая наука возьмет на себя смелость решать эти вопросы? Ведь не физика же, не химия, не физиология, не политическая экономия или юриспруденция? Науки нет, есть только науки. Идея науки, единой и всеразрешающей, переживает серьезный кризис, вера в этот миф пала, он связан был с позитивной философией и разделяет ее судьбу; сама же наука пасть не может, она вечна по своему значению, но и смиренна. Методологический плюрализм все более и более торжествует в современной научно-философской мысли. Наука ничего не знает о том едином разуме, который в силах был бы отрицать чудесное. Шеллинг и Вл. Соловьев больше признавали разум, чем Спенсер и Милль, чем Коген и Авенариус, и они же больше признавали возможность чудесного.
Требование «научной» веры, замены веры знанием есть, как мы увидим, отказ от свободы, от свободного избрания и от вольного подвига, требование это унижает человека, а не возвышает его. Никакая философия не может дать веры и заменить веры, она может лишь подвести к вере, лишь устранить некоторые препятствия. Приведу исторически поучительный пример взаимоотношения между верой и знанием. Ориген был самым гениальным умом среди учителей церкви, его справедливо сравнивают с величайшими философами. Философскими усилиями разума пытался Ориген проникнуть в тайну соотношения между Богом Отцом и Сыном, и мудрости Оригена не дано было вполне постигнуть эту тайну. Ориген слишком рационалистически решал христологическую проблему и дал повод к арианской ереси. Афанасий Великий не обладал философским умом Оригена; он был не философ, а простой человек, почти младенец по сравнению с Оригеном. И вот тайна природы Христа, тайна соотношения между первой и второй ипостасью открылась именно Афанасию, и за Афанасием пошел весь христианский мир. Гностики первых веков христианской эры были могучими умами, с творческой фантазией, среди них были такие гении, как Валентин. Но их подмена веры знанием, их неспособность к волевому подвигу веры вела к религиозному бессилию и бесплодию, к блужданию по пустыням собственной мысли и собственного воображения. С религиозными реальностями гностики были разобщены, так как не принимали их иррационально. Соблазн гностицизма коренится в отрицании вины, не допускающей полноты знания. В акте веры есть уже начало искупления вины, и в нем дано виденье невидимых вещей иного мира. В теософических течениях нашего времени нельзя не видеть возрождения гностицизма; это все то же желание узнать, не поверив, узнать, ни от чего не отрекаясь и ни к чему не обязываясь, благоразумно подменив веру знанием. Рационалистический позитивизм есть одна из форм замены веры знанием, гностицизм и теософия – другая форма того же; первая форма – для людей, лишенных фантазии и воображения, дорожащих ограничениями знания, вторая форма – для людей с фантазией и воображением, дорожащих расширением сферы знания. Но волевые корни позитивизма и гностицизма те же – отрицание свободного акта веры, требование, чтобы все вещи стали видимыми и тогда лишь опознанными.
Но и вера не может заменить знания. Нельзя верой решать вопросов физики и химии, политической экономии и истории, нельзя текстами св. писания возражать против выводов науки. Автономия науки так твердо укреплена в современном сознании, что и защищать ее нечего. Второй тип решения проблемы, ограничивающий знание, носит явно мракобесный характер и почти не заслуживает рассмотрения. Если вера есть свободный подвиг, то научное знание есть тяжелый долг труда, возложенный на человека. Принудительная замена знания верой почти никем сейчас не отстаивается.
Третий, дуалистический тип решения вопроса о взаимоотношении знания и веры нужно признать господствующим, наиболее соответствующим современному переходному состоянию человечества и разорванному его сознанию. Этот компромиссный дуализм признает и знание, и веру, но в известных пропорциях, с ограничениями, и пытается установить ложный мир знания и веры. Можно ли примириться с дуализмом знания и веры, дуализмом двух разумов и двух критериев истины? Дуализм этот очень соблазняет современного культурного человека, уже не мирящегося с полным отрицанием веры, в глубине сердца своего жаждущего веры, но не имеющего сил преодолеть рационализм сознания. Современное либеральное (в широком смысле этого слова) сознание не отрицает веры, но видит в вере произвольное, субъективное, необязательное прибавление душевной жизни и только знанию придает объективное и общеобязательное значение. Пути к подлинным реальностям утеряны. Рационалистическим сознанием и самопогружением в субъект пытаются воссоздать утерянное. Утеряли Бога и стали выдумывать богов. Богосознание заменилось богоизобретением. Этот роковой процесс смерти живого Бога в человеческом сознании нашел свое гениальное отражение в философии Канта, духовно властвующего и до сих пор над европейским сознанием. Именно Кант философски формулировал эту оторванность от живых истоков бытия, это бессилие воспринять живое конкретное бытие и живого конкретного Бога. Человек остался одиноким сам с собой, перед бездной пустоты, отрезанным от живой конкретности, и ему осталось лишь постулировать утешительное, лишь субъективно воссоздавать утерянную божественность в мире. Кант и есть основоположник дуалистического решения спора знания и веры. Он признает веру и защищает автономность веры, независимость ее от знания. Но автономность эта – самая жалкая, независимость эта – вполне кажущаяся. Кант – крайний, исключительный рационалист, он отвергает все чудесное, рационализирует веру, вводит религию в пределы разума и не допускает веры нерациональной, не разрешает религии, противной знанию. Рациональное знание продолжает господствовать, с ним должна сообразоваться вера и ограничивать себя велениями просвещенного разума. Дуализм этот, допускающий веру, но ограничивающий ее рациональным сознанием, очень характерен. Кантианство есть порождение отрицательных сторон протестантизма, порвавшего с традицией соборного сознания. Не только протестанты, но и неокатолики, подавленные современностью, стыдятся своей веры и гордятся своим знанием. Религиозная вера вырождается в морализм и в постулаты воли, так как перестают видеть реальность бытия и реальность Божества, оторвавшись от источника. У неопротестанта Гарнака и неокатолика Луази ничего уже не осталось от реальной веры; сознание их исключительно рационалистично. Как мы увидим ниже, вера есть функция воли, но вера как субъективное и произвольное психологическое состояние, зависящее от ограничения знания и от настроений, есть или эстетическая забава, или моральное малодушие. Рационалистическое вырождение протестантизма в религию в «пределах разума» есть компромисс и отказ от подвига самоотречения, всякой верой предполагаемого, но с сохранением утешительных постулатов.
Теперь обратимся к философскому анализу природы знания и веры. В разных формах распространенное учение о противоположности знания и веры, противоположности, понятой внешне и не осмысленной, требует пересмотра. По классическому и вечному определению веры, одинаково ценному и в религиозном, и в научном отношении, вера есть обличение вещей невидимых. В противоположность этому знание может быть определено как обличение вещей видимых. Само собою разумеется, что слово «видимый» и «невидимый» нужно понимать всеобъемлюще, не в смысле зрительного восприятия и не в смысле внешнего восприятия, а в смысле принудительной данности или отсутствия принудительной данности. Видимые, т. е. принудительно данные вещи – область знания, невидимые, т. е. не данные принудительно вещи, вещи, которые должно еще стяжать, – область веры. Современность признает лишь область видимых вещей, лишь принудительное принимает, невидимые же вещи в лучшем случае признает лишь как символы внутреннего состояния человека. Вот почему современность так притязательно и деспотически требует доказательной веры, т. е. принудительной, т. е. направленной на видимые вещи. Замкнувшись в царстве видимых вещей, рациональная современность отрицает веру и делает вид, что не нуждается в ней. Но посмотрим еще, на чем покоится эта уверенность в видимых вещах и твердость знания о них. Не потому ли так сильна эта уверенность, что уверовали в них?
Вникая в природу знания и веры, мы прежде всего должны констатировать огромное психологическое различие между этими двумя состояниями. Психологическая противоположность знания и веры бросается в глаза даже человеку, не склонному к философскому анализу. Знание – принудительно, вера – свободна. Всякий акт знания, начиная с элементарного восприятия и кончая самыми сложными его плодами, заключает в себе принудительность, обязательность, невозможность уклониться, исключает свободу выбора. Воспринимаемая мною чернильница принудительно мне дана, как и связь частей суждения; она меня насилует, как и весь мир видимых вещей; я не свободен принять ее или не принять. Через знание мир видимых вещей насильственно в меня входит. Доказательство, которым так гордится знание, всегда есть насилие, принуждение. То, что мне доказано, то уже неотвратимо для меня. В познавательном восприятии видимых вещей, в доказательствах, в дискурсивном мышлении как бы теряется свобода человека, она не нужна уже. Акт знания не есть акт волевого избрания,[7]7
Школа Виндельбандта и Риккерта ошибочно усматривает в познании свободное избрание и тем этизирует гносеологию.
[Закрыть] и потому акт знания испытывается как что-то твердое и обязательное, тут почва не колеблется. Принуждение, которому мы подвергаемся в акте знания, мы обязательно испытываем как твердость знания, насилие называется нами обязательностью. Пока мы стоим на почве психологического описания, но нужно перевести эти психологические свойства знания на гносеологический язык. Как обосновывается твердость знания, как гарантируется общеобязательность знания? Ученые слишком часто бывают наивны. Они не отдают себе отчета в том, на чем покоится вся их работа. Но философ не имеет права быть наивным; он ищет гносеологических оснований твердости знания и изобретает ряд теорий. Существует много гносеологических учений, но можно установить три основных типа: эмпиризм, рационализм, критицизм. Присмотримся к этим оправданиям знания.
Эмпиризм – одно из самых могущественных направлений в теории знания, и власть его особенно сильна в положительной науке. Эмпиризм видит источник и оправдание знания в опыте, в опыте же ищет и гарантий твердости знания. Что в эмпиризме заключена огромная и неопровержимая часть истины, об этом почти не может быть спора. Но вот на что слишком мало обращают внимания. «Опыт» эмпириков подозрительно рационализирован, опыт этот тенденциозно конструирован и ограничен пределами, не самим опытом поставленными. Эмпирики слишком хорошо знают, что в опыте никогда не может быть дано; они слишком уверены, что чудесное никогда не было и никогда не будет в опыте дано. Но откуда такая уверенность, из опыта ли она почерпнута? Опыт сам по себе, опыт не конструированный рационально, опыт безграничный и безмерный не может ставить пределов и не может дать гарантий, что не произойдет чудо, т. е. то, что эмпирикам представляется выходящим за пределы их «опыта». Не рационализированный, первичный, живой опыт и есть сама безмерная и бесконечная жизнь до рационального распадения на субъект и объект. Поразительно, что так мало обращают внимания на рационализм эмпиризма, на фальсификацию опыта у эмпириков. Ведь слишком ясно, что эмпиризм признает только опыт в рациональных пределах, к опыту же не рациональному он относится отрицательно, как к мистике. Ведь опыт, сам по себе взятый, как источник всякого познавательного питания не уполномочивал эмпириков говорить за себя. Вышло же, что не опыт повелевает эмпириками, а эмпирики повелевают опытом и ему навязывают свою рассудочность и ограниченность. Лучший, добросовестнейший из эмпириков Д. С. Милль почти что сознавал то, о чем здесь идет речь, но рационалистический дух давил его и мешал сделать смелые выводы. Новейший же эмпиризм в духе Авенариуса, Маха и др. опять принимает бессознательно рационалистическую форму. Когда кантианец так твердо знает, что в опыте не может быть чуда, то это понятно, потому что опыт кантианца конструирован рациональными категориями, он сознательно в тисках, на живой опыт надет намордник, и он укусить не может. Но почему же не кусается опыт эмпириков, почему он обезврежен от мистических опасностей? Эмпиризм есть бессознательная и потому низшая форма рационализма, он имеет дело не с первичным и живым опытом, а с вторичным и рационализированным; твердость знания у эмпиризма есть твердость рационализма, контрабандным образом проведенного. Но в последнее время начинается движение против господства этого рационализированного опыта за восстановление в правах первичного, живого, беспредельного опыта, в котором может быть дано не только «рациональное», но и «мистическое». Так, напр., русский философ Лосский оригинально защищает мистический эмпиризм, который берет опыт нерационализированно и расширяет до бесконечности сферу возможностей. Эмпиризм Лосского не есть позитивизм, т. е. не есть эмпиризм ограниченный, замыкающий горизонты, как то фатально оказывается у обычного эмпиризма. Талантливый американский психолог и философ Джемс также отстаивает расширение опыта за пределы рационального. Знаменательно, что Джемс, трезвый англосаксонец, признает за опытом святых и мистиков такой же фактический характер, как и за всяким другим опытом. Джемс, как и Лосский, борется за расширение сферы опыта, преодолевает рационализм эмпирический во имя эмпиризма подлинного, не фальсифицированного и не конструированного. {2}2
У Липпса мы встречаем уже иной тип эмпиризма, не рационалистический и не позитивистический; он как бы признает опыт самой «жизни», а не только опыт «знания». Даже у эмпириокритициста Корнелиуса есть попытка вырваться из удушливой атмосферы рационалистического эмпиризма.
[Закрыть] Новым, не рационалистическим духом веет также от философии Бергсона. Все вышесказанное позволяет сделать заключение, что то гносеологическое направление, которое принято называть эмпиризмом, не достигает обоснования и оправдания твердыни знания; оно неизбежно разлагается на рационализм и мистицизм в зависимости от того, принимает ли ограниченный, вторичный и рационально-конструированный опыт или неограниченный, первичный и живой опыт.
Критицизм, который претендует преодолеть дефекты эмпиризма и рационализма, является такой же формой рационализма, как и традиционный эмпиризм, так как оперирует с рационализированным сознанием и рационализированным опытом. Кант так далеко заходит в своем рационализме, что для него вся действительность, все живое бытие есть продукт знания, мышления: мир созидается категориями субъекта, и ничто не в силах из этих тисков освободиться, ничего не является само по себе, независимо от того, что навязывается субъектом. В критицизме формулируется потеря путей к бытию, к живым реальностям, в критицизме познающий субъект остается сам с собой и из себя все должен воссоздать. В последних и самых утонченных своих плодах критический идеализм отрицает брачную тайну познания. Когда зародилось познание из недр самой жизни, оно хотело быть браком познающего с бытием. Теории познания могли быть лишь свидетелями законности бракосочетания. Но свидетели прогнали жениха и невесту, отвергли всякое отношение познания к бытию, и их свидетельская роль превратилась в самодовлеющую и замкнутую жизнь. Критическая гносеология на вершине своей превращается в паразита на древе познания. Талантливая философия Риккерта, столь ныне модная, есть reductio ad absurdum [8]8
Сведение к нелепости (лат).
[Закрыть] критицизма, в ней окончательно упраздняется бытие и отрицается вековечная цель знания. Лишь рационалистическое рассечение целостного человеческого существа может привести к утверждению самодовлеющей теоретической ценности знания, но для познающего, как для существа живого и целостного, не рационализированного, ясно, что познание имеет прежде всего практическую (не в утилитарном, конечно, смысле слова) ценность, что познание есть функция жизни, что возможность брачного познания основана на тождестве субъекта и объекта, на раскрытии того же разума и той же бесконечной жизни в бытии, что и в познающем. В основе знания самого высшего лежит знание житейское, обыденное, знание как жизнь. Когда я житейски говорю, что твердо знаю о существовании души у моего ближнего, то этим я утверждаю элементарную метафизику, основу метафизики наукообразной. Критическая теория познания неопровержимо показала невозможность обосновать себя на психологии или метафизике, поскольку психология и метафизика являются уже знанием. Но отсюда никак не следует, что теория познания не предполагает психического и метафизического, т. е. не знаний, не дисциплин, а самих сил бытия. В этом только смысле можно сказать, что всякая теория познания имеет онтологический базис, т. е. не может уклониться от утверждения той истины, что познание есть часть жизни, жизни, данной до рационалистического рассечения на субъект и объект. Рационализм кантовской и вообще критической философии я вижу в сознательном отвлечении познания от целостного процесса жизни. Это привело к формализму, который не имеет отношения к бытию и к содержанию познания и ни от каких скептических опасностей не охраняет. Все гносеологические попытки обосновать и оправдать знание являются скрытыми или открытыми формами рационализма. Что же можно сказать о самом рационализме, силы и значения которого отрицать нельзя? [9]9
На критике критицизма я подробно остановлюсь в главе «Гносеологическая проблема».
[Закрыть]
Мышление, которым так гордятся рационалисты, есть мышление дискурсивное, выводное. В дискурсивном мышлении нет непосредственной данности бытия, а есть посредственность и выводимость. Все знание протекает в плохой бесконечности дискурсивного мышления. Для дискурсивного мышления все начала и концы оказываются скрытыми в темной глубине, начала и концы вне той середины, которая заполнена дискурсивным мышлением. Дискурсивное рациональное познание лишь выводит, лишь заполняет посредствующие звенья; оно не восходит к истокам. Таким образом, твердые первоосновы знания не даются дискурсивным мышлением, их нужно искать в другом месте, вне рациональной дискурсии. Нелепо было бы отрицать значение дискурсивного мышления; без него мы не можем познавать, так как слишком удалились от первоисточника света; но нельзя искать основ знания в дискурсивном мышлении. Познание протекает через дискурсивное мышление, но восходит к интуиции, упирается в элементарную веру, в обличение уже невидимой вещи. Совершенно произвольно называть знанием только суждения; в такой же мере могут быть названы знанием и непосредственные интуиции. Критическая теория познания не опровергла возможности интеллектуальной интуиции. Почти вся наука покоится на законе сохранения энергии; но закон сохранения энергии дан лишь вере, как и пресловутая атомистическая теория, на которой долгое время покоилось естествознание. Да и само существование внешнего мира утверждается лишь верой. Все ведь признают, что аксиомы недоказуемы, что они предмет веры, но как бы непроизвольной, обязательной, связывающей веры. Все исходное в знании недоказуемо, исходное непосредственно дано, в него верится. И все недоказуемое и непосредственное оказывается тверже доказуемого и выведенного. Все, в сущности, признают, что в основе знания лежит нечто более твердое, чем само знание, все вынуждены признать, что доказуемость дискурсивного мышления есть нечто вторичное и зыбкое. Мы пока ничего не утверждаем о твердой «вере», первично испытываемой, лежащей в основе знания, но констатируем, что вся твердость знания в этой «вере» коренится. И потому нет оснований утверждать, что знание имеет преимущество перед верой. Знание питается тем, что дает вера, и различие тут лишь в характере самой веры. Рационализм держится лишь тем, что не углубляется до первооснов, не восходит до истоков. В истоках же всегда находим веру. Это начинают все более и более признавать философски мыслящие ученые. Чем же отличается «вера», на которой покоится знание, от веры религиозной, почему эта вера связана с особенной твердостью, обязательностью, принудительностью? Гносеология сама по себе не в силах разрешить этого вопроса; она может лишь констатировать, что знание всегда упирается в веру, дальнейшее же углубление возможно лишь для метафизики.
Почему мы знаем этот видимый, эмпирический мир, в мир же иной, мир невидимый мы только верим? Почему бытие этого мира кажется нам таким несомненным, таким принудительным, бытие же мира иного кажется сомнительным и необязательным? Актом нашей умопостигаемой воли, в таинственной глубине бытия, до времени, предмирно совершили мы избрание этого мира, поверили в него, определили себя к бытию в данной действительности, связались с этим миром тысячами нитей. Воля наша избрала данный нам в опыте мир, «этот» мир, объектом своей любви, и он стал для нас принудителен, стал навязчив. «Поверив» в этот мир, мы стали «знать» его; от силы веры нашей в этот мир знание наше этого мира стало обязательным и твердым. От мира же иного воля наша отвернулась, наша вера в иной мир или слаба, или совсем отсутствует, поэтому мы не знаем иного мира, наше отношение к нему необязательно и непринудительно. Разгадки двойственности мира этого и мира иного, вещей видимых и вещей невидимых нужно искать в тайне нашей умопостигаемой воли. Мы видим и знаем то, что полюбили и избрали, а то, от чего отпали, что отвергли, то перестаем видеть и знать. Лишь новым актом избрания, лишь новым актом любви можно сделать невидимые вещи видимыми и узнать их. Воля наша связала себя с так называемой «действительностью», и все в этой действительности кажется нам достоверным и твердым. Все же относящееся к забытым, иным мирам кажется нам зыбким, неопределенным, проблематическим, сомнительным; с мирами иными у нас нити порваны, воля наша отвращена от этих сфер бытия. Так тверда наша вера в этот мир, что наше отношение к этому миру принимает форму принуждающую, обязывающую, связывающую, т. е. форму знания. Мы не говорим уже, что верим в видимые вещи, мы знаем их; все, что к ним относится, обладает доказательной силой. Только о мире вещей невидимых говорим мы, что верим в них, а не знаем их, т. е. свободно избираем их или не избираем. Для данного мира действительности, мира видимого, объекта знания, волевой акт свободного избрания, т. е. акт веры, уже совершен, совершен в таинственной глубине бытия; для мира же иного, мира невидимых вещей, мы вновь должны совершить акт свободного волевого избрания, избрания того мира предметом своей любви, т. е. акт веры. Мир невидимых, нами утерянных вещей дается нам лишь вольным подвигом отречения, лишь риском и опасностью веры. Для обличения мира невидимых вещей нужна активность всей человеческой природы, общее ее напряжение, а не активность одного лишь интеллекта, как то мы находим в знании мира видимого. Знание этого мира основано на исконной и исключительной вере в него; знание мира иного предполагает прежде всего отречение от этой исключительной и исконной веры и свободную веру в иной мир.









































