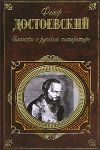Текст книги "Статьи о русской литературе (сборник)"

Автор книги: Николай Чернышевский
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь роман. В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в избранной рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. «Герой нашего времени» представляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостию; но как они суть только отдельные случаи из жизни хотя и одного и того же человека, то и могли б быть заменены другими, ибо вместо приключения в крепости с Бэлою, или в Тамани, могли б быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем не менее основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань», отдельно взятые, суть в высшей степени художественные произведения. И какие типические, какие дивно художественные лица – Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, девушки в Тамани! Какие поэтические подробности, какой на всем поэтический колорит!
Но «Княжна Мери», и как отдельно взятая повесть, менее всех других художественна. Из лиц один Грушницкий есть истинно художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности. Но всех слабее обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношения ее к Печорину похожи на загадку. То она кажется вам женщиною глубокою, способною к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению; то видите в ней одну слабость, и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж, и еще за старика, следовательно, по расчету, по какому бы то ни было; изменив для Печорина одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вследствие всего этого она не возбуждает к себе сильного участия со стороны автора и, подобно тени, проскользает в его воображении. Княжна Мери изображена удачнее. Это девушка неглупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеально, в детском смысле этого слова: ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятным и таинственным и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но, когда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление и пала его жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, – и сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор.
Однако, при всем этом недостатке художественности, вся повесть насквозь проникнута поэзиею, исполнена высочайшего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано! Слог повести – то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг! Основная идея так близка сердцу всякого, кто мыслит и чувствует, что всякий из таких, как бы ни противоположно было его положение положениям, в ней представленным, увидит в ней исповедь собственного сердца.
В «Предисловии» к журналу Печорина автор, между прочим, говорит:
Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность.
Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас – признание Гете, который говорит в своих записках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь... Такова благородная природа поэта, собственною силою своею вырывается он из всякого момента ограниченности и летит к новым, живым явлениям мира, в полное славы творенье... Объектируя собственное страдание, он освобождается от него; переводя на поэтические звуки диссонансы духа своего, он снова входит в родную ему сферу вечной гармонии... Если же г. Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но, верно, уж не в утешение, а в пущее огорчение моралистов: может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать эту разумность и блаженство своим достоянием... А может быть и то: он сделает его и причастником радостей жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни... Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершено через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни... Так сделал и Пушкин с своим Онегиным: отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастие, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины...
Похождения Чичикова, или Мертвые души
Поэма Н. Гоголя. Москва. В университетской типографии. 1842. В 8-ю д. л. 475 стр. (Цена 3 р. сер., с перес. 3 р. 75 к. сер.).
Есть два способа выговаривать новые истины. Один – уклончивый, как будто не противоречащий общему мнению, больше намекающий, чем утверждающий; истина в нем доступна избранным и замаскирована для толпы скромными выражениями: если смеем так думать, если позволено так выразиться, если не ошибаемся и т. п. Другой способ выговаривать истину – прямой и резкий; в нем человек является провозвестником истины, совершенно забывая себя и глубоко презирая робкие оговорки и двусмысленные намеки, которые каждая сторона толкует в свою пользу и в которых видно низкое желание служить и нашим и вашим. «Кто не за меня, тот против меня» – вот девиз людей, которые любят выговаривать истину прямо и смело, заботясь только об истине, а не о том, что скажут о них самих... Так как цель критики есть истина же, то и критика бывает двух родов: уклончивая и прямая. Является великий талант, которого толпа еще не в состоянии признать великим, потому что имя его не притвердилось ей, – и вот уклончивая критика, в осторожнейших выражениях, докладывает «почтеннейшей публике», что явилось-де замечательное дарование, которое, конечно, не то, что высокие гении гг. А, Б и В, уже утвержденные общественным мнением, но которое, не равняясь с ними, все-таки имеет свои права на общее внимание; мимоходом намекает она, что хотя-де и не подвержено никакому сомнению гениальное значение гг. А, Б и В, но что-де и в них не может не быть своих недостатков, потому-де, что «и в солнце и в луне есть темные пятна»; мимоходом приводит она места из нового автора и, ничего не говоря о нем самом, равно как и не определяя положительно достоинства приводимых мест, тем не менее говорит о них восторженно, так что задняя мысль этой уклончивой критики некоторым, весьма немногим, дает знать, что новый автор выше всех гениальных гг. А, Б и В, а толпа охотно соглашается с нею, уклончивою критикою, что новый автор очень может быть и не без дарования, и затем забывает и нового автора и уклончивую критику, чтоб снова обратиться к гениальным именам, которые она, добродушная толпа, затвердила уже наизусть. Не знаем, до какой степени полезна такая критика. Согласны, что, может быть, только она и бывает полезна; но как натуры своей никто переменить не в состоянии, то, признаемся, мы не можем победить нашего отвращения к уклончивой критике, как и ко всему уклончивому, ко всему, в чем мелкое самолюбие не хочет отстать от других в уразумении истины и, в то же время, боится оскорбить множество мелких самолюбий, обнаружив, что знает больше их, а потому и ограничивается скромною и благонамеренною службою и нашим и вашим...
Не такова критика прямая и смелая: заметив в первом произведении молодого автора исполинские силы, пока еще не сформировавшиеся и не для всех приметные, она, упоенная восторгом великого явления, прямо объявляет его Алкидом в колыбели, который детскими руками мощно душит завистливые мелкие дарованьица, пристрастных или ограниченных и недальновидных критиков... Тогда на бедную «прямую» критику сыплются насмешки и со стороны литературной братии и со стороны публики. Но эти насмешки и шутки чужды всякого спокойствия и всякой добродушной веселости; напротив, они отзываются каким-то беспокойством и тревогою бессилия, исполнены вражды и ненависти. И не мудрено: «прямая критика» не удовольствовалась объявлением, что новый автор обещает великого автора; нет, она, при этом удобном случае, выразилась с свойственною ей откровенностию, что гениальные гг. А, Б и В с компаниею никогда не были даже и замечательно талантливыми господами; что их слава основалась на неразвитости общественного мнения и держится его ленивою неподвижностью, привычкою и другими чисто внешними причинами; что один из них, взобравшись на ходули ложных, натянутых чувств и надутых, пустозвонных фраз, оклеветал действительность ребяческими выдумками; другой ударился в противоположную крайность и грязью с грязи мазал свои грубые картины, приправляя их провинциальным юмором; и так третьего, четвертого и пятого... Вот тут-то и начинается борьба старых мнений с новыми, предрассудков, страстей и пристрастий – с истиною (борьба, в которой всего более достается «прямой критике» и о которой всего менее хочет знать «прямая критика»)...
Врагами нового таланта являются даже и умные люди, которые уже столько прожили на белом свете и так утвердились в известном образе мыслей, что уж в новом свете истины поневоле видят только помрачение истины; если же из них найдется хоть один такой, который в свое время и сам понимал больше других, был поборником новой истины, теперь уже ставшей старою, – то, спрашиваем, какова же должна быть его немощная вражда против нового таланта, в котором он чует что-то, но которого понять не может? И если у этого cidevant[10]10
когда-то (фр.). – Ред.
[Закрыть] умного и шедшего впереди с высшими взглядами, а теперь отсталого от времени человека, если у него характер слабый, ничтожный и завистливый, а самолюбие мелкое и раздражительное, то, спрашиваем, какое жалкое зрелище должна представлять его отчаянно бессильная борьба с новым талантом?.. Что же сказать о тех «господах сочинителях», которые, благодаря своей ловкости и сметливости, заменяющим у людей ограниченных и бездарных ум и талант, пошлыми, в камердинерском вкусе остротами над французским языком, балами и модами, лорнетками, куцыми фраками, прическою а là russe[11]11
в русском стиле (фр.). – Ред.
[Закрыть], усами, бородами и т. п., успели вовремя подтибрить себе известность нравственно-сатирических и нравственно-описательных талантов? Правда, новый талант ничего им не сделал, ничего о них не сказал, никогда с ними не знался ни лично, ни литературно, как с людьми, с которыми у него общего ничего нет и быть не может; но зато он показал, что такое истинный юмор и не прощаемая невежеством и пороком истинная ирония и как должно действовать в пользу общественной нравственности, не резонерствуя о нравственности, но только «возводя в перл создания» типические явления действительности: а это разве не то же самое, что убить наповал наших нравственно-сатирических сочинителей, даже и не принимая на себя труда знать о их незанимательном существовании? И вот они, эти господа, нравственно-сатирических и других родов сочинители, прославившиеся не одними романами, но и в качестве грамотеев и исправных корректоров, прибегают для унижения страшного им таланта ко всевозможным свойственным им уловкам: сперва не признают в нем никакого таланта и видят решительную бездарность; но сознавая, к своему ужасу, что слава таланта все растет и растет, все идет и идет своею дорогою и не замечает раздающегося вокруг него лая, они начинают милостиво замечать в нем талант, изъявляя сожаление, что он дозволяет себе сбиваться с пути, увлекаться непомерными похвалами приятелей (из которых со многими он даже и не знаком совсем), которые видят в нем и бог знает что, тогда как он в самом-то деле имеет талант только верно и забавно списывать с натуры; далее, «при сей верной оказии», доказывают, что он даже и языка-то не знает, в подтверждение чего указывают на мелкие промахи против грамматики г. Греча, на типографские ошибки, или осуждая со всем негодованием, свойственным «угнетенной невинности», сильные, оскорбляющие приличие выражения, вроде слова вонять, которого, по их уверению, не скажет в их обществе и порядочный лакей...
Большинство публики, с своей стороны, оскорбленное, сколько похвалами «прямой критики» новому таланту, к которому оно еще не привыкло и которого потому еще не могло понять, столько же – или еще больше – ее откровенными выходками против гениальных гг. А, Б и В, к которым оно давно привыкло и которых хотя уж и не читает, но по привычке и преданию все еще считает гениями, – это большинство публики вдвойне не благоволит к новому таланту. Господа нравственно-сатирические сочинители хорошо понимают это и еще лучше пользуются этим: они по времени перестают говорить о себе и своих бессмертных сочинениях и являются жаркими поклонниками чужой славы, прежде, то есть когда она была в ходу, ими ненавидимой и оскорбляемой, а теперь, то есть когда она скоропостижно скончалась, будто бы дорогой и священной для них... И вот они кричат о духе партий, который заставляет иной «толстый журнал» хвалить писателя, не умеющего писать по-русски, и пристрастно унижать истинные дарования... Но вот слава гениальных господ А, Б и В наконец забывается благодаря времени и резкой откровенности «прямой критики»; новый талант делается авторитетом: его оригинальные и самобытные создания, полные мысли, сияющие художественною красотою, веющие духом новой, прекрасной жизни, проникают в сознание общества, производят новую школу в искусстве и литературе, так что сами нравственно-сатирические сочинители, волею или неволею, принуждены перечинить на новый лад свои притупившиеся перья и передразнивать форму недоступных им по содержанию творений гения; общественное мнение круто поворачивается в пользу великого поэта, – и вопиющая партия отсталых посредственностей теряется, не знает, что делать, грозит ругательными статьями и не смеет выполнить угрозы, боясь конечного для себя позора... Не знаем, какую роль во всем этом играла «прямая критика» и насколько содействовала она этому процессу общественного сознания; но знаем, что те же люди, которые из порицателей великого поэта сделались жалкими его поклонниками, не любят вспоминать, что такой-то критик, еще при первом появлении поэта, не боясь идти против общественного мнения, не боясь равно раздразнить гусей, равно презирая и насмешки и ненависть, смело и резко сказал о нем то, что теперь говорит о нем большинство и они сами, эти беспамятные люди... Знаем также, что, явись опять новое, свежее дарование, первыми своими созданиями обещающее великую будущность, – «прямая критика» также честно разыграет свою ролю, и ту же игру повторят, в отношении к ней и к поэту, и завистливая посредственность, и тугая, медленная в процессах своего сознания толпа... Но знаем при этом еще и то, что «прямота», как и все истинное и великое, должна быть сама себе целью и в самой себе находить свое удовлетворение и свою лучшую награду...
Все это – так, взгляд, рассуждения; теперь скажем слова два о некоторых фактах, подавших нам повод к этим рассуждениям и имеющих близкое отношение к автору книги, заглавие которой выставлено в начале этой статьи. Не углубляясь далеко в прошедшее нашей литературы, не упоминая о многих предсказаниях «прямой критики», сделанных давно и теперь сбывшихся, скажем просто, что из ныне существующих журналов только на долю «Отечественных записок» выпала роль «прямой» критики. Давно ли было то время, когда статья о Марлинском[12]12
«Отечественные записки», 1840, т. VIII.
[Закрыть] возбудила против нас столько криков, столько неприязненности, как со стороны литературной братии, так и со стороны большинства читающей публики? – И что же? смешно и жалко видеть, как, с голосу «Отечественных записок», словами и выражениями (не новы, да благо уж готовы!) преследуют теперь бледный призрак падшей славы этого блестящего фразера – бог знает из каких щелей понаползшие в современную литературу критиканы, бог ведает какие журналы и какие газеты! Большинство публики не только не думает сердиться, но тоже, в свою очередь, повторяет вычитываемые им о Марлинском фразы! Давно ли многие не могли нам простить, что мы видели великого поэта в Лермонтове? Давно ли писали о нас, что мы превозносим его пристрастно, как постоянного вкладчика в наш журнал? – И что же! Мало того, что участие и устремленные на поэта полные изумления и ожидания очи целого общества, при жизни его, и потом общая скорбь образованной и необразованной части читающей публики, при вести о его безвременной кончине, вполне оправдали наши прямые и резкие приговоры о его таланте, – мало того: Лермонтова принуждены были хвалить даже те люди, которых не только критик, но и существования он не подозревал и которые гораздо лучше и приличнее могли бы почтить его талант своею враждою, чем приязнию... Но эти нападки на наш журнал за Марлинского и Лермонтова ничто в сравнении с нападками за Гоголя... Из существующих теперь журналов «Отечественные записки» первые и одни сказали и постоянно, со дня своего появления до сей минуты, говорят, что такое Гоголь в русской литературе... Как на величайшую нелепость со стороны нашего журнала, как на самое темное и позорное пятно на нем указывали разные критиканы, сочинители и литературщики на наше мнение о Гоголе... Если б мы имели несчастие увидеть гения и великого писателя в каком-нибудь писаке средней руки, предмете общих насмешек и образце бездарности, – и тогда бы не находили этого столь смешным, нелепым, оскорбительным, как мысль о том, что Гоголь – великий талант, гениальный поэт и первый писатель современной России... За сравнение его с Пушкиным на нас нападали люди, всеми силами старавшиеся бросать грязью своих литературных воззрений в страдальческую тень первого великого поэта Руси... Они прикидывались, что их оскорбляла одна мысль видеть имя Гоголя подле имени Пушкина; они притворялись глухими, когда им говорили, что сам Пушкин первый понял и оценил талант Гоголя и что оба поэта были в отношениях, напоминавших собою отношения Гете и Шиллера...
Из всех немногих высоко превозносимых в «Отечественных записках» поэтов только один Лермонтов находился с их издателем в близких приятельских отношениях и почти исключительно одному ему отдавал свои произведения; так как этого нельзя было поставить в упрек ни издателю, ни его журналу, – то вздумали уверять, что немногим (sic![13]13
так! (лат.). – Ред.
[Закрыть]) успехом своим «Отечественные записки» обязаны Лермонтову. Это уверение воспоследовало после многих других уверений в том, что «Отечественные записки» никогда не имели, не имеют и не будут иметь никакого успеха... Судя по такому постоянству в мнении об успехе «Отечественных записок», можно думать, что эти люди скоро убедятся в следующей истине: если стихотворения такого поэта, как Лермонтов, не могли не придать собою большего блеска журналу, то еще не было на Руси (да и нигде) примера, чтоб какой-нибудь журнал держался чьими бы то ни было стихотворениями... При этом, может быть, вспомнят они, что «Московский вестник», в котором Пушкин исключительно печатал свои стихотворения, не имел никакого успеха, ни большого, ни малого, потому что в нем, кроме стихов Пушкина, ничего интересного для публики не было... Издатель «Отечественных записок» всегда сохранит как лучшее достояние своей жизни признательную память о Пушкине, который удостоивал его больше, чем простого знакомства; но признает себя обязанным отречься от высокой чести быть приятелем, или, как обыкновенно говорится, «другом» Пушкина: если он высоко ставит поэтический гений Пушкина, так это по причинам чисто литературным... В его журнале читатели не раз встречали восторженные похвалы Крылову и Жуковскому: – и это опять по причинам чисто литературным, хотя издатель и пользуется честью знакомства с обоими лауреатами нашей литературы и хотя последний удостоил его журнал помещением в нем нескольких пьес своих... В «Отечественных записках» читатели не раз встречали также восторженные похвалы Батюшкову и особенно Грибоедову; но этих двух поэтов издатель «Отечественных записок» даже никогда и не видывал... Что касается до Гоголя, издатель «Отечественных записок» действительно имел честь быть знаком с ним; но не больше как знаком, – и в то время, как «Отечественные записки» своими отзывами о Гоголе возбуждали к себе ненависть и навлекали на себя осуждения разных критиканов, – Гоголь жил в Италии, а возвращаясь на родину, жил преимущественно в Москве, и ни одной строки его еще не было в нашем журнале... Что же заговорят наши критические рыцари печального образа, если когда-нибудь увидят в «Отечественных записках» повесть Гоголя?.. О, тогда они завопят: «Видите ли, всё хвалят своих!..»
Мы не без умысла разговорились, по поводу поэмы Гоголя, о таких не прямо литературных предметах. Что делать! наша литература еще так молода, общественное мнение так еще не твердо, что нам должно говорить о многом, о чем уже давно не говорится в иностранных литературах и о чем, есть надежда, скоро совсем перестанут говорить и в нашей литературе... Журнал издается не для известного круга, а для всех; «Отечественные записки» имеют такой обширный круг читателей, в котором нельзя никак предполагать единства в мнении. Притом же иногородная публика, которая издалека смотрит на Петербург, как на центр литературной деятельности в России, не может иногда не приходить в смущение от противоречащих журнальных толков, не зная, кому верить, кому не верить: и потому должно давать ей ключ к истине не одними словами, но и фактами. Чего доброго! – может быть, скоро ей начнут превозносить Гоголя те же самые люди, которые поносили нас за похвалы ему и которые теперь, потерявшись от неслыханного успеха «Мертвых душ», подобно утопающему, хватаются даже за соломинку для своего спасения от потопления в волнах Леты и уверяют, что «Кузьма Петрович Мирошев» выше «Мертвых душ»... Чего доброго! – может быть, скоро эти люди будут упрекать нас в невежестве, безвкусии и пристрастии, если бы нам когда-нибудь случилось какое-нибудь новое произведение Гоголя найти неудовлетворительным... Времена переменчивы... Притом же есть люди, которые думают, что то и хорошо, что в ходу...
Но пока для нас еще существует достоверность, что все знают, кто первый оценил на Руси Гоголя... Мы знаем, что если б где и случилось публике встретить более или менее подходящее к истине суждение о Гоголе, особенно в тоне и духе «Отечественных записок», публика будет знать источник, откуда вытекло это суждение, и не примет его за новость... Теперь все стали умны, даже люди, которые родились неумны, и каждый сумеет поставить яйцо на стол... После появления «Мертвых душ» много найдется литературных Коломбов, которым легко будет открыть новый великий талант в русской литературе, нового великого писателя русского – Гоголя...
Но не так-то легко было открыть его, когда он был еще действительно новым. Правда, Гоголь при первом появлении своем встретил жарких поклонников своему таланту; но их число было слишком мало. Вообще, ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения; к его таланту никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели. И этому есть глубокая причина, которая доказывает скорее жизненность, чем мертвенность нашего общества. Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его бесконечную иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятным и что обществу легче полюбить его, чем понять... Впрочем, мы коснулись такого предмета, которого нельзя объяснить в рецензии. Скоро будем мы иметь случай поговорить подробно о всей поэтической деятельности Гоголя, как об одном целом, и обозреть все его творения в их постепенном развитии. Теперь же ограничимся выражением в общих чертах своего мнения о достоинстве «Мертвых душ» – этого великого произведения.
Нашей литературе, вследствие ее искусственного начала и неестественного развития, суждено представлять из себя зрелище отрывочных и самых противоречащих явлений. Мы уже не раз говорили, что не верим существованию русской литературы как выражению народного сознания в слове, исторически развившегося; но видим в ней прекрасное начало великого будущего, ряд отрывочных проблесков, ярких, как молния, широких и размашистых, как русская душа, но не более, как проблесков. Все остальное, из чего слагается вседневная деятельность нашей литературы, имеет мало или совсем не имеет отношения к этим проблескам, кроме разве того, какое отношение имеет тень к свету и мрак к блеску. Гоголь начал свое поприще при Пушкине и с смертию его замолк, казалось, навсегда. После «Ревизора» он не печатал ничего до половины текущего года. В этот промежуток его молчания, столь печалившего друзей русской литературы и столь радовавшего литературщиков, успела взойти и погаснуть на горизонте русской поэзии яркая звезда таланта Лермонтова. После «Героя нашего времени» только в журналах (читатели знают, в каких) и альманахе Смирдина явилось несколько повестей, более или менее замечательных; но ни в журналах, ни отдельно не явилось ничего капитального, ничего такого, что составляет вечное приобретение литературы и, как лучи солнечные в фокусе стекла, сосредоточивает в себе общественное сознание, в одно и то же время возбуждая и любовь и ненависть, и восторженные похвалы и ожесточенные порицания, полное удовлетворение и совершенное недовольство, но во всяком случае общее внимание, шум, толки и споры. Какое-то апатическое уныние овладело литературою; торжество посредственности было полное; видя, что никто ей не мешает, она овладела и романом, и повестью, и театром; она выпустила длинную фалангу уродов и недоносков, то передразнивая Марлинского в призраках, то шарлатаня французскою историею и литовскими преданиями, растягивая их на длинные томы скучных россказней; то перебиваясь старою ветошью мнимо патриотических и мнимо народных сцен пресловутой старины; то выдавая нам за народность грязь простонародья, за патриотизм сало и галушки, а за юмор и остроумие карикатуры нигде не бывалых идиотов, которые, по воле г. сочинителя, то глупы, то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и перелагая его драмы на русские нравы; то переводя на русский язык и русскую сцену мусор и щебень с заднего двора немецкой драматической литературы... И вдруг, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности, – вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта – и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...
В «Мертвых душах» автор сделал такой великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ними... Величайшим успехом и шагом вперед считаем мы со стороны автора то, что в «Мертвых душах» везде ощущаемо и, так сказать, осязаемо проступает его субъективность. Здесь мы разумеем не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажает объективную действительность изображаемых поэтом предметов; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая в художнике обнаруживает человека с горячим сердцем, симпатичною душою и духовно-личною самостию, – ту субъективность, которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу... Это преобладание субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходит до высокого лирического пафоса и освежительными волнами охватывает душу читателя даже в отступлениях, как, например, там, где он говорит о завидной доле писателя, «который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения; который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратиям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы»; или там, где говорит он о грустной судьбе «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи»; или там еще, где он, по случаю встречи Чичикова с пленившею его блондинкою, говорит, что «везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных, неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, – везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь; везде, поперек каким бы то ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотою упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно промчится мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, – и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хоть давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж...» Таких мест в поэме много – всех не выписать. Но этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних таких высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной дорожке, проторенной забубенным русским народом... Его же музыку чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: «Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!»...