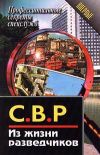Читать книгу "Абель-Фишер"
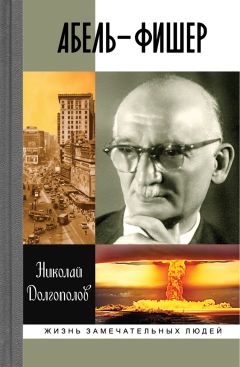
Автор книги: Николай Долгополов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сталин: в ГПУ разводили шпионов
Фишер и Абель – что побратимы. Оба чудом остались живы, не перемолоты в сталинских жерновах, как тысячи других чекистов. Ведь если по большому счету, то, кажется, Иосиф Виссарионович вообще терпеть не мог разведку – и резидент Орлов здесь относительно ни при чем. Недоверие, подозрительность всегда были среди главнейших, пусть и не провозглашаемых, сталинских принципов. А кого было брать на подозрение, как не разведчиков, невольно, по роду своей работы, но общающихся с иностранцами? И ведь не только под неусыпным взором стукачей дома, но и за столь ненавидимым вождем «железным занавесом», где за ними не уследишь. Так что как их не подозревать, по сталинской логике, в предательстве да в измене?
Неправленая стенограмма выступления Иосифа Сталина на расширенном заседании Военного совета при Наркомате обороны 2 июня 1937 года посвящена в основном раскрытому заговору маршалов. Тут розданы безжалостные оценки «политическим руководителям», как их называет выступающий, – Троцкому, Рыкову, Бухарину, Карахану, Енукидзе, Рудзутаку. Последний «всего-навсего оказался немецким шпионом». А «дальше идут: Ягода, Тухачевский, по военной линии Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник – 13 человек». Герои Октября, полководцы Гражданской войны, прославленные орденоносцы? Нет, по Сталину, «это – ядро военно-политического заговора, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером, и которое приспосабливало всю свою работу к вкусам и заказам со стороны германских фашистов».
Сталин клеймит военных «патентованными шпионами», что и является «подоплекой заговора». Во время пламенного выступления свои «голоса», поддерживающие сталинскую линию, верно и в нужный момент подают Ворошилов, Буденный, а также расстрелянные немногим позже кровавый палач Ежов и, что особенно неприятно, герой Блюхер, которого вскоре постигнет трагическая судьба Тухачевского.
Но особо поражают в неправленом сталинском издевательстве и явные нападки на Дзержинского. Мой давний знакомый, старейший чекист Борис Игнатьевич Гудзь, ушедший от нас уже в этом, ХХI веке, на 104-м году жизни, предлагал написать книгу о, как он говорил, «настоящем Дзержинском». Гудзь был уверен: протяни тяжелобольной основатель ЧК еще несколько лет – и ему бы не миновать сталинского молоха.
Впрочем, и при жизни к Железному Феликсу уже подбирались. Витали в воздухе некие обвинения. Сначала приспешники Ягоды пытались записать его в «двойные агенты», а чуть позже – и в шпионы. Какой же державы? Учитывая корни – в польские. Гудзь показывал мне кое-какие «обвинительные документы», приводил высказывания соратников Сталина. Эту полную туфту мы и собирались разоблачить. Но успели лишь написать книгу о самом Борисе Игнатьевиче…
И вот подтверждение слов бригадного комиссара, счастливо избежавшего расстрела и «лишь» уволенного, как Вильям Фишер и Рудольф Абель, из разведки. Привожу отрывок из тов. Сталина полностью и без всякой редактуры.
«Дзержинский голосовал за Троцкого, не только голосовал, но открыто Троцкого поддерживал при Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог бы оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист, и все ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось».
Ну что? Прав был Гудзь? Что ждало всех, хоть в какой-то мере с Троцким связанных, хорошо известно.
И здесь же, поразительное дело, на этой же строке идет пассаж о старом коммунисте-ленинце Андрееве, которому – вот же стечение обстоятельств! – отправил послание с просьбой о помощи сидевший без работы Вильям Фишер. Итак, без абзаца сталинское: «Андреев был очень активным троцкистом в 1921 году.
Голос с места: Какой Андреев?
Сталин: Секретарь ЦК, Андрей Андреевич Андреев».
Правда, потом Сталин несколько смягчает тон, говоря, «что такие люди, как Дзержинский, Андреев, и десятка два-три бывших троцкистов, разобрались, увидели, что линия партии правильна, и перешли на нашу сторону».
А я и не подозревал, что Феликс Эдмундович был на другой стороне.
Далее Сталин переходит к Ягоде, а уж через него и к разведке. «Ягода шпион и у себя в ГПУ разводил шпионов. Он сообщал немцам, кто из работников ГПУ имеет такие-то пороки. Чекистов таких он посылал за границу для отдыха. За эти пороки хватала этих людей немецкая разведка и завербовывала, возвращались они завербованными. Ягода говорил им: я знаю, что вас немцы завербовали, как хотите, либо вы мои люди, личные, и работаете так, как я хочу, слепо, либо я передаю в ЦК, что вы – германские шпионы. Те завербовывались и подчинялись Ягоде, как его личные люди. Так он поступил с Гаем – немецко-японским шпионом. Он сам это признал. Так он поступил с Воловичем – шпион немецкий, сам признался. Так он поступил с Паукером – шпион немецкий, давнишний, с 1923 года».
И эта полуграмотная болтовня радостно воспринималась высшими чинами Красной армии. Анонимные «голоса» с мест выкрикивали слова поддержки, осуждения, восхищения сталинской бдительностью. Даже дирижера не требовалось – оркестр играл по сталинским нотам не только самостоятельно, но и внешне охотно.
Неужели сам Сталин не понимал всего убогого примитивизма сказанного? Неужто сам верил в тупость толп чекистов, послушно вербуемых немцами или японцами? Ну а уж о том, как ведутся допросы и выколачиваются признания, он не мог не знать, поэтому исправно повторяемые «сам признался» выглядят дурацким рефреном.
А в конце выступления Иосифа Виссарионовича прорвало. Его ненависть к разведке сравнима разве с патологическим неприятием Троцкого. Обливал грязью и без всяких доказательств – случалось ли хоть нечто похожее в мировой истории? «Во всех областях разбили мы буржуазию. Только в области разведки оказались битыми, как мальчишки, как ребята. Вот наша основная слабость. Разведки нет, настоящей разведки… Наша разведка по военной линии плоха, слаба, она засорена шпионажем. Наша разведка по линии ГПУ возглавлялась шпионом Гаем, и внутри чекистской разведки у нас нашлась целая группа хозяев этого дела, работавшая на Германию, на Японию, на Польшу сколько угодно, только не для нас. Разведка – это та область, где мы впервые за 20 лет потерпели жесточайшее поражение. И вот задача состоит в том, чтобы разведку поставить на ноги. Это наши глаза, это наши уши».
Да это же прямой призыв к уничтожению всей разведывательной службы! И он был услышан, воспринят как призыв к действию. Вслед за Ягодой положил голову палач Ежов. Но сколько же людей преданных, невинных были обречены на смерть этой сталинской подозрительностью. Выбиты целые подразделения и отделы. Заменены на новичков опытнейшие, отправленные на тот свет кадры. Вызываемые из-за границы резиденты шли под расстрел. Закордонные резидентуры пустели, закрывались на год-два после массовых чисток, по существу убийств, своих же разведчиков, прекращали в 1939–1940 годах работу.
Так что судьба Фишера и Абеля в какой-то степени была предопределена отношением Сталина к чекистам. Грешно писать, будто Вильяму Генриховичу повезло. Но отстранение в определенной степени вывело из-под смертельного удара.
Дочь навсегда ушла с отцом в разведку
Рассказы о полковнике-нелегале Фишере его дочери Эвелины Вильямовны я считаю если не истиной в последней инстанции, то наиболее достоверными свидетельствами о Вильяме Генриховиче.
Иногда Эвелина была резковата, частенько язвительна, зато всегда правдива. В последние перед кончиной годы она слегка оттаяла, сделалась более откровенной. Чувствовала себя единственной хранительницей непростой, иногда даже волею судьбы и разведки намеренно запутанной семейной истории.
Жизнь таких людей, как ее отец, неизбежно окружена недомолвками, тайнами, легендами, домыслами. Эвелина Фишер была способна развеять их, а иногда, наоборот, – подтвердить, добавить свежий факт к, кажется, уже хорошо известному.
В том-то и суть нелегальной разведки, что многое в ней скрыто навсегда. Потому можно часами спорить о достоверности того или иного эпизода в судьбе разведчика-нелегала Фишера, но я больше всего верю Эвелине. И позвольте в этой главе именовать мою собеседницу именно так – с некоторой фамильярностью, которой в наших долгих беседах не допускал.
Она не скрывала своих лет, чувствовалось, что ее одолевали недуги. Страдала тяжелейшим заболеванием кожи, и, кажется, поэтому иногда ее словно жгли изнутри раскаленные угли, жар которых доходил и до меня.
Мы впервые встретились еще летом 1993-го на их фамильной даче. Потом она заезжала ко мне в редакцию. Тяжелые и ломкие годы, когда жизнь складывалась иногда непредсказуемо и неизбежно трудно для таких, как Эвелина. Служба, по обычаю своему, ее не оставляла, но все равно, жить-то как тяжко! Уходило старое – годное и негодное. Нарождалось нечто новое, отыскать свое место в котором для людей ее возраста казалось непосильным. Она, до чего же это было видно, нуждалась, но оставалась сама собой. Получила скромные гонорары за публикацию наших с ней газетных бесед, аккуратно пересчитала деньги. И тотчас потратила их в киоске на фолиант о французской живописи. Я попытался отговорить, что-то бурчал, но в ответ получил такой взгляд…
Бывала довольна и недовольна моими статьями. Любой уход от ее и только ее трактовки событий виделся Эвелине неуважением к памяти отца. Дулась, обижалась, случалось, корила меня сурово и незаслуженно.
Но нас тянуло друг к другу. Я вгрызся в тему, и Эвелина поняла: быть может, мне удастся сделать то, чего не успеет она, – смогу когда-нибудь рассказать о ее отце настоящей книгой.
Мы изредка виделись на каких-то мероприятиях, посвященных Абелю – Фишеру. Кстати, всегда и везде Эвелину сопровождала очень милая и приятная женщина приблизительно ее же возраста. Незнакомка, которую никогда не представляли, излучала дружелюбие, хотя всегда была и скромна, и молчалива. Чувствовалось, что в этом дуэте Эвелина если не старшая, то уж точно – главная. Потом, уже после смерти Эвелины Вильямовны, мы познакомились с этой женщиной – ее двоюродной сестрой, приемной дочерью Фишера Лидией Борисовной Боярской, также очень много давшей мне для работы над книгой.
Отмечая 100-летие со дня рождения Фишера, мы сидели за столом с соратниками по его родному управлению, где Вильяма Генриховича ценят, отлично помнят, но уже не знают лично. По-моему, тогда и пришло к нам с Эвелиной Вильямовной понимание: надо встречаться. И наша работа возобновилась.
Она согласилась на мои приходы в отцовскую, а теперь ее, квартиру на проспекте Мира. На утомлявшие беседы. На то, что появлялся я только по субботам-воскресеньям. Эвелина подстраивалась под мое жесткое рабочее расписание. Надо было передавать кому-то свои знания об отце.
Больше всего, это уж точно, Эвелину мучила безысходная, как она полагала, несправедливость. Когда я нечаянно называл Вильяма Генриховича фамилией «Абель», разговор мог и оборваться. И сам Фишер, и семья переживали: до конца дней не мог разведчик освободиться от чужого имени, потому как… не разрешало начальство.
Эвелина считала, что из ее квартиры «постепенно исчезал дух отца». Странно, но мне так не казалось. Было в ней нечто от него, из той эпохи, и это скромное жилище представлялось мне именно обиталищем нелегала.
Понятно, что картины, рисунки, открытки, сделанные в Штатах, подписаны по-английски – Abel. Но так же, только на русском, подписаны и некоторые литографии, рисунки, полотна Вильяма Генриховича, сделанные уже в Москве, после возвращения. Он щедро дарил их друзьям и знакомым, подписываясь – Абель. И под этим же именем согласился сняться в фильме «Мертвый сезон». Если б уж очень не хотел, то вряд ли бы уговорили. Как Абель выступал он перед доверенными людьми, встречаясь с самыми разными, большей частью все же специфическими, аудиториями. Другое дело, что две свои книги и пьесу он подписал совсем другими именами. Таковы были законы жанра – совсем не писательского, а его, нелегального, разведывательного. И Абель, и все прочие имена были данностью, которой не избежать. Но Эвелина с мамой, Еленой Степановной, воспринимали все это несколько по-иному.
– Ну запомните, мой отец – Фишер Вильям Генрихович, полковник Фишер, – эмоциональность Эвелины Вильямовны порой перехлестывала через край. – Рудольф Абель, дядя Рудольф – это ближайший папин товарищ. Больше всего в конце жизни отец переживал, что чужое имя так и прилепилось к нему до конца дней. Начальство никак не разрешало с ним расстаться. Народу он должен был быть известен только как Абель. И лишь за день до похорон мы с мамой подняли восстание: хороним на Донском под собственным именем.
Это было единственное поднятое ею восстание. Эвелина ни дня не служила в разведке, но жизнь сложилась так, что она беспрекословно подчинялась ее суровым правилам. Отец в 1930-х впервые вывез ее с матерью в Норвегию, затем на собственную родину, в Англию, где маленькая девчушка служила нелегалу-радисту отличным прикрытием. Кстати, даже когда места боевых заданий лейтенанта госбезопасности Фишера были частично рассекречены, Эвелина Вильямовна все-таки не слишком охотно раскрывала подробности жизни в Англии и Норвегии.
А времени нам на беседы, как оказалось, было отпущено совсем мало. Эвелина Вильямовна Фишер скончалась на 78-м году жизни.
И нет уже той крошечной, 27-метровой, как она говорила, квартирки на проспекте Мира. Перешла в иные руки. Вряд ли новый хозяин даже догадывается, что здесь, в двух комнатках и кухоньке, с 1962 по 1971 год жил с женой и дочерью человек, ставший легендой мировой разведки.
Та комната, что поближе к входной двери, напоминала о Вильяме Генриховиче его развешанными на стенах картинами. Были они разные. Русская наша природа мирно соседствовала с чисто американскими пейзажами и портретами. Мне почему-то больше всего запомнился здоровенный черный-пречерный негр, тщательно выписанный масляными красками. В цвете он выглядел особенно впечатляюще.
Показывала мне Эвелина и несколько книг, от отца оставшихся. Разговоры об устройстве здесь какого-то музея, мемориальной комнаты хозяйка пресекала: папа ненавидел помпезность. И потому многое она отдала в Кабинет истории внешней разведки. Тот самый, что, как и должно быть, открыт не для многих. Там, искренне считала дочка, им и место.
Детей у Эвелины Вильямовны, вышедшей замуж в 1956-м и через два года разошедшейся с первым и последним мужем, не было. Она души не чаяла в племяннике Андрюше. Впервые увидел я его в этой маленькой квартирке. Вот кто ухаживал за теткой трогательно и прямо с сыновьей заботой. Продукты, лекарства, даже уборка – все было на нем. Я удивился, узнав уже после ее ухода, что Андрею Боярскому за 50. Моложавый, подтянутый, светловолосый, сделан он из несколько иного теста, нежели род Фишеров. Похож на маму – двоюродную сестру Эвелины и приемную дочь Вильяма и Эли Фишер – Лидию Борисовну Боярскую.
Теперь Андрей – единственный славный продолжатель рода Фишеров по мужской линии. Правда, остались родственники в Рыбинске. Они даже выставки устраивают, чтят Вильяма Генриховича, но это, как говорят Боярские, все-таки иное ответвление. Андрей же тянул и вытягивал тетю Эвелину, как только мог.
Управление, где работал Фишер, тоже помогало. Консультации врачей, лекарства…
Болела она долго и тяжело, а умерла среди своих. Есть в необъятном Подмосковье уютное и тихое место, где трогательно заботятся о честно отработавших на СССР, а теперь вот Россию, разведчиках, большей частью – нелегалах. Незаметный особняк вдали от шумных дорог принимает их, усталых и замученных болезнями, как родных. Рядом вежливые искренней вежливостью сестры, опытные доктора вместе с частенько наезжающими прикрепленными – так называют молодых и не очень сотрудников, годами, а иногда и десятилетиями, помогающие «своему» ветерану. В этой Службе нет бывших, здесь не бросают отслуживших.
А у живущих в особнячке особые разговоры, которые не дай бог услышать кому-то чужому, хотя чужих тут по строгим законам не может быть и на километры в помине. Лишь изредка в размеренный ритм уходящей жизни врывается гул пролетающих где-то самолетов, словно напоминая обитателям о былых рискованных скоростях, которые им так хорошо знакомы.
Конечно, Эвелине Вильямовне было тут спокойнее, чем в двухкомнатной квартирке на проспекте Мира, «выбитой» разведкой для полковника.
Ее личная жизнь, как мне кажется, не сложилась из-за все той же секретности, в которую полностью погрузили сотрудника Управления нелегальной разведки Вилли Фишера. Даже в несколько разболтанном по советским временам Институте иностранных языков Эвелина держалась особняком. Нельзя чересчур сближаться с сокурсниками. Нельзя приглашать к себе домой. И уж совсем нельзя упоминать, где трудится отец. Одним из редких дозволенных ей развлечений была игра в шахматы. Она познакомилась с будущим мужем за шахматной доской. Но и с ним еще до акта бракосочетания провели соответствующую беседу.
Тема развода оказалась запретной, но, как я понял во время наших общений, Эвелина Вильямовна через каких-то пару лет рассталась с супругом потому, что невольно, но постоянно сравнивала его с Вильямом Генриховичем. А в чью пользу могли быть сравнения с отцом, умственный уровень которого тестировавшие его в тюрьме американцы оценили, как «близкий к гениальности»? Когда я все-таки просил поведать немного о бывшем муже, то Эвелина, задумавшись, лишь припомнила, что «к обстоятельствам работы моего папы он относился с пониманием». Аттестация скромная. И понятная.
Вместе с мамой они покорно, годами дожидались отца из затянувшейся командировки в Штаты. Терпели ворчание соседей-недоброжелателей по даче, в глаза им твердивших, что глава семейства сидит как враг народа или бросил их и живет с другой. А что оставалось? Лучше мерзкие слухи, чем признание: «Дурачье, да он советский резидент в Штатах». А когда отца выдал предатель, они тоже ждали. Сказали написать письмо президенту США об обмене на американца Пауэрса – написали. Но не раньше, чем сказали. Таковы законы жанра. Приказали поехать на обмен, чтобы еще раз удостоверились американцы, что Абель действительно хороший отец и муж, – собрались за несколько часов и поехали.
О существовании советского разведчика Абеля внимательная публика могла узнать не из фильма «Мертвый сезон», а на несколько лет раньше. Тогда в газете Верховного Совета СССР «Известия», а не в стопроцентно официозной «Правде», в коротеньком письме в редакцию жена и дочь благодарили правительство страны за возвращение на родину своего мужа и отца.
По-моему, настоящая жизнь и началась для нее тогда, после его освобождения. Вот когда они могли быть вместе. Ездили по всему Союзу, ходили на концерты и в музеи. Она училась у него новому делу – шелкографии и старому – фотографии. В обоих нелегал Фишер был силен. Обустроили дачу так, как позволяли скромные средства и как хотел он. Эвелина вместе с ним ездила на съемки фильма «Мертвый сезон», где Фишеру разрешили назваться Абелем и поприветствовать зрителей с нашлепкой на волосах. Не для конспирации, а чтобы прикрыть лысину. Она любила смотреть за отцом, рисующим скромную московскую природу. Все было хорошо и никого и ничего было не надо. Но счастье, как обычно, коротко: отец умер. За ним ушла и мама. Родственников осталось – двоюродная сестра и племянник Андрей. Друзей и вещей нажито не так много. А нужны ли они были ей?
…Не было за долгие десятилетия моих журналистских хождений собеседницы сложнее, чем Эвелина Вильямовна Фишер. То встречала меня радостно: «Ну, где вы? Я жду-жду. И книги ваши уже прочитала». А бывало, словно по живому резала: «Как вы осмеливаетесь задавать такие вопросы?! Неприлично!» И я в сердцах уходил из квартиры на проспекте Мира. Но я никогда не хлопал дверью, и в конце жизни даже «железная» Эвелина начала кое-что рассказывать.
На их фамильной даче в Челюскинской ее ирисы росли даже за забором. А перед небольшим деревянным домиком – целые островки цветов. Хрупкая, невысокая женщина холила своих любимцев нежно и со знанием дела, пусть и не сбылась мечта побывать в ботанических садах разных стран. В этой непростой жизни дочери разведчика была уготована роль, которую я бы назвал так: терпеливое благородство…
Теперь время Эвелины Вильямовны истекло. По ее воле она кремирована и воссоединилась с отцом в фамильном склепе на Донском кладбище.
Но сейчас, на страницах этой книги, Эвелина вновь вспоминает об отце и семье. Я сознательно сохранил здесь некоторые повторы, не сократил упоминавшееся в первых главах. Ведь это ее интонация, во многом – ее книга, по крайней мере – ее глава. Здесь – взгляд дочери, а не писателя и не историка. Пусть ее неправленая прямая речь передаст и интонации, и правду в изложении дочери. Эвелина Вильямовна, как мне кажется, напоминает полковника Абеля не только внешне. Вот запись нашей беседы:
– Эвелина Вильямовна, судя по всему, ваш отец все же общался с журналистами?
– Был период, когда отец встречался с кем-то из писателей. И домой приезжал раскаленный. Он никогда не рассказывал, о чем они говорили, потому что к нам это не имело отношения, но раздражения и чертыханий хватало.
– А кем вы работали?
– Всю жизнь редактором. В «Прогрессе», потом двенадцать лет в одном техническом институте, переводчиком английского в агентстве печати «Новости», последние годы в журнале «Новое время». И в 1984-м ушла на пенсию.
– И со своим знанием английского вы нигде не были и никуда за рубеж не выезжали?
– Сейчас я, наверное, могу поехать. Да, мне хотелось поездить по ботаническим садам мира. Но в Штаты почему-то не тянет, даже совсем нет.
– Это обида за отца?
– Не знаю. Нет. Хотя, может, и да. Мне там далеко не все нравится. А раньше понимала, что не надо мне никуда ездить и не надо даже пытаться. Для меня был ясен вопрос: есть вещи, которые мне недоступны. Просто купить загранпутевку и поехать нельзя.
– Такая жизнь в семье разведчика-нелегала – вне зависимости от того, в Москве он или где-нибудь далеко, накладывала на вас определенный отпечаток. Вы все время оставались и даже сейчас остаетесь частью какой-то цепочки, разорвать которую сложно.
– Считала, что в этом и смысла никакого нет. Я, можно сказать, родилась в этой ситуации, в ней росла, развивалась и поделать тут ничего не могла. Да, наверное, было бы проще, если бы папа работал инженером, художником. Возможно, я тогда была бы другим человеком.
– Чего-то в своей жизни вы были все-таки лишены, правда?
– Однако от того не страдала. Хотя да, были неудобства, и на жизни моей это сказалось, особенно в том плане, что я не очень охотно заводила контакты.
– Избегали их чисто подсознательно?
– Не могу судить, как складывалась жизнь у других детей разведчиков, а меня мама учила много не говорить.
– И когда поступили в Московский институт иностранных языков, друзей тоже не заводили?
– Нет, я мало с кем общалась, близких подруг не было. Был, правда, один парень и одна девочка – мы играли в шахматы.
– А ваш муж догадывался, на чьей дочке женился?
– Ну, более-менее. Когда выходила замуж, я сочла нужным поставить его в известность. В этом смысле мой бывший супруг был вполне лояльным человеком, вел себя достойно. Но вопрос в другом. Когда отец с 1948 года находился там, здесь у нас было столько сложностей. Заявлялась на дачу комендантша поселка и стращала маму: «Мы все равно выведем вас на чистую воду. Скрываете, что муж репрессирован». Или приходили, говорили, что папа вовсе ни в каких не командировках, что у него вторая семья, дети. Это вызывало у меня одну реакцию: смотреть на этих людей и вообще не замечать. Ничего я им возразить не могла. Потом, они великолепные психологи и поняли бы, если бы я соврала. Вы полагаете, после таких эпизодов желания общаться с населением у меня прибавлялось?
– Что вообще вы говорили людям?
– Что отец в командировке. И тут же: а где, а в какой? Или, когда папы уже не стало, сюда пришел настырный такой мужик: «Я все о вашем отце знаю. Он был лучший агент-двойник во всем мире». Наглая рожа. Я была готова его просто избить.
– Эвелина, что, если обратиться к воспоминаниям, вероятно, более милым – совсем детским? Вы бывали с отцом в командировках. Что-нибудь о том периоде помните?
– Мама рассказывала, что пыталась на уровне моего детского сознания нечто такое мне растолковать. Во всяком случае, внушила категорически не разговаривать с посторонними…
– А на каком языке вы могли бы это делать?
– Там были немецкий, французский, русский. А первым языком дома – английский. Судьба так распорядилась. Когда меня первый раз увозили, мне было два года. Тот возраст, когда все равно, на каких языках говорить. И был период, когда я болтала на всех одновременно. Какое слово знала, то и пихала, не понимая, что это разные языки. Я скажу вам другое: по-русски я говорила с акцентом, и, когда мы вернулись обратно, мне пришлось поучиться.
– А в тех странах, где работал отец, на каком языке вы общались с детьми?
– Мало общалась, хотя и не думаю, что мне, масенькой, говорили, почему мы в командировке и кем работает мой папа. Это бы наложило бремя на любого ребенка: он знает какой-то секрет. Чем меньше человек знает, тем легче ему выжить. Во время последней поездки, когда я была постарше, надо было идти в школу. Потому что если бы я в школу не пошла, было бы заметно. И там, помню, я очень переживала: у всех детей куча всяких кузин, дядей, бабушек, а у меня никого.
– И никаких подозрений?
– Абсолютно.
– Но вы же могли вставить какое-то слово, сказать что-то не то.
– У детей срабатывает великолепный инстинкт, с кем на каком языке разговаривать.
– Но, насколько я осведомлен, ваша мама говорила по-английски с акцентом.
– Мама говорила по-русски, но я уже понимала, что дома я общаюсь с ней так, а в школе между собой так не общаются, и, следовательно, я должна говорить с детьми, как говорят они.
– А были какие-то случаи, когда вы чувствовали, что помогаете отцу в работе?
– Нет. Но, может быть, в детстве я бессознательно и оказывала какие-то услуги. Ребенок этого не помнит. Зато я помню, какого цвета обои были в том нашем доме или конструкцию сушилки на кухне. Но о детских поездках я никогда не упоминала.
– И даже сейчас о них не расскажете?
– И даже сейчас.
– Вы очень тактично и ловко обходите конкретные вещи. А я нетактично пытаюсь вас о них расспросить…
– Надо вам признаться, что обходить всякие словесные тонкости мне помогает моя редакторская профессия.
– Хорошо, а когда отец уезжал в 1948 году, вы знали, куда и зачем?
– Сказать, что знали, не могу. Но мы догадывались, что всерьез и надолго. Уже появилась способность как бы читать между строк.
– Читать, но не спрашивать?
– Естественно, это не принято. Ну хорошо, я спрошу – и в ответ ничего, кроме неприятностей. Мой отец был человек вспыльчивый, и если бы я настырно лезла с расспросами, то наткнулась бы на хороший втык. У нас сложилась система: многих тем мы никогда не касались. Например, отец терпеть не мог разговоров о политике.
– А о работе?
– Тем более. Задавать вопросы было некорректно. Хотя что-то он вдруг мог рассказать. Приехал с работы недовольным, о чем-то буркнул. Приехал еще раз, буркнул снова. И я делала выводы. Но, возможно, совершенно неверные. Помню, папа был очень огорчен, когда ему не разрешили встретиться с его адвокатом Донованом.
– Вы знаете, я попытался разыскать его в США. Оказалось, адвокат умер, юридической конторы больше не существует.
– Донован скончался давно, кажется, в 1968 году. Мы с мамой общались с ним в Западном Берлине при обмене в 1962-м. Запомнился мне тем, что весь был цвета свеклы. Помогал при обмене отца, но боялся пересекать границу Западного и Восточного Берлина. Опасался, что в Восточном его возьмут. А красный был от напряжения и высокого давления.
– Ваша семья не поддерживала с ним связи?
– Нет. Он никогда не верил, что мы с мамой действительно жена и дочь полковника Абеля. Но с отцом у него были дружеские отношения, и потому, приехав однажды в Москву, он попытался с ним встретиться. Но…
– Но все же вам никогда не хотелось пойти по стопам отца? Вы уж извините за словесный штамп.
– Однажды возникло такое желание. В 1955 году, когда он приезжал из США в последний отпуск. На что папа сказал мне: одного на семью хватит.
– Вы тогда догадывались, откуда он приехал?
– Мы знали. Потому что он привез фотографии. И папа уже кое-что рассказывал.
– О чем?
– О природе, о некоторых вещах.
– Но почему идея пойти в разведку родилась именно в 1955-м?
– Просто у меня возникла мысль, что было бы хорошо быть вместе с моим папой. В детстве у меня с ним были конфликтные отношения. И характеры у нас похожие: независимые, вспыльчивые, достаточно сложные. Поэтому мы оба топали ногами и громко кричали, пока не прибегала мама и не гасила ссору. Но я подрастала, перестала лепетать «не буду» и сделалась ему интересной. Я была папиной дочкой. Дай-то бог, чтобы у всех детей были такие отношения, как у нас с отцом. И вот я подумала: а что, если отец возьмет и меня с собой? Поговорила с мамой. Она высказалась не слишком конкретно, и я решила, что могу проявить инициативу. Но то ли отец чувствовал сложность ситуации, то ли действительно не хотел. Потом, когда он вернулся, мне предлагали пойти туда на работу. И как-то мы с папой поговорили и согласились, что нет. Я болела, лет уже было немало, да и новая специфика, аттестация, строгая медкомиссия. И кем бы я стала – старшим лейтенантом, а через несколько лет в отставку в чине капитана. Не нужно было это все, да и поздно уже.
– Об аресте отца вы узнали из газет?
– Нет. Мы с мамой приехали из отпуска, и тогда были разговоры, что он должен возвратиться вот-вот, буквально этим летом. Мы даже оставляли ему весточки, как найти нас в Кувшинове – на родине мамы, куда наведывались летом. Но была тишина. Тогда я позвонила по оставленному отцом телефону, и мне сказали бодрым голосом: «Эвелина, вас хочет видеть наше начальство». Я перетрухнула не знаю как. Думала, ляпнула на работе кому-то что-то не так и не то и меня будут драить. Я туда приехала, и они мне все рассказали. Спросил Виталий Григорьевич Павлов, почему, с моей точки зрения, отец взял псевдоним – Абель. И я объяснила: это имя папиного друга.
– И что вы с мамой в этот период делали?
– Зачем эти наивные вопросы? Что тут можно было делать? Да и маму я решила поберечь и сразу ей об аресте не сообщила. Но у дурных вестей длинные ноги. Все говорят – железный занавес, железный занавес, а люди чужие голоса слушали, и пресса иностранная, хоть Главлит ее и кромсал, на глаза попадалась. Подруга по инязу видела портрет папы у нас дома на столике. Работала она в Управлении дипломатического корпуса в каком-то посольстве. Туда советская цензура не добиралась, и ей попался английский журнал с описанием процесса. Все мне выложила, даже журнал ухитрилась на денек вынести. И тогда я обо всем рассказала маме: лучше уж я, чем посторонние.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!