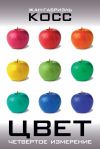Читать книгу "Карты. Нечисть. Безумие. Рассказы русских писателей"

Автор книги: Николай Гоголь
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Грин
Мрак
IЯ никогда не находил удовольствия в так называемых «светлых явлениях», отчасти по скучнейшей их одинаковости, законченности и шаблонности, отчасти по причинам необъяснимого происхождения, лежавшим, надо полагать, в основе моей души со дня рождения. Грубое, топорное зло тоже отталкивало меня, особенно если оно преследовало какую-либо практическую, материальную цель: деньги, наслаждения, вообще – корысть. В жизни более всего нравилось мне зло обдуманное, бесцельное зло для зла, для спорта, для удовлетворения преступных инстинктов.
Происходя из богатой, образованной и почтенной семьи, я, в силу своего положения, должен был вести обычную жизнь людей нашего круга: посещать балы, концерты, вечера, модные лекции, театры и выставки. Обстановка такого времяпрепровождения мало располагала к искренности и откровенности, и мне нельзя было ни с кем поговорить о себе, большинство, если не все мои знакомые, были порядочными лицемерами и, вероятно, прозвали бы меня чудовищем, посвяти я их в тайны своих мрачных наклонностей. Я жил одиноко в мире жестоких грез.
Определить, объяснить, как, с какого именно времени появилось, выросло и окрепло во мне желание совершить убийство – я не мог бы, даже размышляя годами. Вид живого человека, кто бы он ни был, начал возбуждать во мне тяжкую, глухую тоску, потребность прекратить эти не зависящие от меня движения рук, ног, спины, шеи, эти звуки чужого голоса, дыхания, эти явления чужой жизни, тревожившие и угнетавшие мое больное внимание. Вид трупа не менее угнетал меня, но то было, кажется, ревнивое чувство, ревность к смерти, опередившей меня в данном случае.
Я опускаю подробности борьбы с собой в эти жуткие месяцы, – скажу лишь, что потребность убить стала неодолимой, я должен был уничтожить человеческое существо или всю жизнь ужасаться этим настойчивым, маниакальным стремлением. Решение созрело внезапно, как бы во сне; я вздохнул полной грудью и стал обдумывать преступление.
IIНе очень смешно это: обдумывать убийство, не зная еще кого убить, где и каким образом. Я три дня подыскивал мысленно подходящую жертву. Многие из знакомых моих не годились для этой цели, все это был народ чванный, сильный, здоровый, удачливый в жизни и в делах, словом, не принадлежащий к типу людей, погибающих тайной, насильственной смертью; в наружности их не было ничего рокового, а этого-то я и искал, ради не цели, а логичности преступления. Наконец я остановился на Рифте.
Рифт был молодой человек, болезненный, склонный к предчувствиям и меланхолии. Собою представлял он не разочарованного, а тот человеческий пустоцвет, с каким склонны возиться истеричные дамы, утверждая «избранность натуры» там, где душа просто зевает от скуки и бесталанности.
Рифт любил повторять, что жизнь его трагична и что он предчувствует близкий конец. Правда, трагического в его жизни было лишь множество долгов, но он так уверил себя в горестности своего существования, что разговаривал не иначе, как вздыхая и морщась.
Лицо аскета, глаза больной овцы и волосы Рубинштейна – вот его грубый портрет.
Он любил охоту, я тоже (по ужасным причинам, уже рассказанным), и мы в теплый осенний день отправились двое в горные леса Лилианы, моей родины.
К закату солнца достигли мы весьма мрачной и удивительно дикой долины, в которой я никогда не был. Я спрашивал себя: не влияние ли некиих неведомых сил, что мы остановились на ночлег именно в такой местности? Ее вид наполнял душу угрюмостью, вызывая скорбные и зловещие мысли, необъяснимый трепет почувствовал я, рассматривая пейзаж. Как нельзя более был создан он для убийства или другого черного дела.
Плохая репутация мельниц, лесных постоялых дворов и каменоломен, быть может, складывалась под влиянием обстановки, толкающей к преступлению. Эта долина была ровным, каменистым скатом к обрыву пропасти. Мох, какого-то неприятно желтовато-белого цвета, покрывавший боковые холмы, и кусты терновника составляли всю растительность долины, придавая ей как бы прокаженный, проклятый вид, однотонный и отвратительный.
Вялые изгибы холмов и тучи, обложившие небо, и мертвенный последний свет запада, в соединении с огромной, дикой пустотой, с молчанием и полной уединенностью – веяли отчаянием. Именно отчаяние души, увидевшей себя преступно-свободной, выражалось этой дьявольской местностью. Я заглянул в пропасть: на глубине – высоте колокольни – стоял непроницаемый слой белого пара, скрывавшего бездну. Из пропасти несло холодом.
– Неужели мы будем ночевать здесь? – сказал Рифт. – Не очень это веселое место, место не для нервных людей, – прибавил он неохотно, как бы боясь действия слов.
– Какая разница, – возразил я, – между своей спальней и таким ночлегом? Я не вижу никакой разницы.
– Вы шутите, – сказал он.
– Так же умирают в постели, как и в пустыне, – сказал я, пугаясь сказанного, смысл которого был известен мне и чужд Рифту. Он вздрогнул.
– Что это с вами? – спросил Рифт. – Ваша речь похожа на бред… вы дрожите… вы больны?
Тут он сделал некий необыкновенно жизненный, характерный для него жест: слегка стукнул ногой о ногу, как бы шаркнув. Неудержимое желание убить его поднялось во мне, но я ждал, ждал, когда мной овладеет ужас неизбежного и передастся Рифту и когда с ужасом, с тоской и криком я нападу на него инстинктивно, как кошка бросается на мышь.
Привязав лошадей к кустам, мы нарубили сколько могли терновника и зажгли костер. Я помню, что мы закусывали, говорили о городских событиях и уснули, помню также, что перед тем, как уснуть, я странным образом перестал думать об убийстве и, удивляясь этому, отложил дело.
Я спал очень крепко. Я проснулся (взглянув на часы) в середине дня. Еще лежа, я подумал, что Рифт вчера ошибся, говоря о кабанах по ту сторону гор, и захотел сказать ему, что там нет кабанов, но, осмотревшись, увидел с безграничным удивлением, что Рифт исчез. Не было ни его, ни его ружья, ни одеяла, ни лошади. Я был один.
Ничего не понимая, я закричал, призывая Рифта, и не получил отклика. Я выстрелил несколько раз – и безрезультатно. Теряясь в предположениях, в беспокойстве о пропавшем приятеле, я объездил несколько верст в окружности и не заметил даже следов копыт.
– Я мог пропустить следы, – сказал я, останавливаясь на краю пропасти с некоторым сомнением, с некоторым уклоном мысли в сторону невозможного. – Я торопился… наверное, Рифт пошутил со мной и он где-нибудь здесь поблизости. Но где?
Я не мог также не видеть, что нахожусь в очень бодром, здоровом и ясном состоянии духа. Я как бы вышел из укрепляющей ванны. Я выспался. Мои планы убийства, мои зловещие, повседневные замыслы казались теперь, хотя я вспоминал это с лукавой и рассеянной леностью, очень смешным капризом, недостойным пожатия плечами, даже воспоминания. Тем более я хотел отыскать Рифта. Я хотел воочию увидеть то, чего не сделал, в живом образе человека. Я знал теперь, что никогда не мог стать убийцей, я, джентльмен с головы до ног, сливки цивилизации, человек с лицом мыслителя и привычками сноба!
Как сказал, я стоял, будучи верхом, на краю пропасти, смотря в нее с тем недоумением, с каким потерявший что-либо человек беспомощно уставляется взглядом на любую вещь, желая сосредоточиться для понуждения памяти. Нервность моей лошади удивила меня. Конь беспокойно переступал с ноги на ногу, прядал ушами и все время находился в состоянии сдавленного уздой кипения, его ноздри широко раздувались, и вот он оглушительно, потрясающе заржал, высоко вскинув прекрасную черную голову.
Прошло несколько изнурительных мгновений ожидания, в течение которых неподвижно совершалось во мне бурное потрясение, я слышал вихри и голоса, стоны и оглушающие удары, и неумолимое придвижение ужаса почти лишило меня сознания. Тогда из глубины пропасти, из слоя белого холодного пара, опущенного в ее расселистый зев, достигло моих ушей слабое ответное ржание, и я узнал голос лошади Рифта.
Этого было достаточно, чтобы моя воскресшая в судорогах и в болях память вернула меня к тому глухому часу ночного молчания, когда я, действуя бессознательно, душил сонного Рифта, когда тащил к пропасти труп и, бросив его в пар, сделал то же с вещами жертвы, и когда, терзаясь невыносимым страхом преследования, подвел к обрыву бедную лошадь, выпустив в нее пулю, после чего она покатилась к мертвому своему хозяину.
Вероятно, после несмертельного выстрела тело ее застряло где-то в уклоне заросшего кустами обрыва пропасти, и теперь околевающее животное отвечало призывному наверху ржанию.
И теперь, когда освобожденная от мрака душа силилась понять, как могла она дышать этим мраком и всячески отталкивала его, я должен был завершить жизнь с неотступно звучащим из бездны ржанием и мертвым лицом Рифта перед глазами.
1917
Серый автомобиль
I16 июля, вечером, я зашел в кинематограф с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.
Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:
– Что с вами? Вы так рассеянны.
Я ответил:
– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.
Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:
– Когда окончите вы ваше изобретение?
– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.
– Что это значит?
– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.
– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?
– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.
Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец она сказала:
– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?
– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил: – Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.
– Но почему?
– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.
– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.
Я поцеловал ее руку и поспешно ушел, чтобы не уличить случайно эту девушку в дезертирстве – она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я еще.
Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго, долго смотреть на нее. Но я уже дал слово не лгать, так как очень устал от лжи. Как все, я жил окруженный ложью, и ложь утомила меня.
Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струей ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках.
Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал.
Это был скверный театрик третьего разряда, с грязным экраном и фальшивящей пианолой. Она разыгрывала трескучие арии. Картина, каких много – тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для ее развития затрачено столько энергии, – беспрерывного, мелькающего движения экранной жизни. Я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарование артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления – все это было брошено судорожною тенью на полотно ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих, позабыв, в чем состояло представление, – так противно их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Мое удовольствие, при всем том, было не более как злорадство. На моих глазах энергия переходила в тень, а тень в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведет.
Между тем, частью рассматривая содержание картины, я обратил другую, большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль – ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений, у меня не было никаких зрительных указаний – никаких примерно индивидуальных черт мотора, – но его цифра С.С. – 77—7, – некогда – я остро чувствовал это – имела связь с определенным уличным впечатлением, характер и суть которого, как ни тщился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущения его минувшей значительности.
Однако этого не могло быть. Фильма вышла из американской фабрики, и съемка различных ее сцен была произведена, судя по характеру улиц, в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными; я же не выезжал из Аламбо лет пять и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание было не более как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, – этот автомобиль с этим шофером я видел.
Когда нами овладевает уверенность в чем-нибудь, хотя бы мало – или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымазанные клеем листья, – каждое движение прочь ловит и связывает ее крылья новой помехой. Таковы фантомы ревности или преследования, болезни – всего, что так или иначе угрожает. Самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам, возникающим из пустоты. Уверенность того рода, какой я проникся в кинематографе, не имела ничего пугающего или неприятного, если не считать моего отвращения к автомобилю, но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою.
Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно, смакуемыми известного рода публикой, выносящей отсюда азарт и идеал свой… Но автомобиль С. С. – 77—7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было шесть или семь. Наконец он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рыскнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж.
Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть – верное указание, одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу – если понадобится – действия, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку – словно на меня пристально обернулся кто-то – я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр.
Название гласило:
СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ Мировая драма в 6000 метров!
Лучший боевик сезона! Масса трюков!
IIНечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение, но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить, на некотором расстоянии впереди меня, слова «серый автомобиль». Хотя как я прошел два квартала, графическая отчетливость букв исчезла – их заменил звук, казалось, эти два слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь.
Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами Голландской Биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина.
Вино караулит нас в самых, казалось бы, для того не приспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной Географического Института и Бульвара Секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью; там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на два окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трельяжем, и я сел за стол у двери в качалку.
Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел двух толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и трех закинувших нога на ногу женщин; они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными, однообразными кольцами.
Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил две рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, третью.
Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть – пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты; мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77—7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет. Уравновешенно остер и точен был я в тот момент в каждом отчетливом впечатлении своем – состояние, дающее ни с чем не сравнимое удовольствие, и я пользовался этой минутой, чтобы обдумать некоторые моменты моего изобретения.
Коррида Эль-Бассо, женщина неизвестной национальности – я говорю это смело, так как имею для того веские основания, – была заинтересована моим изобретением из вежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство, быть может, в страсть. На это я не терял надежды. Но я должен был поразить и тронуть ее сразу, врасплох, может быть, в такую минуту, когда мое присутствие ею будет только терпимо. Когда наступит момент, изобретение – или вернее то, о чем она думает как об изобретении – встретит ее всем блеском и обдуманностью крайней, болезненной, всеохватывающей решимости, – оно вызовет глубокое и яркое возрождение. Тем лучше. Тогда я узнаю истинную природу женщины Корриды Эль-Бассо, которую полюбил. Я увижу, есть ли другой оттенок в ее лице цвета желтого мела. Я услышу, как звучит ее голос, говоря «ты». И я почувствую силу ее руки, – ту особенную женскую силу, которая, переходя теплом и молчанием в наши руки, так электрически замедляет дыхание.
Удобно покачиваясь, я был мысленно в своей «лаборатории», в ущелье Калло, окрещенном так, вероятно, родственником знаменитого художника или его поклонником. На мое плечо легла легкая нервная рука; не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь?
– Отличное место для свидания, – прибавил он, – или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре, одиночество и вино. Сидней, я иду в казино Лерха, там сегодня состоится оригинальное состязание. Это в вашем вкусе. Вы слышали о необыкновенном счастье мулата Гриньо? Вот уже третий день, как он выигрывает беспрерывно в покер, собрав, кроме золота и драгоценностей, целый том чеков. Хотите посмотреть на игру? Там толпа.
Лучшего предложения мне не мог сделать никто. Отлично, если в сложном узле жизни, трудясь над ним, выберете вы отдыхом интересный спектакль, еще отличнее, если представление возникло самостоятельно, если вам предстоит развязка подлинного события с хором, статистами и неподдельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увел.