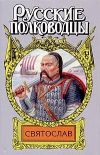Читать книгу "Князь Святослав"

Автор книги: Николай Кочин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Старик сплюнул сердито и сел. Никто не думал ему перечить. Улеб знал, что старики всегда прошлое хвалят и ругают молодежь. И принял речь старика не всерьез. А ендова то и дело переходила из рук в руки. Хозяйка не переставала подкладывать блины, которые тут же исчезали со стола. Улеб в не счесть который раз приложился к браге и сказал:
– Мы Сварогу дадим часть своих достатков, допьяна его напоим и принесем ему в жертву самого жирного вепря и большую печень оленя… И он нас не оставит.
Улеб переночевал у родичей, а поутру пошел к своей теще. У ней он оставил Роксолану. Он шел к ней с котомкой подарков, которые выменял на куниц в Будутине.
Он нес аксамит и паволоку, а также костяную гребенку, украшенную резьбой, стеклянный стаканчик, бронзовое змеевидное колечко, ожерелье из зеленой глины и медное зеркальце с ручкой, оканчивающейся изображением животного. Он знал, что Роксолана будет довольна и счастлива. Никто еще из женщин не имел такого зеркальца в Дубравне. Он подпевал ветру, пел про добрых богов, давших ему силу и ловкость прободать медведя рогатиной, положить на обе лопатки любого парня в Дубравне. Тот дряхлый старик, что брюзжал на молодых, он нелюб бабам, мужская ярость его покинула, боги его забыли.
Не чуя под собой ног, бросился Улеб в горницу, готовый от радости задушить Роксолану, обрадовать ее подарками, похвалиться вниманием князя. Но горница была пуста и холодна. Медвежье одеяло валялось на лавке, прялка валялась на полу. Улеб выскочил в соседнее жилье тещи. Она лежала на печи и охала.
– Где Роксолана?! – вскричал он.
– Нет твоей Роксоланы. Проклятый тиун увел ее с собой.
Глаза Улеба налились кровью.
– Этого холопа Малуши я зарежу как поросенка и голову отнесу князю. Сам Святослав его осудил. Наверно, слышали все…
– Да, все слышали, а что толку? Князь попировал в Будутине да и уехал. А тиун опять стал хозяином в округе. Взял военных слуг Малуши и прибыл в мой дом. Схватили Роксолану за волосы, да так и выволокли… Куда увезли, того не знаю… Пока ты там пировал да колядовал, жена стала холопкой…
Улеб засунул нож за голенище, подарки бросил на пол и помчался к лесу.
– Куда? – кинулась теща. – Смотри, и самого себя погубишь.
– Свою жизнь не пожалею, а обидчика достану. Прощай, старая, может, не увидимся больше.
Вскоре Улеб был уже на вотчинном дворе. Он увидел тиуна близ конюшни. Тиун вывел жеребца и запрягал его в расписные санки. Он собрался куда-то ехать.
– Где Роксолана? – задыхаясь, крикнул Улеб.
Тиун испуганно метнулся к рядом стоящему холопу.
Тут он считал себя защищенным. Лицо его приняло надменное выражение.
– Роксолану ты увел с нашего двора без спроса. Ее вернули, и она стала холопкой. Госпоже угодно было продать ее на невольничьем рынке, чтобы возместить ее долг… Притом же госпоже не нужны строптивые работницы.
Улеб рванулся вперед, выхватил нож из голенища и воткнул его в живот тиуна. Тиун свалился на снег подле саней. Улеб вскочил в сани, ударил лошадь и помчался. Он мчался дальше от вотчины Малуши. Он знал, что за убийство тиуна его продадут в рабство. Его тщательно будут разыскивать по всей округе, выкликать его приметы на базарах, на площадях. И он решил ехать в Киев, где можно затеряться среди простого люда. Дорогу в Киев он знал, лошадь была справная, в пути смерды дадут ночлег и пищу.
А бор шумел, ветер крепчал, зайцы перебегали дорогу, конь храпел и спотыкался в ухабах.
VIII. Схватка с призраками
Под бирюзовым византийским небом в теплый мартовский день рынок Константинополя кипел, как котел. В разноплеменной и пестрой толпе мелькали фигуры сирийцев в полосатых коричнево-красных далматиках; персов в полукафтанах до колен; руссов в широких портках и холщовых рубахах; евреев в черных длиннополых лапсердаках и желтых развевающихся шарфах; длинноволосых монахов; загорелых арабов в бурнусах и тюрбанах и, наконец, ромеев в одеждах ярких, затканных павлинами, или пантерами, или апокалипсическими сценами, которые украшали грудь и спину. Погонщики ослов, нагруженных съестными припасами, умоляли дать им дорогу. И над толпою всюду качались головы невозмутимых верблюдов. Щелкали бичи, бухали бубны, звякало железо. Гнусавые слепцы тянули заунывные стихиры. Прохожие поспешно бросали слепцам в чашечку мелкую монету, а куски рыбы и хлеба – в подолы. Тут же в ногах шныряли столичные паршивые псы, разыскивая добычу вблизи мясных и рыбных лавок. Ремесленники и мелкие торгаши несли на спинах всевозможные товары в свертках, в узлах и кипах. Назойливые чиновники бесцеремонно разворачивали и клеймили товар. Около гадателей, каждому предсказывающих судьбу по Евангелию, по звездам, по рукам, густо толпился народ, ахал, охал, вздыхал, удивлялся, умилялся. Тут же сновали перекупщики, маклеры, продавцы вина, пряностей, пронырливые акробаты, мимы, бессердечные торговцы живым товаром.
Поставщики благовоний расставили свои столы поблизости к императорскому двору, чтобы туда, в Священные палаты, доходили запахи ароматов. В том месте, где торговали конями и рабами, народу было поменьше. Рабы и рабыни покупались только богатыми людьми, поэтому сборище здесь пестрело отменными шелковыми одеждами, дорогими украшениями. Опытные суетливые вофры перебегали от одной невольницы к другой, хлопали их пониже спины, обнажали, показывали и расхваливали их тела, рассматривали их зубы, щупали мускулы, измеряли торсы и бедра, мяли животы и груди. Подле самых свежих и дорого оцененных невольниц прохаживался в сопровождении блестящих гвардейцев, в пышной одежде, дворцовый чиновник. Он то и дело хватал за мягкие части девушек и брезгливо отворачивался. Ни одна не приходилась по вкусу. Вдруг взгляд его остановился на стройной рабыне, пышноволосой, с большими голубыми глазами. Чиновник потрогал ее живот, повернул ее, звонко щелкнул ладонью по ягодице и откровенно залюбовался. Вофр подбежал к нему и, поворачивая девушку так и сяк, начал ее расхваливать.
– Это – славянка, получена из Киева… Потрогай, какие тугие груди. А бедра! Царица позавидовала бы ее красоте. Сам Фидий не вылепил бы ничего чудеснее. Выпрямись! – Он сорвал с нее и набедренную повязку. – Видите округлость живота? А линия ноги? А какая бархатистость кожи… Классические формы… Нежность лица. Зубы как жемчуг… И совершенно нетронута.
Дворцовый чиновник провел ладонью по животу невольницы и по бедрам. То же сделали и гвардейцы.
– Какова цена? – спросил чиновник.
– Пятьдесят номисм, – ответил, не поворачивая головы, толстый флегматичный барышник живого товара, анатолиец. – Ей только и быть в Священных палатах. Эта девица мне дорого досталась. Звать ее Роксолана… Звучное скифское имя.
Роксолана совершенно голой стояла у всех на виду, опустив голову, пока обсуждали достоинства каждого изгиба ее тела, и щупали его, и хвалили. Чиновник вынул деньги и бросил барышнику. Потом закупил еще несколько девушек, связал их вместе и, держась за веревку, погнал рынком ко дворцу. Гвардейцы перед ними раздвигали толпу, которая чем дальше, тем становилась гуще.
В рыбном ряду довелось даже остановиться. На низеньких столиках и на подстилках из камыша навалом лежала дешевая рыба, вокруг которой толпился худородный народ столицы. Тут же рядом громоздились бурты морской рыбы подороже: сапфиром отливали ее брюхи, серебрились устрицы, шевелились в корзинках крабы, как гигантские лепешки, лежала друг на дружке шишкатая камбала. Смрад от морской рыбы так плотно осел в воздухе, что чиновник зажал нос и начал орать на толпу.
Гвардейцы принялись ножнами мечей колотить всякого, кто стоял рядом; издавна привыкли к тому, чтобы им мгновенно везде уступали дорогу. Они и одеждой отличались от всех. Украшенные разноцветной каймой туники по колено, высокие сапоги из мягкой кожи, золоченые панцири, маленькие круглые щиты… все это сразу давало знать о их особенном положении при дворе. Щиты их бренчали, и о приближении гвардейцев знали загодя. Но на этот раз их поведение вызвало на базаре сутолоку, неприязнь, раздражение. Толпа загудела, стала их сминать. А то, что они вели красивых молодых невольниц, совсем возмутило горожан. Ведь каждый знал, как легко простому человеку попасть в рабство. Торговец, поднявшись на ящик с рыбой, кричал:
– Цены всё дорожают, народ стонет от налогов, а у них, паскудников, при дворе одна забота – нагие девки.
Он наклонился, поднял ящик с рыбой и бросил на головы гвардейцев.
– У, сытые рожи!
– Бей кровопийцев, толстомордых!
В гвардейцев полетели корзинки из-под овощей, поленья, горшки, доски. Гвардейцы обнажили мечи и стали ими тыкать в близстоящих горожан. Вой и стоны огласили улицу. Толпа метнулась за прилавки и взбудоражила продавцов-ремесленников. Вид исколотых горожан разозлил всех. С прилавков и столиков полетели в воздух рваные башмаки, кочаны капусты, тухлая рыба. Гвардейцы сомкнули щиты и дружно стали размахивать мечами. Это еще больше разожгло гнев толпы. Вот поднялся с деревяшкой вместо ноги торговец мясом и, стоя на бурте говяжьей требухи, потрясал топором в воздухе.
– Василевс – тиран. Замучил нас бесконечными войнами. Я сам десять лет дрался с сарацинами, подыхал в походах, голодал. А этим молодцам некуда девать деньги, как только на девок. А наши дети изнывают от ран на полях сражений… Всех съела война. А братец тирана – Лев Фока только пьянствует да спекулирует на хлебе.
Подбежавший гвардеец ткнул ему в живот мечом, и тот рухнул. Толпа взревела, потеряла всякую сдержанность. Мужчины толкали вперед орущих ослов и, прячась за них, доставали гвардейцев кольями и шестами. Мясники сбрасывали под ноги гвардейцам мясные туши, скорняки – меха, торговцы скобяным товаром – железные костыли, скобы… Все пошло в ход. Но гвардейцы, сделав круг, смело и ловко оборонялись. Тогда горожане собрали всех верблюдов, что были на рынке, и весь табун погнали на гвардейцев. Те кололи верблюдов мечами, и животные, бесясь от боли, окровавленные и разъяренные, своим истошным ревом усиливали всеобщую панику. Вскоре из Священных палат прибыла свежая партия царских охранников на конях, и они, топча народ и рубя длинными мечами, сразу разогнали взбунтовавшуюся толпу. Вскоре рынок опустел. На месте побоища валялись человеческие трупы вперемежку с трупами ослов и верблюдов, утварью и скарбом. Свалка эта выглядела ужасной на вид и породила массу слухов. Все обвиняли Никифора, который дал волю солдатне, надменной и разнузданной.
С вечера хватали каждого, кто подозревался в бунте или в чем-нибудь проговорился. Тюрьмы переполнились в одну ночь. Никифор строжайше приказал найти главных виновников мятежа. Теперь в его расстроенном страхами воображении бунт казался особенно опасным, огромным и заранее подготовленным. Поэтому многие из горожан принялись среди ближних искать заговорщиков, чтобы угодить царю, выслужиться и тем добыть должность и титул. Начальник дворцовой тюрьмы приложил все силы, все свое старание, чтобы заговор выглядел для василевса неимоверно устрашающим. (В заговоре никто во дворце не сомневался, само сомнение в этом как раз служило признаком заговорщика.)
У схваченных на площадях, на базарах и в домах отрезывали носы, перебивали колени; чтобы люди клеветали на других, их держали над огнем, забивали гвозди под ногти. И так как страх обуял всех и при этом все знали, на кого зол василевс и кого, стало быть, легче оклеветать, то вскоре было оговорено множество народа. Это были те строптивые люди, которым не нравились указы Никифора. Оговоренные под пыткой, они в свою очередь оговаривали других. Так приумножалось число «заговорщиков» со скоростью низвергающейся лавины. Заплечных дел мастера изо всех сил старались угодить василевсу, приписывали жертвам царского террора самые тяжелые преступления. Некоторым Никифор велел выколоть глаза, других публично сечь на площади, третьим отрубать обе руки. Изощренное византийское палачество не знало уему.
Особенная кара обрушивалась на тех, которые были уличены в неприязни к царственной персоне. Таких постигала традиционная и позорная казнь. Их раздевали догола, привязывали к спинам ослов, задом наперед, с таким расчетом, чтобы голова страдальца находилась под хвостом животного. Перед этим осла кормили дурной пищей, чтобы непрестанно выделяемые им экскременты попадали осужденному прямо в лицо. Все жители столицы содрогались от ужасов и замолкали, теперь никто не заикался о тяжести налогов, об изнуряющих военных походах Никифора, о безумной трате на роскошь двора, о продажничестве чиновников, о подозрительности царя, о жестокости его приближенных.
Желая скрасить впечатление от казней, царь решил потешить горожан исключительными представлениями на ипподроме. Сам он не любил ни пиры, ни народные зрелища, предпочитая им душеспасительные беседы с блаженными, чтение военных книг и экстаз молитвы. Но он никому не признавался в этом, чтобы не вызвать неприязнь столицы, которая посещение ипподрома вменяла в обязанность каждому уважающему себя ромею.
И вот с утра вдоль улиц двигались к ипподрому толпы народа, тянулись вереницы роскошных повозок, вели лошадей, покрытых расписными попонами, края которых волочились по земле и звенели висящими на них бубенчиками. Шли колонны трубачей, музыканты с огромными арфами, тимпанами из железа и бронзы. В толпе мелькали и монахи в скуфейках. Из своих владений приезжали динаты. Толпа разгульно шумела у стен ипподрома, теснилась вокруг лавочек, где продавались арбузы, сушеная рыба, печеные яйца, сладости. Выкрикивались имена возниц, взвешивались шансы коней. В открытые ворота у внутренних стен ипподрома мельтешили возницы в колесницах, убранных парчою и украшенных разными фигурками из слоновой кости. Виднелась и арена, и возвышающиеся ступени, под которыми были ходы в конюшни. Оттуда доносилось ржание коней, удары бичей, крики людей.
Пришло время, и толпа в своих просторных одеждах, затканных пестрыми узорами, потекла на ипподром, минуя стражу, неподвижную и строгую, в круглых золоченых шлемах, в панцирях поверх золотистой ткани, с вызолоченными секирами на плечах. Народ размещался под открытым небом. Царская трибуна возвышалась полукружием на отвесной стене. Она была прикрыта пурпурным занавесом. У ее подножия стояли гвардейцы, сдерживая толпу, несущую с собой из четырех просторных проходов тонкое облако пыли. В лучах солнца сверкали серебряные и золотые кресты на фиолетовых одеждах высокочтимых архиереев. На боковых сводчатых трибунах недалеко от царского места восседали сановники, чванливые и блистающие украшениями, с золотыми посохами в руках. Матроны со стеклянными и эмалевыми подвесками на груди, с причудливыми прическами, затянутые в голубые, зеленые и желтые ткани, с раскрашенными лицами, спесиво охорашивались на сиденьях, оглядывая себя в металлические зеркальца.
Вот послышались пронзительные звуки органов, вдруг раздвинулся пурпурный занавес императорской трибуны, и взоры всех обратились туда. На троне сидел василевс Никифор с женою Феофано. По обеим их сторонам находились избранные сановники. Из-под венца царицы, усыпанного рубинами, сапфирами, топазами, аметистами, изумрудами, выглядывало ее точеное, надменное лицо. Над нею стояли евнухи с опахалами. Сбоку августейшей четы стояли кувикуларии, держали знаки высшей власти: золотой меч, золотой шар, поддерживаемый крестом.
Василевс был очень угрюм. Маленькие его глаза из-за оплывших век, сверкающие мрачным огнем, беспокойно бегали по рядам ипподрома. Топорная его фигура оттенялась царственным великолепием дивной жены. Вот он поднялся, и снизу все увидели верхнюю половину его фигуры; он оглядел собравшихся брезгливо и поклонился нехотя. Точно ветерок прошел по кругу ипподрома, и все стихло. Троекратно и проникновенно он благословил собравшихся и подал знак музыкантам.
Раздались удары бубнов, взвилась яростная буря звуков. Раздвинулись железные решетки конюшен, стража посторонилась, и вот вылетели на арену блистающие колесницы. Их было четыре. Возницы, натянувшие шитые золотом вожжи, захлопали бичами. Бичи в воздухе описывали круги и овалы, завязывали узлы, которые при ударах развязывались с дробным треском. Один из возниц уже опередил остальных. Люди привстали, следя за безумным бегом коней, и победитель был встречен истошным криком. Толстый чиновник подал победителю белый пергамент с красными печатями и опоясал его драгоценным поясом. К ногам доблестного юноши бросали венки и монеты. Женщины больше всех неистовствовали, глаза их пылали, из груди исторгались вопли восторга.
Никифор, который не спускал глаз с царицы, заметил, как губы ее дрогнули и засверкали глаза. Но оживление вспыхнуло на ее лице и тут же потухло. Царица уловила пристальный взгляд василевса и приняла привычный царственный вид: Никифор, восторженно, по-юношески обожавший царицу за красоту, презрение к опасностям, решительность и самобытность ума, был полон благоговения к ней. Он питал к ней только один благородный восторг, который посещает юношу в минуты самой высокой духовной настроенности. Он был счастлив оттого, что она была рядом. И в этот вечер, полный блеска и сладких звуков, напряжения высоких страстей и упоения удалью и силой, казался Никифору пленительной действительностью, опередившей самые смелые вымыслы поэтов. Он был твердо уверен, что нет более счастливой державы, чем Романия, и что сам Всевышний даровал такую благодать только одному избранному народу на свете – ромеям, мудрейшим хранителям непревзойденных духовных благ Эллады и железного Рима одновременно.
В ропот плебса он не верил, недовольство его относил за счет низкой зависти злодеев. Разве мало завистников и мелких недоброжелателей, корыстолюбивых душ, у которых все помыслы ограничиваются накоплением вещественного хлама? Никифор вот этих и ограничивает в их бездонном любостяжании. Они-то и вносят смуту в жизнь по греховности своей натуры. Но народ в целом – благоденствует. Да разве можно заикаться о каком-нибудь хотя бы даже затаенном недовольстве, глядя на этот смеющийся, ликующий, как бушующее море, и переливающий красками одежд ромейский народ – красу и гордость всего человечества?
Вновь загрохотали бубны, загремели литавры. Колесницы помчались вперед, сверкая серебряными сборчатыми уборами. Никифор отдался очарованию минуты, обозревая убранство ипподрома. Искрометные полотнища хоругвей развевались на тихом ветерке жаркого дня. Свежие, юные хоругвеносцы в белых, красных, голубых и лиловых мантиях олицетворяли в его глазах небожителей – серафимов. Миллионы отблесков излучали, отбрасывали обнаженные мечи и секиры стражи. Обелиск Феодосия и колонна змей – сплетение трех пресмыкающихся, поддерживавших головами золотой треножник – возвышались над этим грохочущим морем звуков, цветов, блеска… И когда Никифор невольно переводил взгляд на царицу, которая была главным украшением всего того, что он видел, душа его переполнялась благоговением. Созерцание возвышенной красоты приводило его в сладкое умиление. Любое желание она могла внушить одним только выражением глаз. В глубоком затаенном волнении следил он за ней, но ничего, кроме невозмутимого величия, не мог заметить.
В перерыв между двумя заездами Никифор надумал подивить своих подданных одной новинкой, о которой он пока никому ничего не сказал. Он велел выйти на арену сотням своих гвардейцев, которым велено было потешить собравшихся примерным и красивым сражением. Василевсу казалось, что он убивает двух зайцев сразу: еще более возвышает свою гвардию в мнении народа, показывая ее во всем блеске, ловкости и силе. И в то же время выражает свое великодушное снисхождение к горожанам после всего случившегося, и, предоставляя им право восторгаться сейчас славой гвардии сколько угодно, тем самым загладить свои проступки. В этом примирении горожан с гвардией ему чудился акт царственной доброты. Сам он никогда не стал бы для себя лично унижаться до снисхождения к народу. Даже одна мысль об этом казалась ему оскорбительной. Но дело касалось репутации его собственной гвардии, которую он с таким усердием создал, воинственный азартный вид которой исторгал у него слезы восторга. Только ради нее он готов был снизойти до заискивания перед толпой.
Но когда высыпала на арену блестящая когорта рослых, молодых, прекрасных, мужественных гвардейцев, один вид которых, по мнению василевса, должен был привести зрителей в состояние блаженного экстаза, и она начала выстраиваться на арене в стройные ряды и послышался звон щитов, то вместо криков восторга наступила настороженная тишина. Все глядели друг на друга в немом недоумении: что бы это могло значить? На арене гвардейцы никогда доселе не появлялись. Намерения василевса никому не были известны, зато картина кровавой схватки с гвардейцами засела у всех в памяти, и многие избитые и измордованные на рынке находились сейчас на ступенях ипподрома. Напряженная тишина продолжалась недолго. Пронесся шепоток по рядам, раздались болезненные восклицания, и вдруг те, которые находились ближе к дверям, вскочили, с шумом кинулись к выходам и мгновенно затопили их. Тогда точно вихрем всех подняло со скамей. Кто-то крикнул:
– Вот как узурпатор решил с нами расправиться! Спасайтесь, кто как может.
И этот выкрик как эхо повторился в разных концах ипподрома, снял со скамей и тех, кто еще не подвергся всеобщей панике. И началось то неудержимое безумие толпы, при котором не рассуждают, не видят, не слышат ничего, ничего не хотят знать и только кричат, лезут и давят друг друга. Это тот случай, когда толпа уже наэлектризована, и самый ничтожный факт способен породить грандиозную катастрофу. Теперь всех сразу обуяло чувство, что гвардейцы высланы для расправы, и люди цеплялись друг за друга, падали под ноги бежавшим, сходили с ума. Растерзанные женщины валялись на ипподроме с раздавленными детьми.
Василевс понял это по-своему. Кому-то еще отвратна милость его! Гидра мятежа не добита! Кто-то еще и тут решил подстрекать к беспорядку. И он приказал немедленно загородить выходы и силой водворить народ на прежние места. Но когда воины встали стеной у выходов, толпа мгновенно смыла их. Василевс обозлился пуще. Он потребовал подкрепления и велел гвардейцам выставить вперед копья и секиры. Но задние не видели нацеленных копий и секир и продолжали отчаянно теснить передних, которые напарывались на оружие, повисали на копьях и тут же падали окровавленные. Мгновенно пронеслось по толпе, что при выходах режут и убивают. Еще судорожнее задние начали толкать передних. Крики и вопли усилились.
Гвардейцы, которым было приказано беспощадно мятежников усмирять, пустили в ход щиты и короткие мечи. Тогда в гвардейцев полетели древки, хоругви, жезлы, отнятые у сановников, обувь. Озлобление с обеих сторон приняло такие размеры, что даже тех гвардейцев, которые стояли безучастно, убивали сзади. Толпа, рассеянная по ипподрому, металась туда и сюда, и так как везде были преграды, то абсолютное отчаяние ее и безрассудство казалось василевсу, сановникам и страже – грандиозным организованным бунтом. Ни уговорить, ни успокоить ее никакими мерами уже было нельзя. Никифор, привыкший за свою жизнь везде видеть происки врагов, сказал приближенным:
– Теперь вы видите наше упущение. Враждебные нам негодяи проникли сюда во множестве и ведь сорвали великое празднество, опорочили гвардию, очернили василевса, обесславили империю. Я думаю, что любезный нам логофет примет самые суровые меры к изловлению злодеев, нарушивших покой народа и опозоривших его василевса.
Логофет полиции в ответ на это всей своей фигурой выразил полную готовность ловить сейчас же воображаемых злодеев, подвергать сомнению слова василевса не было в его привычках.
Стража была снята с выходов, и недорезанный народ хлынул на улицу, разнося смятение и страх. До самого вечера убирали с ипподрома трупы, измятые, исковерканные, обезглавленные, раздавленные. Их развозили по домам, и плач оглашал всю ночь и улицы и площади столицы.
А логофет полиции приступил к неукоснительному исполнению царского приказа. Ночью застенки и тюрьмы империи стали опять переполняться городскими жителями. Беспощадная, централизованная власть василевсов выработала самые решительные и изощренные по жестокости меры расправы. Людей хватали голыми в банях, вытаскивали из постелей от жен, брали в алтарях церквей, куда прятались перепуганные иерархи. Многие тела, обезображенные после пыток, показывали родным и заставляли их хоронить при всеобщем обозрении. Чиновники при этом безумно наживались, грабя и конфискуя имущество мнимых мятежников.
Люди боялись встречаться с родственниками погибших, заподозренных в измене, опасались молиться за родных, попавших в беду. Родители доносили на детей, дети на родителей. Народное воображение раздувало картины этих бедствий до самых фантастических размеров, от которых стыла кровь. Говорили, что тела замученных бросают по ночам в Босфор, и рыбаки боятся выезжать на промысел в море. Рыбу перестали покупать. Будто видали собак, которые вытаскивают тела людей из рвов и волочат их по городу.
Тюрьмы столицы оказались слишком недостаточными для неимоверного количества узников. Паракимонен Василий распорядился перегородить камеры и в этих клетках, в которых нельзя улечься, держал узников сидя, особенно тех, что побогаче. Люди быстро умирали, паракимонен быстро обогащался. Зловредная изобретательность охранников не имела удержу. Некоторым горожанам водворили стражу прямо в дом, так что нельзя было выйти без спроса даже по естественной надобности. Многих заточили в монастырь или выслали с семьями, но без имущества. А сколько было таких, которые из одного только страха убегали из города, нарядившись нищими, или надевали монашескую одежду, никем не преследуемые, побросав на произвол судьбы имущество, семью и любимое дело. Их родственников в таком случае тут же заносили в списки «злонамеренных».
Перепуганные тем, что не сумели предупредить заговор, и сами боясь оказаться заподозренными в измене, чиновники Никифора стали руководствоваться правилом: из десятка наобум взятых всегда (они думали так) окажется один мятежник. А под пытками и весь десяток сознавался в преступлениях. Причем в своих отчетах и донесениях чиновники тюрем и дворцовой стражи усугубляли преступления людей и тем самым увеличивали и без того маниакальную подозрительность василевса, который требовал все новых и новых арестов и расследований.
Паракимонен Василий хорошо видел нелепость всего происходящего, но молчал, ибо он отлично знал, что установление истины еще не созрело, дело не пришло к концу, когда именно василевс так или иначе, помимо чиновников и всех остальных, должен будет сам убедиться в чрезмерности своей подозрительности и опомнится. Пока же паракимонену было выгоднее присоединяться к общему мнению и желаниям василевса, чем опережать события и рискованно ратовать за правду. Он знал по опыту прошлого, что это начало конца, еще более страшного. Придет время, василевс осознает ошибку, и тогда наступит новая полоса преследований, он начнет преследовать уже тех, которые до того сами преследовали, их-то он и заподозрит наконец в намеренном искажении фактов и в заведомо корыстном разжигании смуты в стране.
Поэтому, пока логофетом полиции и его приспешниками велись энергичные поиски все новых и новых мятежников и стоны не утихали под сводами тюрем, людям выворачивали на пытках руки, выкалывали глаза, вырывали языки, а чиновники упивались успехами сыска и набивали сундуки чужим добром, – паракимонен Василий тщательно, тайно собирал о чиновниках сведения и готовился к тому, чтобы этих главарей сыска, самых усердных и влиятельных при дворе, отдать в руки василевса как козлов отпущения за его собственные ошибки, когда тот, вынужденный логикой событий и силой обстоятельств, круто повернет в другую сторону. И василевс вскоре сделал это, когда тюрьмы сказались непригодными, чтобы вместить всех заподозренных, когда количество их все прибывало, когда в изменники попали самые добропорядочные и благочестивые люди, лично которых сам василевс знал, когда наглость и бесстыдство, шантаж и вымогательство осатаневшей полиции стали такими вызывающими, что порождали у граждан уже не страх, а отчаянную решимость, презирая смерть, идти толпами к самому василевсу и бросать ему в лицо слова презрения, после того, как ему стали поступать смелые протесты до того крайне робкого патриарха, бесчисленные письма, жалобы, послания от семей замученных горожан… Тогда василевс сам принялся судить и нашел несправедливость более попранной и униженной, чем дозволяло его воображение.
Только тут он узнал самые обыкновенные вещи, известные в городе каждому: что чиновники губили людей, исходя только из того, выгодно им это или нет, что они доводили людей до смерти лишь потому, чтобы скрыть свои преступления, что только страх и пытки вынуждали людей оговаривать себя. И тогда он понял, что действительными насадителями мятежа были сами чиновники, сеявшие произвол, страх, обман, разоряя горожан, давая простор той жажде денег, которая процветала только в этом сказочно богатом городе. Он убедился, что преданностью василевсу и словословием прикрывались низменные и грязные дела.
И вот тогда Никифор вызвал паракимонена Василия и спросил, знает ли он об истинных возмутителях спокойствия. Паракимонен, который до сих пор считал единственно верной тактику говорить василевсу ничего не высказывая, на этот раз пришел, чтобы все высказать. И принес целый ворох бумаг с именами подлинных преступников.
Вынужденный всю свою жизнь применяться ко вкусам василевсов, считаться с их желаниями, утверждать обратное тому, в чем был крепко убежден, а поступать вопреки совести и своему желанию, всю жизнь оглядываться и угадывать намерения своих повелителей, паракимонен выработал то особое свойство ума, которое называется проницательностью. Он умел различать малейшие оттенки в тоне, в котором произносил слова василевс, и по ним угадывал его мысли. Он безошибочно понимал жест василевса, читал по его глазам, что ему следует предпринять, по обмолвкам своего повелителя судил о его самых затаенных намерениях.
– Автократор Вселенной, – почтительно склоняясь, произнес Василий, убежденный в том, что на этот раз он говорит абсолютно откровенно истинную правду, которая первый раз ему выгодна. – О, мудрейший и храбрейший из всех полководцев мира, которых я знаю или о которых читал у древних сочинителей… Еще они говорили, что в государственных делах одна маленькая ошибка становится матерью сотни катастроф. Поэтому, видя все разгорающуюся запальчивость корыстолюбивых чиновников, я стал проверять их работу. И я нашел, святой мой владыка василевс, что создатели мятежа – они сами. Трудно иначе объяснить весь тот ужас несправедливости и грязи, которая посеяна в умах наших горожан, благочестивых и послушных. Обогащение – вот та единственная цель, которую корыстолюбцы преследовали и которой они омрачали все величие твоего царствования. Вот списки тех скромных чиновников, которые сперва питались одной рыбой и хлебом и которые, создав смуту, через две недели стали самыми богатыми людьми в столице, обладателями вилл, земель и роскошных домов.