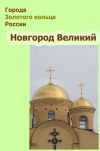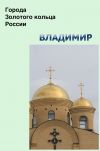Текст книги "Две русских народности (сборник)"

Автор книги: Николай Костомаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
В общественных понятиях история напечатлела на двух наших народностях свои следы и установила в них понятия совершенно противоположные. Стремление к тесному слитию частей, уничтожение личных побуждений под властью общих, ненарушимая законность общей воли, выраженная как бы смыслом тяжелой судьбы, совпадает в великорусском народе с единством семейного быта и с поглощением личной свободы идеей мира, выразились в народном быте неделимостью семей, общинною собственностью, тяглом посадов и сел в старину, где невинный отвечал за виновного, трудолюбивый работал за ленивого. Как глубоко лежит это в душе великорусса, показывает то, что по поводу устройства крестьян в наше время заговорили в пользу этого великоруссы с разных точек зрения, под влиянием и запоздалого московского славянофильства, и новомодного французского социализма. Для южнорусса нет ничего тяжелее и противнее такого порядка, и семьи южнорусские делятся и дробятся, как только у членов их является сознание о потребности самобытной жизни. Опека родителей над взрослыми детьми кажется для южнорусса несносным деспотизмом. Претензии старших братьев над меньшими, как дядей над племянниками, возбуждают неистовую вражду между ними. Кровная связь и родство мало располагают у нас людей к согласию и взаимной любви; напротив, очень часто люди приветливые, кроткие, мирные и уживчивые находятся в непримиримой вражде со своими кровными. Ссоры между родными – явление самое обыкновенное и в низшем и в высшем классе. Напротив, у великоруссов кровная связь заставляет человека нередко быть к другому дружелюбнее, справедливее, снисходительнее, даже когда он вообще не отличается этими качествами в отношении к чужим. В Южной Руси, чтоб сохранить любовь и согласие между близкими родственниками, надобно им разойтись и как можно меньше иметь общего. Взаимный долг, основанный не на свободном соглашении, а на роковой необходимости, тягостен для южнорусса, тогда как великорусса он более всего успокаивает и умиряет его личные побуждения. Великорусс из покорности долгу готов принудить себя любить своих ближних по крови, хотя бы они ему не по душе, снисходить к ним, потому что они ему сродни, чего бы он не сделал по убеждению, он готов для них на личное пожертвование, сознавая, что они того не стоят, но что они все-таки своя кровь. Южнорусс, напротив, готов, кажется, разлюбить ближнего за то, что он его кровный, менее снисходителен к его слабостям, чем к чужому, и вообще родство ведет его не к утверждению доброго расположения, а скорее к его ослаблению. Некоторые великоруссы, приобревшие себе в Южной Руси имения, затевали иногда вводить в малорусские семьи великорусскую плотность и неделимость, и плодом этого были отвратительные сцены: не только родные братья готовы были поминутно завести драку, но и сыновья вытаскивали отцов своих за волосы через пороги дома. Чем более принцип семейной власти и прочной кровной связи внедряется в жизнь, тем превратнее он на нее действует. Южнорусс тогда почтительный сын, когда родители оставляют ему полную свободу и сами на старости лет подчиняются его воле; тогда добрый брат, когда с братом живет как сосед, как товарищ, не имея ничего общего, нераздельного. Правило: каждому свое – соблюдается в семействах; не только взрослые члены семьи не надевают одежды другого, даже у детей у каждого свое; у великоруссов в крестьянском быту часто две сестры не знают, кому из них принадлежит тот или другой тулуп, а об отдельной принадлежности у детей не бывает и помина.
Обязательная общинность земская и ответственность личности миру для южнорусса есть в высшей степени несноснейшее рабство и вопиющая несправедливость. Не сметь назвать ничего своим, быть батраком какого-то отвлеченного понятия о мире, отвечать за другого без собственного желания – ко всему этому не расположила народ южнорусский его прошедшая жизнь. Громада, по южнорусскому понятию, совсем не то, что мир, по великорусскому. Громада есть добровольная сходка людей; кто хочет – в ней участвует, кто не хочет – выходит, так, как в Запорожье кто хотел – приходил, кто хотел – выходил оттуда добровольно. По народному понятию, каждый член громады есть сам по себе независимая личность, самобытный собственник; обязанность его к громаде только в сфере тех отношений, которые устанавливают связь между ее членами для взаимной безопасности и выгод каждого, тогда как, по великорусскому понятию, мир есть как бы отвлеченное выражение общей воли, поглощающей личную самобытность каждого. Главное различие здесь, конечно, проистекает от поземельной общинности. Коль скоро член мира не может назвать своею собственностью участок земли, который он обрабатывает, он уже не свободный человек. Мирское устройство великорусское есть стеснение, и потому форма последнего, введенная властью, приняла в себя дух и смысл, господствующий в Великороссии; корень его лежал уже в глубине народной жизни: оно истекло нравственно из того же стремления к тесному сплочению, к единству общественному и государственному, которое составляет, как мы показали, отличительный признак великорусского характера. Частная поземельная собственность выводится таким легальным путем из великорусской общественной философии. Все общество отдает свою судьбу олицетворению своей власти, тому лицу, которое поставляет над обществом бог, и, следовательно, все обязано ему повиновением. Таким образом, все принадлежит ему безусловно, как наместнику божию; отсюда понятие, что все божье да царское. И пред царем, как и пред богом, все равны. Но как бог одного возвышает, награждает, а другого карает, унижает, так поступает и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это выражается прекрасно пословицею: воля божья, суд царев. Отсюда народ безропотно сносил даже и то, что, казалось, превосходило меры человеческого терпения, как например, душегубства Иоанна Грозного. Царь делал несправедливо, жестоко, но тем не менее он был орудием божией воли. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит противиться богу: и грешно и неполезно, потому что бог пошлет еще худшие беды. Имея безусловную власть над обществом, царь есть государь, то есть полный владетель, собственник всего государства. Слово «государь» именно означало собственника, имеющего право безусловно, по своему усмотрению, распорядиться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Оттого-то древние новгородцы, воспитавшие себя под иными началами, различные притом от великоруссов по народности, так взволновались, когда Иван III задумал изменить древний титул господина на титул государя. Понятие о господине выражало лицо, облеченное властью и уважением; господ могло быть много: и владыка был господин, и посадник – господин; но государь был лицо, о власти которого не могло быть и рассуждения: он был един, как един собственник вещи; Иван домогался быть государем в Новгороде, хотел заменить собою великий Новгород, который был до того времени государем; так же точно, как в Великороссии великий князь заменил общественную волю всей нации. Будучи самодержавным творцом общественных условий, государь делал все и, между прочим, жаловал за службу себе землями. Таким образом, земля принадлежала, по первоначальному понятию, миру, то есть всему обществу; по передаче этого права лицу государя давалась от последнего в пользование отдельным лицам, которых угодно было государю возвысить и наделить. Мы говорим «пользование», ибо в точном значении собственников не было. То, что давалось от царя, всегда могло быть отнято и отдано другому, что беспрестанно и случалось. Коль скоро образовалось отношение рабочих к такому землевладельцу, то землевладелец, естественным порядком, получил значение олицетворенного мира, так же как царь в значении олицетворенной нации. Крепостной человек соединял свою судьбу с достоинством господина: воля барина стала для него заменять собственную волю, точно так же, как там, где не было барина, эту собственную личную волю поглощал мир. У помещичьих крестьян земля принадлежит барину, который дает ее лицам, земледельцам, по своему усмотрению; так и у казенных крестьян: земля отдана миру в пользование, а мир, по своему усмотрению, дает ее отдельным лицам в пользование. В Южной Руси, которой историческая жизнь текла иначе, не составилось такого понятия о мире. Там прежние, древние удельно-вечевые понятия продолжали развиваться и встретились с польскими, которые, в основе своей, имели много общего с первыми, и если изменились, то вследствие западноевропейских понятий. Древнее право личной свободы не было поглощено перевесом общественного могущества, и понятие об общей поземельной собственности не выработалось. Польские идеи произвели в старорусских только тот переворот, что регулировали последние. Каждый земледелец был независимым собственником своего достояния; польское влияние только обезопасило его от произвола народной воли, и прежде выражавшегося самодействием общества в смысле соединения свободных личностей, и облекло его владение de facto правом. Таким образом, оно возвысило богатых и влиятельных, образовало высший класс, а массу бедного народа повергло в порабощение. Но там магнат-владелец не представлял собою выражения царской, а чрез нее и барской, воли; он владел по праву; в переводе на более простой язык – право это выражало силу, торжество обстоятельств и давность происхождения. Там крестьянин не мог дать своему господину никакого значения священной воли, ибо он отвлеченного права не понимал, потому что сам им пользовался, а олицетворения он не видал, ибо его господин был свободный человек. Естественно, и раб при первой возможности желал сделаться свободным; тогда как в Великороссии он не мог этого желать, ибо находил своего господина зависевшим от другой высшей воли, так же как он сам зависел от него. У южноруссов редко были случаи, чтоб крепостной был искренно расположен к своему господину, чтоб так был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею, любовью, как это не редко мы видели в мире отношений господ к крестьянам и слугам в Великороссии. У великороссиян встречаются примеры трогательной привязанности такого рода. Крепостной человек, слуга, раб нередко предан своему барину вполне, душой и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое; радуется, когда честолюбивый барин его получает почет. Нам случалось видеть господских слуг, которым поверялось заведовать каким-нибудь интересом. Сами доверенные были естественные плуты и надували всякого в пользу своего барина, но в отношении последнего были аристидовски честны и прямодушны. Напротив, малороссы оправдывают собою пословицу: волка сколько ни корми, все в лес смотрит. Если крепостной слуга не обманет господина, то потому, что никого не обманывает; но если уж искусился на обман, то обманет прежде своего барина. Как часто случалось слышать жалобы на малороссиян от тех владельцев, которые, будучи великоруссами по происхождению, приобрели себе населенные имения в южнорусском крае. Напрасно добрым обращением и справедливостью старались они привязать к себе подданных; барские работы исполнялись всегда без желания, и оттого-то между высшим классом у нас распространилось убеждение, что малороссияне – народ ленивый. Ни искренности, ни привязанности. Страх действует на них успешнее, и потому добрые господа делались суровыми. Обыкновенно старались окружить свою особу великоруссами, а с малороссийскими крестьянами находились в далеких отношениях, как бы к чуждому народу. То же самое и еще хуже для малорусса – мир в великорусском смысле этого слова. Что касается до укора, делаемого обыкновенно малороссиянам в лени, то они делаются такими под условиями чуждых им общественных начал крепостного или мирского права: последнее выражается для малороссиян (которые не скованы узами общинной собственности) связью различных условий, ограничивающих их свободное распоряжение собою и своим достоянием, приближающихся к мирскому устройству. Вообще же упрек в лености несправедлив; даже можно заметить, что малорусс по своей природе трудолюбивее великорусса и всегда таким показывает себя, коль скоро находит свободный исход своей деятельности.
Очень может быть, что я во многом ошибся, представляя такие понятия о различии двух русских народностей, составившиеся из наблюдений над историей и настоящей их жизнью. Дело других будет обличить меня и исправить. Но, разумея таким образом это различие, я думаю, что задачею вашей «Основы» будет выразить в литературе то влияние, какое должны иметь на общее наше образование своеобразные признаки южнорусской народности. Это влияние должно не разрушать, а дополнять и умерять то коренное начало великорусское, которое ведет к сплочению, к слитию, к строгой государственной и общинной форме, поглощающей личность, и стремление к практической деятельности, впадающей в материальность, лишенную поэзии. Южнорусский элемент должен давать нашей общей жизни растворяющее, оживляющее, одухотворяющее начало. Южнорусское племя в прошедшей истории доказало неспособность свою к государственной жизни. Оно справедливо должно было уступить именно великорусскому, примкнуть к нему, когда задачею общей русской истории было составление государства. Но государственная жизнь сформировалась, развилась и окрепла. Теперь естественно, если народность с другим, противоположным основанием и характером вступит в сферу самобытного развития и окажет воздействие на великорусскую.
Совсем другое отношение южнорусской народности к польской. Если южнорусский народ дальше от польского, чем от великорусского, по составу языка, то зато гораздо ближе к нему по народным свойствам и основам народного характера. Такой или подобной противоположности, какую мы заметили между великоруссами и южноруссами, не существует между поляками и южноруссами ни во внутренней, ни во внешней стороне быта; напротив, если бы пришлось находить коренные признаки различия поляков от великоруссов, то во многом пришлось бы повторить то же, что сказано о южно-руссах. Но зато, при такой близости, есть бездна, разделяющая эти два народа, и притом бездна, через которую построить мост не видно возможности. Поляки и южноруссы – это как бы две близкие ветви, развившиеся совершенно противно: одни воспитали в себе и утвердили начала панства, другие – мужицства, или, выражаясь словами общепринятыми, один народ – глубоко аристократический, другой – глубоко демократический. Но эти термины не вполне подходят под условия нашей истории и нашего быта, ибо как польская аристократия слишком демократическая, так, наоборот, аристократична южнорусская демократия. Там панство ищет уравнения в своем сословии; здесь народ, равный по праву и положению, выпускает из своей массы обособляющиеся личности и потом стремится поглотить их в своей массе. В польской аристократии не могло никак приняться феодальное устройство; шляхетство не допускало, чтоб из его сословия одни были по правам выше других. С своей стороны, южнорусский народ, устанавливая свое общество на началах полнейшего равенства, не мог удержать его и утвердить так, чтоб не выступали лица и семьи, стремившиеся сделаться родами с правом преимущества и власти над массою народа. В свою очередь, масса восставала против них то глухим негодованием, то открытым противодействием – вглядитесь в историю Новгорода на севере и в историю Гетманщины на юге. Демократический принцип народного равенства служит подкладкой; но на ней беспрестанно приподнимаются из народа высшие слои, и масса волнуется и принуждает их уложиться снова. Там несколько раз толпа черни, под возбудительные звуки вечевого колокола, разоряет и сожигает дотла Прусскую улицу – гнездо боярское; тут несколько раз черная или чернецкая рада истребляет значных кармазин-ников; и не исчезает, однако, Прусская улица в Великом Новгороде, не переводятся значные в Украине обеих сторон Днепра. И там и здесь эта борьба губит общественное здание и отдает его в добычу более спокойной, яснее сознающей необходимость прочной общины народности.
Замечательно, как народ долго и везде сохраняет заветные привычки и свойства своих прародителей: в Черноморье, на запорожском новоселье по разрушении сечи, совершалось то же, что некогда в Малороссии. Из общин, составлявших курени, выделились личности, заводившие себе особые хутора. В южнорусском сельском быту совершается почти подобное в своей сфере. Зажиточные семьи возвышаются над массою и ищут над нею преимущества, и за то масса их ненавидит; но у массы нет понятия, чтоб человек лишался самодеятельности, нет начал поглощения личности общинностью. Каждый ненавидит богача, знатного, не потому, чтоб он имел в голове какую-нибудь утопию о равенстве, а, завидуя ему, досадует, почему он сам не таков.
Судьба южнорусского племени устроилась так, что те, которые выдвигались из массы, обыкновенно теряли и народность; в старину они делались поляками, теперь делаются великороссиянами: народность южнорусская постоянно была и теперь остается достоянием простой массы. Если же судьба оставит выдвинувшихся в сфере прадедовской народности, то она как-то их поглощает снова в массу и лишает приобретенных преимуществ.
С польскою народностью совершилось обратное: там личности, выдвинувшиеся из массы, если они были поляки, не меняют своей народности, не идут назад, но образуют твердое сословие. История связала поляков с южноруссами так, что значительная часть польской шляхты есть не что иное, как переродившиеся южноруссы, именно те, которые силою счастливых для них обстоятельств выдвинулись из массы. Оттого и образовалось в отношениях этих народностей такое понятие, что польская есть панская, господская, а южнорусская – холопская, мужицкая. Понятие это остается и до сих пор и проявляется во всех попытках поляков на так называемое сближение их с нами. Поляки, толкующие о братстве, о равенстве, в отношении нас высказывают себя панами. Под различными способами выражения они говорят нам: будьте поляками; мы хотим вас, мужиков, сделать панами. И те, в либеральные и честные намерения которых мы верим, говорят в сущности то же: если не идет дело о господстве и подавлении нашего народа материально, то неоспоримо и явно их желание подавить и уничтожить нас духовно, сделать нас поляками, лишить нас своего языка, своего склада понятий, всей нашей народности, заключив ее в польскую, что так ясно проявляется в Галиции. Горькая истина, а это так. Дай бог, чтобы стало иначе.
Переписка[1]1
Текст печатается по изданиям:
(1) Письмо И.С. Аксакова Н.И. Костомарову: Русский Архив, 1906, № 12. – С. 538–543.
(2) Ответ Н.И. Костомарова И.С. Аксакову: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. II: Письма к разным лицам. Т. IV: Письма к М.Ф. Раевскому, к А.Ф. Тютчевой, к графине А.Д. Блудовой, к Н.И. Костомарову, к Н.П. Гилярову-Платонову. 1858—86 гг. – СПб.: Издание Императорской публичной библиотеки, 1896. – С. 263–268.
Воспроизводятся также предисловие издателя и редактора «Русского Архива» Петра Ивановича Бартенева (1829–1912), предпосланное публикации 1906 г., и его примечания к письму И.С. Аксакова, помеченные инициалами «П.Б.».
А.Т.
[Закрыть] И.С. Аксакова с Н.И. Костомаровым
О Малороссии[2]2
Горько, жалко и смешно вспомнить, что эта переписка, помещенная в 7-й тетради «Русского Архива» 1893 года, была, после долгой переписки задержки, вырезана по распоряжению тогдашнего начальника печати Феоктистова и уничтожена. П.Б.
[Закрыть]
1861
В 1861 году выходила в Галиции, во Львове, русинская газета «Русское Слово». Печаталась она на языке очень близком к Русскому и держалась направления народного. Два номера этой газеты попались в руки Чернышевскому, который в июльской книжке «Современника» напечатал статью «Национальная бестактность» и в ней прочел строгую нотацию русинским издателям за то, что они не издают своей газеты на малороссийском языке, который-де ближе к русинскому, чем русский, а также и за то, что они желали во главе своей деятельности поставить Галицкого митрополита. Осердило Чернышевского то обстоятельство, что на поляков газета «Русское Слово» смотрела как на своих исконных и самых опасных врагов. «Поляки вовсе не опасны и даже благоприятны для русского дела, здраво понятого, – уверял бойкий публицист; – нечего вспоминать старые обиды и подводить старые счеты: надо руководиться интересами минуты и помириться с поляками. Издатели «Русского Слова» крайне бестактны и могут лишь повредить своим соотечественникам». Статья Чернышевского, написанная столь развязно, вызвала опровержение со стороны И.С. Аксакова в «Дне» за 1861 год. Чернышевский отвечал статьей в «Современнике» же, под заглавием «Национальная бестолковость», где глумится над Аксаковым и старается выставить его в смешном виде. Добросердечный Н.И. Костомаров в то время еще не вполне освободился от Польского влияния, под которым он находился, живучи перед тем в ссылке в Саратове, и по поводу вопроса об употреблении славянами русского языка было написано им письмо к Аксакову. Письма этого мы не имеем; но вот что отвечал ему И.С. Аксаков. Ю. Б.
Письмо И.С. Аксакова Н.И. Костомарову
(30 октября 1861 г., Москва)
Милостивый государь Николай Иванович.
Я получил ваше письмо. Я не стал бы отвечать на него, если б оно не было подписано вами. Оно написано в таком тоне, с употреблением таких выражений, которые делают спор невозможным. Я бы мог легко на дерзости отвечать еще сильнейшими дерзостями, – браниться дело не головоломное; но это было бы недостойно деда, которому мы оба служим. Охотно извиняя ваши выражения раздражением племенного[3]3
Н.И. Костомаров, уроженец Острогожского уезда Воронежской губернии, был малороссом по своей матери, простолюдинке. П.Б.
[Закрыть] самолюбия и полагая, что вы сами не желаете делать спор невозможным, не уклоняетесь от спора, я отвечаю вам sine ira et studio.
Вы говорите, что моя газета задирает две родственные народности, южнорусскую и польскую, и нападает на лежачего, беззащитного. Во-первых, это фактически несправедливо. О поляках не было и речи, покуда они не вздумали задирать нас, Русских. Они наводнили иностранную литературу клеветами на Россию и искажениями исторической истины; они громко предъявляют притязания на древние русские области; они приводят в действие свои замыслы. Газета моя, отвечая им, поступила совершенно так же, как и вы в статье Niema Rusi. Во-вторых, на малорусскую народность никто и не нападал; а если напали, так не на народ и не на народность, а на тенденции некоторых «патриотов», касающиеся вопроса об языке. Вообще, между мной и вами та существенная разница, что я стою на стороне истории и народа, а вы против истории и против народа. Как противоречащее народу, ваше учение может быть названо аристократическим. Так, например, вы хотите игнорировать вопрос веры, столь важный для народа южнорусского и полагающий несокрушимую преграду между ним и католиками-поляками. Вы или автор статьи «Современника» (это все равно, потому что вы говорите, что готовы подписаться под нею) утверждаете, что с уничтожением крепостного права «угашаются последние искры» вражды между малороссами и поляками (это вы пишете даже в вашем письме), забывая о борьбе вероисповеданий, двух разных просветительных начал. Народ этого не забывает, и я также. Вы идете наперекор не только народным тенденциям вашей Малороссии, но и тенденциям трехмиллионного народа в Галиции. Страдания, влечения, ожидания всего этого народа не трогают сердца шляхтича и «патриотов» малорусской петербургской колонии.
Относительно Малороссии и Галиции вот мое profession de fou.
Малороссии я не только вполне сочувствую, но люблю ее всею душой, любовью вполне свободной и, так сказать, объективной, не только физиологической. С этою любовью я остаюсь вполне русским, или великороссом, не жалуя себя в малороссы, как мой приятель Жемчужников. Я не постигаю полноты русского развития без Малороссии. Следовательно, полнейшее соединение с Малороссией во всех отношениях есть, по моему мнению, такая же историческая необходимость для России, как головы и сердца в организме, или придумайте другое сравнение. Это соединение есть и будет и без наших хлопот; но вот мое убеждение, которое проводить и высказывать (хотя бы и не в полемической форме) вы не можете поставить в вину человеку убежденному. Что касается до народа малорусского, то, при всей нелюбви к москалю и кацапу, народ своим историческим смыслом остается и останется всегда верным однажды данному им изволению: для него, хотя бы и несознательно, так же как и для великорусса, дорого единство земли русской; для него царь православный имеет то же значение, что для рязанца или владимирца. Я жил в Малороссии и хорошо это знаю. Казаки, превратившиеся так охотно в высокоблагородных и принявшие от русского правительства подачку – крепостное право[4]4
Кстати заметить, что не Екатерина ввела в Малороссии крепостное право, а оно (много дет раньше 1783 года) само ввелось в ней в ужасающих размерах, благодаря чиновным казакам, для которых идеалом служили быт и обстановка польских панов с виселицами для простонародья. П.Б.
[Закрыть], стали в глазах малорусса-крестьянина на одну степень со всеми московскими панами. Точно так же, как великорусский народ видит в русском Царе демократическое, нивелирующее начало, точно так же и малоросс видит в нем свой оплот против панов и других налегающих на него сословий. Во сколько ошибаются оба, это другой вопрос; но и верят, и видят, и ошибаются они одинаково. Что касается до языка, то я не верю в возможность образования малорусского общего литературного языка, кроме чисто народных художественных произведений; не вижу к этому никакой возможности, не желаю и не могу желать никаких искусственных попыток нарушить цельность общерусского развития, отклонить малороссийских художников от писания на русском языке. Слава Богу, что Гоголь жил и действовал раньше, чем возникли эти требования: у нас не было бы «Мертвых душ»; вы или Кулиш наложили бы на него путы племенного эгоизма и сузили бы его горизонт кругозором одного племени. И какая, признаться сказать, звучит во всем этом фальшивая нота! Вот и теперь два малоросса, Максимович и Кулиш, спорят между собою о малороссе Гоголе, писавшем по-русски, и о Великороссиянке (Марке Вовчке), пишущей по-малорусски! Но разумеется, никто из нас никогда не хотел и не думал мешать вам. Пишите сколько угодно, переводите Шекспира и Шиллера на малорусское наречие, одевайте героев Гомера и греческих богов в малороссийский кожух и очинок – вольному воля! Но не может же русская литература пройти молчанием такое явление.
О том, что мы враги всякой репрессивной меры, всякого стеснения свободы и беспрепятственного самообличения лжи, говорить нечего. Только сознающие всю несостоятельность и слабость своих оснований могут нас обвинять в этом, хватаясь за это, как за единственное свое оружие или способ для менее постыдной ретирады.
В Галиции я был. Нужно иметь каменное или польское, но не малорусское сердце, чтоб не сочувствовать стремлениям народа, который, страданиями своими, выработался до потребности ограничить свое племенное самолюбие, потопить узкий племенной эгоизм в эгоизме всерусского народа, созданного из разных русских племен историей. А вы его потчуете племенными особенностями! Вполне, разумеется, сочувствуя этому стремлению галицкого народа, могу ли я быть равнодушен к статье «Современника», идущей наперекор тенденциям, которые я признаю за истинные, смущающей бедный народ, да еще выдающей себя за голос России? Будь эта статья подписана поляком, появись она в польском журнале, появись даже в «Основе», значение ее было бы другое. Но допустить, чтобы голос польский самозвано, исподтишка, прикидывался русским и морочил опасным морочением целый народ, нам сочувственный, – допустить это было бы величайшею низостью для всякого истинного русского.
Что касается до Польши, то мое мнение и желание было и есть, чтобы правительство вывело все войска и все русские начальства из Царства Польского, предоставив полякам ведаться самим с собою. Я не думаю, чтоб уроки Истории послужили им в пользу; но этот урок был бы самый убедительный. Впрочем, разумеется, кроме Царства Польского, я бы не дал им ни пяди русской земли. Для этого надо было бы определить границы. Мне хотелось давно поднять этот вопрос в литературе и совершить таким образом в литературе полюбовное с поляками размежевание. Еще бы лучше спросить ваших малороссов (народ), хотят ли они быть под ляхами? Не угодно ли произвести suffrage universel в Галиции?
Я не вызываю международную вражду, а, напротив, предостерегаю от нее. Требование Киева и пр. я считаю безумным; следовательно, все требующие Киева заслуживают название безумных. Вы попрекаете мне, что я с этим словом обратился ко всей нации, т. е. вы хотите сказать, что не все поляки разделяют это безумное требование. Очень рад это слышать от вас; но в таком случае только безумствующие и обидятся этим названием, а прочие хорошо поймут, что к ним оно не относится. Вы не хотели заметить, что я браню поляков за то, что они портят сами свое правое дело неумеренными притязаниями.
Итак, вот мои убеждения, которые я высказывал изустно, буду высказывать и печатно. Упрекать меня в угодливости власти могут только поляки, которые большей частью прибегают ко всякой лжи, клевете и прочим подлостям, как к обыкновенному своему оружию. Когда Герцен в 1858 году, кажется, печатал в «Колоколе» свои письма к полякам и отстаивал против них Киев и другие русские области, то мне самому поляки говорили, что он подкуплен русским правительством и находится в тайной переписке с Императрицей! Если же и ваши малороссы прибегают к такой же уловке относительно меня, то, значит, они сильно ополячились.
Такие пошлости меня не остановят, точно так, как и вам все эти соображения не помешали написать статью Niema Rusi. Ведь нельзя же было отвечать полякам на вашу статью в России печатно. Зачем же вы били лежачих? Вы скажете – вы возражали. Да и я возражал. Вы скажете – поляки могли отвечать за границей. Пусть и мне отвечают. Я бы ничего так не желал, как чтоб позволили полякам безнаказанно возражать мне в России. Под статьей Кояловича я даже прошу об этом и предложил даже печатать анонимные возражения; но цензура это слово вычеркнула.
Как скоро статья «Национальная бестактность» была напечатана по-русски, в России, в русском журнале, то, стало быть, – спор открыт, и возражать на нее можно. Если же автор статьи, печатая, рассчитывал на то, что возражать будет неловко, что возражателю можно будет зажать рот обвинением в неблагородстве, я не знаю, благородным ли назовете вы этот поступок? Автор швыряет из-за угла в нас камнем и сердится, когда мы вскрикиваем от боли и криком обличаем его проделку! Вероятно, он хотел бы, чтоб мы ему кланялись и улыбались, и позволяли себя бить безнаказанно. Все это напоминает мне обвинение, сделанное Европой России в неблагородстве за то, что она сожгла турецкий флот в Синопе, и требование, чтобы Россия вела только оборонительную войну, а не смела защищаться, предупреждая нападение, и т. п.
Вы не находите противоречия между статьей вашей в «Основе» и статьей «Современника». Да если одну можно было «бить» (по вашему выражению) другою, так как же нет тут противоречия? Своей готовностью подписать статью «Современника» вы ставите меня в совершенное недоумение. Под статьей Niema Rusi я готов подписать свое кацапское имя, но, конечно, не подпишу его под «Национальной бестактностью».
Недавно один из моих приятелей-материалистов приходит ко мне и говорит, что статья Самарина неблагородна, что Бюхнер защищаться не может. Целые журналы на всех страницах с первого до последнего номера проповедуют материализм, и проповедуют с успехом, а возражать им без обвинения лиц – неблагородно!.. Это вроде обвинения за Синопское сражение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.