Читать книгу "Ницше и Россия. Борьба за индивидуальность"
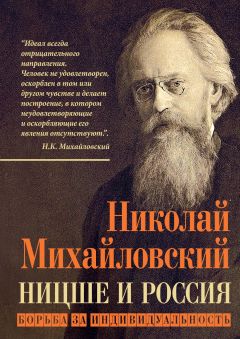
Автор книги: Николай Михайловский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Итак, Смит, желая определить склонность к подражанию и нравственную заразительность исключительно, так сказать, благожелательным направлением, впал в ошибку. Отчасти он даже намеренно закрыл глаза на множество общеизвестных фактов, в которых зараза толкает людей или к поступкам нравственно безразличным, или же подлежащим осуждению с точки зрения какой бы то ни было системы морали. Все эти безразличные или же прямо безнравственные поступки просто даже необъяснимы с точки зрения Смита, если разуметь под симпатией или сочувствием самостоятельное нравственное Начало, противоположное эгоизму. При чем, в самом деле, симпатия, сочувствие, способность переживать чужую жизнь в том, например, случае, когда целый женский монастырь начинает кусаться или мяукать по-кошачьи? При чем этот нравственный элемент в тех случаях, когда один или несколько человек одолеваются слепым тяготением, единственно под влиянием примера, к поступкам жестоким или подлым?
Может даже показаться, что перед нами находится дилемма: или подражательность не имеет ничего общего с симпатией, или симпатия не может служить основанием для теории нравственных чувств. Нам, впрочем, здесь нет дела до систем морали, а потому мы можем ограничиться простым замечанием, что различие между симпатией и подражательностью не так уже резко. Справедливо говорит Тэн: «По своим тенденциям и результатам симпатия и подражания различны, но в своих основаниях они имеют много общего» (Психология. СПб., 1881, с. 277). Ошибка Адама Смита состоит, главным образом, в том, что он не усмотрел или недостаточно подчеркнул существенный рубеж между подражательностью и симпатией: элементы воли и сознания, которые необходимо должны быть налицо в основании системы морали и столь же необходимо более или менее подавлены в явлениях подражательности и нравственной заразы. Быть может, даже вся задача исследования явлений подражательности состоит в определении условий, способствующих или противодействующих тому специальному виду подавления сознания и воли, который в них выражается.
Беглую ошибку Адама Смита, сделанную им, так сказать, мимоходом, отчасти повторил Герберт Спенсер в четвертом томе «Оснований психологии» (глава «Общественность и симпатия»). Но повторил пространно и обстоятельно.
Поговорив о том, как вырабатывается в стадном животном удовольствие от присутствия других, ему подобных животных, Спенсер переходит к душевным состояниям, производимым в нем действиями других, подобных ему животных. Члены стада, испуганные отдаленным движущимся предметом или какими-нибудь звуками, производят также движения и звуки, сопровождающие испуг. Каждый видит и слышит, что эти движения и звуки производятся остальными товарищами в то самое время, как и он производит их, и в то самое время, как в нем присутствует чувство, побуждающее его к этим движениям и звукам. Частое повторение неизбежно устанавливает прочную ассоциацию между сознанием страха и сознанием наружных знаков этого страха у других. Испуганные члены стада, будучи видимы и слышимы остальными, возбуждают в этих остальных то чувство, которое они сами обнаруживают, после чего остальные, побуждаемые чувством, возбужденным в них этим симпатическим путем, начинают производить такие же движения и звуки. Затем эта привычка унаследуется в ряду поколений и поддерживается, кроме того, процессом выживания приспособленнейших, потому что индивиды, наиболее усвоившие себе эту привычку, чаще всего избегают различных опасностей.

Редакторы и сотрудники журнала «Русское богатство».
После закрытия в 1884 году «Отечественных записок» Н. К. Михайловский сотрудничал в различных либеральных газетах и журналах, а с 1895 года возглавлял журнал «Русское богатство» (совместно с В. Г. Короленко). Поскольку Михайловский пропагандировал демократические идеи в легальной печати, он действовал осторожнее, чем его товарищи-подпольщики. Михайловский не раз заявлял, что сам он не революционер, но признавал неизбежность революции в царской России.
Под конец, один крик тревоги, свойственный данному виду, будет вызывать во всем стаде чувство страха. В этом лежит происхождение той паники, которая так часто и в таких резких чертах наблюдается у стадных животных. Например, стадо овец долго стоит неподвижно и глупо глазеет на приближающуюся фигуру; но едва одна овца побежала, как и все остальные пускаются в бегство. При этом каждая из них проделывает то же самое движение и на том же самом месте, как предыдущая, хотя бы в этом не было ни малейшей надобности; так, например, подражая первой овце, прыгнувшей на известном месте, каждая следующая овца прыгает на этом месте, хотя бы тут не было ничего, через что нужно перепрыгивать.
Кроме симпатического страха, продолжает Спенсер, существуют и другие роды симпатических чувствований, устанавливающихся подобным же образом. Радостное возбуждение точно так же быстро передается от одного индивида к другому в табуне лошадей, стае охотничьих собак и проч. Собаки, вследствие старинной дружбы и постоянного общения с человеком, способны возбуждаться симпатическими обнаружениями и человеческого чувства. Так, слыша пение, собаки иногда подвывают, а иной раз даже следуют за голосом по ступеням выполняемой гаммы. Некоторые собаки симпатически возбуждаются даже молчаливыми проявлениями страдания или удовольствия своего хозяина: улыбка хозяина отражается в них радостью, уныние – унынием. «Этот факт приводит нас самым естественным образом к той истине, что степень и ширина сочувствия или симпатии зависят от ясности и обширности воспроизводительности мысли. Симпатическое чувствование есть такое чувствование, которое не возбуждается непосредственно естественной причиной такого чувствования, но возбуждается посредственно, вследствие представления внешним чувствам некоторых знаков или обнаружений, которые обыкновенно ассоциированы с таким чувствованием. Следовательно, симпатическое чувствование предполагает способность воспринимать и комбинировать эти знаки, так же, как и способность воспроизводить в уме подразумеваемые ими вещи, внешняя или внутренняя, или те и другие зараз. Так что сочувствие или симпатия может существовать только в степени, пропорциональной силе умственного воспроизведения… Расширение умственных способностей есть одно из условий, хотя далеко не единственное условие, расширения области сочувствия».
Этим своим выводом Спенсер очень дорожит и неоднократно к нему возвращается, перефразируя его и иллюстрируя примерами. Жестокость представляется ему результатом недостатка умственных способностей, которые не могут представить жестокому человеку с достаточной ясностью те страдания, которые он наносит. Наоборот, заразительность зевоты есть для Спенсера наглядный образчик проявления значительных умственных сил, в особенности в тех случаях, когда мы зеваем не только при виде зевающего, а при одной мысли о зевоте.
* * *
Итак, если по Адаму Смиту выходит, что люди, склонные к нравственной заразе, суть наиболее «чувствительные» и наиболее нравственные люди, то по Спенсеру, это люди со сравнительно высокими умственными способностями. Между тем вот несколько почти наудачу взятых мнений специалистов о том же предмете:
«Наблюдение показывает, что сила подражания бывает сильнее выражена там, где серое корковое вещество мозга менее развито, или в том случае, когда человек так воспитан, что его систематически приучили смотреть с одинаковым вниманием на измышленные и действительные явления и придавать им равносильное значение. Понятно, что такие умственные процессы возможны лишь при отсутствии всесторонней критики, немыслимой без деятельного участия коркового мозгового вещества. Если оно приучено не увлекаться в раздражения, поступающие извне, то очевидно, что последними должны обусловливаться рефлексы из центров ощущения, а не из центров представления.
Этим объясняется множество общественных явлений, как, например, мода, эпидемическое распространение тех или других странных воззрений, действий, религиозно-фанатических движений, сопряженных с разного рода странными телодвижениями, оргиями, неистовствами, лишениями, самобичеваниями, самоизувечениями и даже самоуничтожением» (Пеликан. Судебно-медицинские исследования скопчества, с. 82).
Цитируемый тут же Пеликаном профессор Балинский говорит: «Ежедневный опыт убеждает нас, как легко в заведениях воспринимаются слабоумными отрывочные, нелепые идеи, высказываемые другими больными, как легко и с какой механической необходимостью повторяются ими чужие действия, без всякого понимания цели и значения этих действий».
Г. Кандинский пишет:
«Инстинктивной подражательностью отличаются некоторые животные, например, обезьяны; в весьма высокой степени мы иногда видим ее у детей, а также у идиотов и у некоторых слабоумных… Вообще, можно сказать, что наклонность к инстинктивной имитации уменьшается с развитием ума… Чувственное впечатление, воспринимаясь высшими мозговыми центрами, пробуждает в последних деятельность представления, мысли. Таким образом, ответом на чувственное впечатление может быть не только двигательная, но и мыслительная реакция.
У взрослого человека при виде известного жеста другого лица, кроме бессознательного побуждения воспроизвести этот жест, рождается в мозгу известное представление, вызывающее, в свою очередь, другое представление и т. д., то есть результатом будет не воспроизведение виденного жеста, а мысль или чувство (например, чувство смешного). У обезьяны же то же самое зрительное впечатление вместо мыслительной реакции обусловит реакцию двигательную и виденный жест будет автоматически повторен.
Точно то же бывает и у человека, если он в умственном отношении немного отличается от обезьяны, то есть когда он рожден идиотом или когда он сделался слабоумным. Например, Паршапп сообщает весьма любопытное наблюдение относительно двух слабоумных больных, соседей по кроватям: один из них служил как бы зеркалом другому и с неизменной правильностью и поразительной полнотой повторял каждый жест, каждое движение и действие последнего» (Общепонятные психологические этюды, с. 179).
Мы можем, пожалуй, удовольствоваться этими выписками, достаточно, кажется, выразительными в смысле решительной противоположности их содержания вышеприведенному выводу Спенсера. Мы можем, впрочем, сослаться и на самого Спенсера, утверждающего в другом месте (вполне согласно с самыми основаниями своего миро-разумения), что «мерилом как интеллектуального развития, так и развития чувств может служить расстояние, которое отделяет их проявление от первичного отраженного движения». В приложении к нашему вопросу это, между прочим, именно и значит, что быстрая отзывчивость на внешние впечатления отнюдь еще не свидетельствует о высоком уровне умственных сил. Если обезглавленная лягушка тщательно стирает правой лапкой кислоту, которой вы намазали ее левую лапку, то ведь из этого не следует, что обезглавленная лягушка владеет умственными способностями. И вообще двигательная реакция на внешние впечатления, в чем бы она ни состояла, сама по себе ровно ничего не говорит об умственных силах. Она может выражать усиленную деятельность вершин душевной жизни, сознания и воли, но может быть и простым рефлексом, то есть прямым переходом ощущения во внешнее движение, минуя высшие инстанции психического аппарата. В первом случае движение степенью своей целесообразности, уместности действительно выразит уровень умственных сил; во втором случае движение, как бы оно ни было отчетливо, ровно ничего не значит в смысле определения обширности или глубины умственных способностей.
* * *
К какому же из этих двух типов двигательной реакции на внешние впечатления должны быть причислены движения подражательные; те многочисленные и многоразличные движения, которые нас выше занимали и которые сам Спенсер имеет в виду, говоря о симпатической зевоте, о том «сочувствии, вследствие которого у некоторых истерических субъектов является нервный припадок от зрелища такого же припадка у другого» и т. п.?
Ответить на этот вопрос было бы, разумеется, не трудно, если бы Спенсер не ставил рядом с симпатической зевотой и т. п. такие виды сочувствия или симпатии, как, например, проникновение страданиями ближнего до невозможности совершить жестокий поступок. Почти на любом случае массового увлечения и одиночной подражательности можно убедиться, до какой степени это смешение или сопоставление неосновательно, что, впрочем, мы уже видели, говоря о теории Адама Смита.
Если бы толпа, убившая Верещагина, руководилась проникновением страданиями ближнего, то она спасла бы жертву, но она ее покончила, потому что была охвачена волной подражания, столь же неудержимого, как неудержима зевота при виде зевающего. Мы знаем, правда, что проникновение страданиями Христа не раз вызывало подражание, доходившее до воспроизведения крестных ран; знаем, что сочувствие к страданиям роженицы может вызвать появление молока в грудях посторонней зрительницы и тому подобные симптомы подражательности. Но мы знаем также бесчисленные случаи, в которых сочувствие, как самостоятельное нравственное начало, стоит в самом резком противоречии с наклонностью к подражанию, и нетрудно видеть, что Спенсер просто повторил ошибку Адама Смита, недостаточно подчеркнув роль воли и сознания, отсутствующих или, по крайней мере, значительно подавленных в нравственной заразе.
Но подавленность сознания и воли вовсе не необходимо выражается нравственной заразой и склонностью к подражанию. Есть различные психические расстройства, в которых эта подавленность выражается совсем иначе. Психически больной может быть совершенно оригинален и, как говорится, ни на что не похож. Подражательность, даже в наивысших своих болезненных формах, есть лишь специальный случай омрачения сознания и слабости воли, обусловленной какими-то специальными обстоятельствами. Очевидно, что в этих специальных обстоятельствах должен находиться ключ к уразумению всех разнообразных явлений, беглый обзор которых сделан выше.
Найдя этот ключ, мы откроем себе далекие перспективы в глубь истории и в область практической жизни, ибо узнаем, как, когда и почему толпа шла и идет за героями.
Но как же найти этот драгоценный ключ? Весьма мало надежды разыскать его при помощи прямого анализа условий, среди которых совершилось то или другое массовое движение с решительно подражательным характером или случай столь же резко выраженного одиночного подражания. Можно, правда, найти этим путем некоторые весьма ценные указания, что отчасти и сделано историками, психологами и психиатрами. Но все подобные указания имеют отрывочный характер, прилагаются только к одной какой-нибудь группе фактов и не дают формулы настолько общей и многообъемлющей, чтобы под нее могла быть подведена вся громадная совокупность явлений бессознательного подражания. Оно и понятно: всякий случай одиночной подражательности, а тем паче массового увлечения обставлен такими сложными и запутанными условиями, из которых необыкновенно трудно выделить специальные причины подражательности, ибо они самым тесным и сложным образом переплетаются с разными другими жизненными течениями.
Возьмем случай, относительно простой и вместе с тем яркий – подражательную хорею, которую д-р Кашин наблюдал в восточной Сибири. Физиолог или психиатр, без сомнения, может рассказать это явление на языке своей науки, то есть описать, каким образом зрительное или слуховое впечатление, не доходя до центральной сферы сознания и воли, разрешается в рефлекторное движение, более или менее точно копирующее тот предмет, которым дано впечатление.
Но речь его станет далеко уже не столь определенной и уверенной, когда дело дойдет до причин явления и сам собой возникнет вопрос: что же общего между условиями жизни современной якутки или забайкальского казака и, например, итальянца XIV века, неистово и вместе послушно отплясывающего тарантеллу, или крестоносца, почти автоматически примыкающего к походу? Почему во всех этих случаях рефлекс получает именно подражательный характер, а не какой-нибудь другой?
В ответ мы получим или простой итог: «имитативность, стремление приходить в унисон с окружающими людьми есть существенное свойство человека, существенная черта его психофизической природы, данная в самом устройстве нервно-мозгового механизма» (Кандинский. Общепонятные психологические этюды). Или же нам предложат отдельные отрывочные объяснения того, как крупное общественное несчастье вроде труса, глада или нашествия иноплеменников парализировало сознание и волю современников; как в том или другом случае внимание человека или целой группы людей до такой степени поглощено одним каким-нибудь предметом или идеей, что вне этого предмета или идеи для них в данную минуту ничего не существует. Все это очень справедливо, но не удовлетворяет нашего ума, не дает, так сказать, физиономии, резких определенных черт явлению, представляющему в действительности нечто очень резкое.
Понятное дело, что при этом остается еще очень много недоразумений. Мы видели, например, что г-н Кандинский, в противоположность мнению Герберта Спенсера, прямо говорит: «наклонность к инстинктивной имитации уменьшается с развитием ума». Между тем, говоря о быстром распространении спиритизма, г-н Кандинский вынужден признать, что «и при высокой степени умственного и нравственного развития человек никогда вполне не избежит действия нервно-психического контагия». Положим, что г-н Кандинский подчеркивает слово вполне и тем ослабляет впечатление своего горького вывода. Но некоторая неопределенность все-таки остается. А затем она даже усиливается мотивировкой: «Главнейшие источники душевных эпидемий – религиозное чувство, мистические стремления, страсть к таинственному и необычайному – во всяком случае не скоро иссякнут». А ведь нам только что сказали, что «имитативность, стремление приходить в унисон с окружающими людьми есть существенное свойство человека, существенная черта его психофизической природы, данная в самом устройстве нервно-мозгового механизма».
* * *
Мимоходом сказать, часто упоминаемая книжка г-на Кандинского представляет любопытный пример того, как часто люди науки сами себя обворовывают, если позволительно так выразиться при полном уважении к автору. Вторая часть этой книжки, озаглавленная «Нервно-психический контагий и душевные эпидемии», целиком посвящена занимающему нас здесь предмету, как показывает и самое заглавие. Это очень интересный этюд. Но любопытно, что г-н Кандинский ни единым словом не касается мимичности и происхождения покровительственно-подражательных органических форм; это для него в некотором роде «чиновник совершенно постороннего ведомства». О явлениях стигматизации упомянуто вскользь, в двух словах. Но самое любопытное – это отношение автора к гипнотизму. Гипнотические опыты, по-видимому, особенно дороги г-ну Кандинскому в качестве полемического орудия против «чудес спиритизма».
Г-н Кандинский, совершенно справедливо негодуя против податливости и легковерия не только «публики», а и ученых людей, насколько они увлечены «эпидемией спиритизма», стремится главным образом опровергнуть чудесность спиритизма при помощи разъяснения гипнотических опытов. Похвальная цель, конечно. Но удивительно все-таки, что в трактате, специально посвященном подражательности, едва-едва упоминается о той громадной роли, которую подражание играет в самом составе гипнотических сеансов. Между тем здесь-то, может быть, и лежит ключ к уразумению всей тайны «героев и толпы».
Явления гипнотизма всем известны благодаря представлениям Ганзена, наделавшим столько шуму. Для нас самое интересное в этих явлениях есть наклонность гипнотиков к подражанию: они повторяют с большой точностью все проделываемые перед ними движения. Гипнотизированный субъект покорно идет за «магнетизером», сжимает кулак, когда тот сжимает свой перед его глазами, открывает и закрывает, по примеру магнетизера, рот и т. п. При известных условиях он столь же автоматически повторяет слышимые им звуки, будет ли то звук камертона или человеческая членораздельная речь. Один из самых поразительных фокусов Ганзена называется «нянька с ребенком» и состоит в следующем: Ганзен придает телу гипнотизированного положение няньки, держащей ребенка на руках горизонтально, и кладет ему на руки куклу. Затем сам магнетизер становится перед этим живым автоматом и покачивается из стороны в сторону, подражая няньке, укачивающей ребенка: гипнотизированный с большой точностью повторяет эти движения, как бы укачивая куклу. Вообще гипнотизированный может быть поставлен в самые нелепые положения и затем повторять с правильностью зеркала все, что перед ним будет проделываться. Для объяснения этих явлений мы возьмем в руководство Гейденгайна, который специально занялся фокусами Ганзена, сам их повторил и дополнил и на авторитет которого положиться можно (Так называемый животный магнетизм. СПб., 1880).
Гипнотическое состояние достигается постоянными, однообразными, слабыми раздражениями кожных нервов лица или слуховых или зрительных нервов. Пристально прислушиваясь к однообразному тиканию часов, к простому напеву колыбельной песни, пристально смотря на блестящий неподвижный предмет, вроде гранатового стеклянного шарика или, пожалуй, глаз магнетизера; подвергаясь медленным, однообразным поглаживаниям по лицу непосредственно или на известном расстоянии; словом – подвергаясь всякого рода однообразным, слабым и равномерно повторяющимся раздражениям, человек впадает в то бессознательное состояние, которое называется гипнозом. В этом состоянии, говорит Гейденгайн, движение, бессознательно воспринятое, но не развившееся в сознательное представление, не перешедшее за порог сознания, вызывает подражание.
Гипнотизированный субъект является, таким образом, подражательным автоматом, повторяющим те из движений, которые связаны для него со зрительным или слуховым бессознательным впечатлением. Материальное изменение, вызываемое в центральных органах чувственным раздражением, обусловливает движения с характером произвольности, но которые тем не менее непроизвольны. «Подобные подражательные движения происходят и в обыденной жизни», – замечает Гейденгайн и ссылается на автоматическую зевоту при виде зевающего и на «страсть» детей к подражанию. Дело в том, что у гипнотиков, вместе с омрачением сознания, сильно повышается рефлекторная раздражительность, именно потому, что подавляется деятельность известных отделов головного мозга – коркового слоя полушарий.
* * *
Подробное выяснение этого обстоятельства не входит в нашу задачу, и мы можем ограничиться окончательным выводом, к которому пришел Гейденгайн относительно причин гипнотизма вообще и автоматической подражательности гипнотиков в частности. Причина эта заключается в «подавлении ганглиозных ячеек коркового вещества, вызванном слабым, постоянным раздражением кожных нервов лица или слуховых или зрительных нервов».
Что в данном случае дело заключается именно в этой скудости раздражений, доказывается отчасти и встречным опытом: все очарование гипноза исчезает, как только гипнотик подвергается сильным или измененным влияниям на органы чувств. Если в противоположность тем слабым и однообразным влияниям, которыми обусловливается гипнотическое состояние, ударить загипнотизированного по руке, крикнуть над ухом, обдать холодом, то он просыпается.
Тот же самый результат часто получается, если вместо экспериментатора, усыпившего гипнотика своим упорным «магнетическим» взглядом, встанет другое лицо. До этого момента «просияния своего ума» гипнотизированный находится в полной власти магнетизера, который может играть им до последних пределов унижения человеческого достоинства. Это достигается тем удобнее, что характеристическими признаками гипнотического состояния являются, между прочим, анестезия и аналгезия, то есть потеря чувствительности и потеря чувства боли: гипнотика можно колоть, резать, жечь – он не чувствует боли.
Интересны, между прочим, гипнотические опыты над лошадьми. Еще в 1828 году венгерец Баласса представил «способ ковки лошадей без употребления насилия: „Посредством неподвижного взгляда лошадь заставляют пятиться, поднять голову и неподвижно держать шею, и ею можно завладеть до такой степени, что многие лошади не двинутся, если даже вблизи их выстрелить. Крестообразное поглаживание по лбу и по глазам также представляет отличное вспомогательное средство, с помощью которого можно успокоить и усмирить самую боязливую, а также самую горячую и злую лошадь до такой степени, что она опустит голову и как бы заснет… Это гипнотизирование (балассирование) лошадей в Австрии предписано даже военным законом. Целая система поглаживания от головы по всему телу еще раньше указана одним американским укротителем лошадей“» (Бенедикт. Каталепсия и месменизм. СПб., 1880, с. 33).
Итак, гипнотик находится совершенно во власти экспериментатора. Однако это состояние безвольной и бессознательной игрушки в руках другого человека имеет свои степени. Есть, например, гипнотики способные и неспособные отвечать на заданный им вопрос. Очевидно, что у первых еще работают некоторые части мозга, не функционирующие у вторых.
Далее, одни бессознательно подражают всем производимым перед ними движениям, но не исполняют обращенных к ним приказаний, если приказания эти не сопровождаются движениями, так сказать, подсказывающего свойства. Такой гипнотик пойдет, пожалуй, за вами, если вы ему прикажете, но он пойдет именно за вами, подражая вам, а отнюдь не потому, что ваше приказание дошло по адресу. Есть, наоборот, и такие, которые действительно повинуются самым нелепым приказаниям, например, пьют чернила, суют руки в огонь и т. п., не нуждаясь в том, чтобы перед ними проделывалось то же самое. Ясно, что повинующиеся погружены в менее глубокий сон (если можно в данном случае употребить это слово), чем подражающие, ибо первые все-таки способны воспринять приказание.
Все это достигается однообразными, равномерными и слабыми влияниями на органы чувств. Таково физиологическое объяснение. Что касается объяснения психологического, то читатель может его найти в статье Шнейдера «О психических причинах гипнотических явлений» (Новое обозрение. 1881, № 2). Я приведу только окончательный вывод Шнейдера: «Гипнотизм есть не что иное, как искусственно произведенная ненормальная односторонность сознания, то есть ненормально односторонняя концентрация сознания… Вследствие продолжительной фиксации блестящего предмета, вследствие прислушивания к известному равномерному звуку процесс сознания постепенно концентрируется в ненормальной степени на одном данном явлении, так что другие явления очень трудно или вовсе не доходят до сознания».
* * *
Читатель видит, что объяснения Гейденгайна и Шнейдера говорят, собственно, одно и то же, только на разных языках. Вульгарно выражаясь, можно сказать, что гипнотик, поставленный экспериментатором в условия крайне скудных и однообразных впечатлений, начинает жить однообразной жизнью и, очень быстро исчерпав самого себя, превращается в выеденное яйцо, которое собственного содержания не имеет, а наполняется тем, что случайно вольется в него со стороны.
Спрашивается, в какой мере можем мы обобщить этот вывод? В какой мере можно допустить, что и в других случаях подражания самостоятельная жизнь индивида поедается скудостью и однообразием впечатлений.
Прежде всего сюда сами собой входят многие факты, хорошо изученные и прочно поставленные в науке. Таковы состояния экзальтации и экстаза, как мы видели, весьма часто сопровождающие некоторые поразительные формы подражательности. Экстатик весь поглощен одним каким-нибудь предметом, образом, идеей, почему-нибудь сосредоточившим на себе его внимание. Все остальное он видит и не видит, слышит и не слышит, то есть впечатления от посторонних предметов хотя, может быть, и доходят до него, но не сознаются им. Вследствие чего на высших ступенях экстаза замечаются та же потеря чувствительности и та же потеря чувства боли, которые характеризуют гипнотическое состояние. Экстатик не чувствует, что его жжет огонь костра, на который его ввела святая инквизиция, не чувствует пыток и ран, ибо вся его психическая жизнь, вся без остатка, сосредоточена на той идее, за которую он подвергается наказанию. Он мог бы поистине смеяться над своими палачами, все усилия которых причинить ему боль пропадают даром.
С этим состоянием не следует, однако, смешивать состояние внешним образом выражающееся точно так же, но совершенно противоположное по внутренней психической механике. История знает много примеров людей, по наружности спокойно терпевших величайшие мучения, но не потому, чтобы они не чувствовали боли, а потому, что не хотели показать, что им больно, причем естественной потребности выразить боль криком, стоном, жестом противопоставляли страшное напряжение сознания и воли. Эти люди, так полно владеющие собой, так сильно задерживающие самые, по-видимому, неизбежные двигательные реакции на внешние впечатления, очевидно, не могут быть склонны к подражанию. Наоборот, экстатики и люди, в состоянии более или менее близком к состоянию экстаза, совершенно не могут управлять собой, и потому пункт их односторонне направленного внимания имеет над ними всеподавлющую власть. Наиболее выразительным примером может служить в этом отношении стигматик.
Св. Франциск, например, уединением, постом, всякими лишениями сократив свой жизненный бюджет до minimum’a, затворил, так сказать, свою душу наглухо для всех внешних впечатлений и оставил просвет для одного только луча: для образа страданий Христа. И этот образ заставил Франциска подражать себе, пригнав кровь к ладоням, ступням и левому боку экстатика. Правда, Франциск, может быть, и желал уподобиться Христу, но такое уподобление совершилось, конечно, помимо его воли. То же самое происходит в случаях мгновенного сильного впечатления, если оно почему-нибудь всецело овладевает человеком. И здесь, как, например, в случаях появления молока в грудях неродившей женщины и т. п., подражательный характер явления зависит от необычайной односторонности состояния сознания в данную минуту.
Таким образом, для вызова и обнаружения склонности к подражанию, а следовательно, и для образования того, что мы называем толпой, нужно, по-видимому, одно из двух: или впечатление, столь сильное, чтобы оно временно задавило все другие впечатления, или постоянная, хроническая скудость впечатлений. Соединение этих двух условий должно, понятное дело, еще усиливать эффект подражательности. К проверке этого принципа и дальнейшему его приложению мы теперь и обратимся.









































