Текст книги "Соратники Петра"
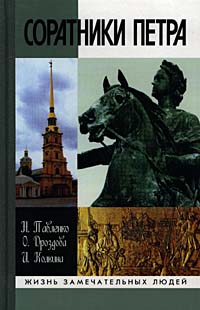
Автор книги: Николай Павленко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Не лишены интереса действия Артемия Петровича Волынского, выступившего ходатаем о неком Василии Ивановиче Яковлеве. Они любопытны, поскольку являют образец коварства тех времен.
Составленное письмо Макарову Волынский показал Яковлеву, и тот, надо полагать, был в восторге от лестной аттестации. В самом деле, Макаров, получив послание Волынского, прочел следующую характеристику Яковлева: «…он мне древний благодетель и человек заслуженной, ибо во многих кровавых боях под Конотопом и Чигирином бывал и проливал кровь за веру христианскую», а вслед за ней – две просьбы: исхлопотать у царя назначение Яковлева пензенским воеводой и пожалование ему чина окольничьего или думного дворянина. Но письмо сопровождала цидулка, напрочь дезавуировавшая все хвалебные слова и отражавшая подлинное мнение Волынского о своем подопечном: «…сей старичок зело честолюбив и спесив, также и лжец жесток».[464]464
Там же, кн. 40, л. 330, 331.
[Закрыть]
Другие корреспонденты Макарова были скромнее и ограничивались лишь просьбой о том, чтобы кабинет-секретарь уведомил их, как будет воспринято царем их доношение. Ф. М. Апраксин заканчивал многие свои послания Макарову так: «Письмо его царскому величеству изволь вручить, и как оное будет принято, пожалуй, не изволь оставить без известия». А. И. Репнин подал челобитную царю о пожаловании ему мызы в Лифляндии. Не получив ответа, он просил Макарова известить его, «…есть ли на помянутое мое прошение какой указ или отказано». С таким же вопросом обратился к Макарову и Конон Зотов, пожелавший знать об отношении царя к его деятельности в Париже: «…по се число не имею ни похвалы, ни гневу».[465]465
Там же, кн. 26, л. 4; кн. 24, л. 298; кн. 27, л. 116.
[Закрыть]
Выше упоминалось, что подавляющая масса писем Макарову носила деловой характер и, как правило, дублировала содержание доношений царю. Однако существовали отклонения от этого правила.
Первое из них допускали корреспонденты, хорошо осведомленные о порядке прохождения дел в Кабинете. Они справедливо полагали, что писать Макарову столь же пространно, как и царю, не было резона, ибо со всеми доношениями предварительно знакомился кабинет-секретарь. Например, Ягужинский извещал Макарова, что о делах ему не пишет: «…из письма к его царскому величеству довольно уведомиться можете». Так поступал и князь В. В. Долгоруков: «О чем мне надлежало писать, о всем писал я пространно до царского величества, ис чего изволите сами уведомитца». Князь Петр Голицын к письму Макарову от 14 февраля 1711 года сделал собственноручную приписку: «А с письма царского величества копии не послал я до вашей милости для того, что оное будет в руках ваших».
Второе отступление заключалось в том, что доношение царю существенно отличалось от письма Макарову, уступая последнему в богатстве содержания. Меншиков такие отступления мотивировал нежеланием утруждать царя всякого рода мелочами: «О протчем, не хотя ваше величество утруждать, писал я пространно секретарю Макарову». Алексею Васильевичу князь по этому же поводу писал: «А я его величеству сими малыми делами докучать не хотел, на что ожидать буду от вас ответу».
Генерал-фельдцейхмейстер Яков Брюс, человек лично хорошо известный царю, тоже не счел для себя возможным обращаться непосредственно к Петру по поводу того, что майора Молоствова, определенного к варению селитры на Ахтубе, полковник Кошелев назначил на другую службу. Жалобу на действия Кошелева Брюс отправил Макарову.
Не решился беспокоить царя и А. И. Репнин, отправивший Макарову сопроводительное письмо с объяснением причин своего отсутствия на свадьбе князя-папы Аникиты Зотова. С оправданием – и опять не к царю, а к Макарову – обратился Алексей Дашков, которому царь повелел присутствовать на церемонии встречи османского посла: «…и я б его величества указ исполнить готов по должности моей, но истинно, государь, Богом свидетельствуются, также и все куриеры, которые ко мне от вашего превосходительства приезжают, видят, что уже я три недели с постели не встаю и учинить того отнюдь не могу болезней ради моих. Того ради покорно вашего превосходительства прошу сотворить со мною милость и донесть о том его величеству, чтоб на мене в том надеяния не было и какова медления не произошло». Объяснение неявки по вызову царя адресовал Макарову казанский губернатор Петр Салтыков. Царь обязал его прибыть в Петербург в ноябре 1714 года, но тот занемог и искал заступничества у Алексея Васильевича: «Прошу тебя, моего государя милостивого, охрани меня, дабы в том его величество на меня, раба своего, не прогневался».
Брюс, бесспорно, имел полное основание не тревожить царя по поводу такого пустяка, как изъятие из его ведомства безвестного майора Молоствова. Можно согласиться и с доводами Репнина и Дашкова, полагавших, что их донесения следовало адресовать не царю, а Макарову. Однако в некоторых случаях авторы писем, похоже, преднамеренно умаляли значение вопроса, чтобы на этом основании не докучать царю.
Тот же Брюс, например, в мае 1712 года в письме Макарову обстоятельно описал постигшую его неудачу при попытке заполучить от магистрата Данцига 100 тысяч талеров за игнорирование горожанами указа царя о запрещении торговли со шведами. «Но паки от них ничего, кроме стыда, не получил», – жаловался Брюс. В магистрате отклонили его требование и рассуждали так: «Хотя бы де вы что захотели над нами учинить, и мы ведаем, что вы ныне не в таком состоянии… А мы, слава Богу, в таком состоянии, что довольное число всего ко обороне имеем». Вопрос, как видим, не мелкий. Весомость ему придавали не только престижные соображения, но и 100 тысяч талеров. Тем не менее Брюс писал Макарову: «…не хотя его царское величество безпутным делом докучать, того ради прошу вашей милости удобным часом его величеству донести».[466]466
Там же, кн. 21, л. 740, 247; кн. 26, л. 892; кн. 13, л. 345; кн. 28, л. 17, 18; кн. 64, л. 1055; кн. 15, л. 124, 125.
[Закрыть]
Меншиков, как, впрочем, и другие корреспонденты, находившиеся с Макаровым в доверительных отношениях, нередко информировал кабинет-секретаря о фактах и событиях, которые считал целесообразным скрывать от царя. Так, в июле 1716 года Меншиков писал Макарову, находившемуся вместе с царем за границей: «Також в Питергофе и Стрелиной в работниках больных зело много и умирают непрестанно, ис которых нынешним летом больше тысячи человек померло. Однакож о сем работничьем худом состоянии пишу к вам во особливое ваше ведение, о чем, разве какой случай позовет, то тогда донести можете, понеже, чаю, что и так многие неисправления здешние его царское величество не по малу утруждают». В доношении царю, отправленном в тот же день, о массовой гибели работников – ни единого слова. Правда, князь сообщил, что работы на острове Котлин он обрел «в слабом состоянии», но причиной тому были непрерывные ливневые дожди.
4 мая 1723 года Меншиков отправил из Вышнего Волочка, где находился проездом, доношение царю и письмо Макарову. Оба документа – об одном и том же: он, Меншиков, находится в Вышнем Волочке и на днях покинет его. Однако в письме Макарову есть существенная деталь, отсутствующая в доношении царю: «Не мог и сего оставить, чтоб вашей милости не объявить, что от Москвы до сих мест в пути сена и овса и людем пищи нигде купить сыскать не могли, в чем великую имели нужду».
Напомним, в 1723 году, как и в предшествовавшем, губернии Центра России и Поволжья постиг неурожай. Народ испытывал бедствие, с отзвуками которого познакомился и светлейший. Остается гадать, почему он не сообщил об этом царю. Возможно, он полагал, что о недороде и голоде Петр был хорошо осведомлен и поэтому испытанные им, Меншиковым, путевые неудобства носили столь личный характер, что не заслуживали упоминания. Более вероятно, однако, предположение, что опытный царедворец считал, что Петру не следует знать о неприглядных сторонах своего царствования.
Меншиков был не единственным корреспондентом, информировавшим Макарова обстоятельнее, нежели царя. Подобным образом поступал и рижский губернатор Петр Голицын, правда по иным мотивам. Он как-то пожаловался царю, что начиная с 1714 года у него ежегодно вычитают из жалованья по 1200 рублей штрафных денег, а служителей губернской канцелярии держат на правеже: «…бутто за мое губернское неизправление». Челобитная губернатора отличается сухостью и деловитостью, в ней отсутствуют эмоции. Зато в письме Макарову, отправленном в тот же день, Голицын дал волю своим чувствам. Он просил кабинет-секретаря «…учинить вспоможение, чтоб на мне и на оных бедных канцелярских служителях, которые, кроме жалованья, никакова имеют иждивения и весьма нужные, того жалованья не править и людей моих и их чрез ваше ходатайство с правежа освободить». И далее следовал морально-престижный аргумент, о котором он в челобитной царю упомянуть не осмелился: «…воистину, мой милостивой, пред здешним народом в том правеже превеликой стыд, какого, надеюсь, как и Рига зачалась, не бывало».[467]467
Там же, кн. 28, л. 86, 88; кн. 63, л. 579, 580; кн. 32, л. 185.
[Закрыть]
Откровеннее с Макаровым, нежели с царем, был и фельдмаршал Б. П. Шереметев. В июле 1717 года он отправил царю челобитную об освобождении от службы. Сочинена она была в характерном для Шереметева ключе, с присущим ему умением плакаться и канючить. Ссылаясь на «лета… престарелые и слабость здоровья» своего, Борис Петрович испрашивал у царя разрешения «…ехать прямо в домишко свои и в деревнишки для управления и для розделу невески своей, чтоб я их успел при себе розделить з детьми своими». Далее следовали жалоба, что он «сколько лет домишка своего» не видел, и соображения, как он организует свою жизнь в столице, когда туда переедет. Если, рассуждал фельдмаршал, ехать туда сейчас, то «прожить будет в Питербурху нечем и совсем не только себя, но и жену з детьми разорю».
В письме к Макарову Шереметев подробнее объяснял, почему он не может тотчас поселиться в столице: «…хоромишки, которые были мазанки, и о тех пишут ко мне, что сели, жить в них никоими мерами нельзя». Щедрее делился он с Алексеем Васильевичем и своими планами на будущее: «Зимою бы нынешнею и на весну водою приготовил бы припасами и основательно б все мог управить». Письмо заканчивалось собственноручно написанной фразой: «Покорне вас прошу, не оставь моей прозьбы при таком приличном случае».
Увольнения в отставку домогался и казанский вице-губернатор Никита Кудрявцев, причем его письма Макарову тоже отличались от доношений Петру. Царь обещал удовлетворить желание Кудрявцева после своего возвращения из-за границы. Петр вернулся из путешествия в 1717 году, но Кудрявцев отставки не получил. Повременил царь с удовлетворением его просьбы и в следующем году, на этот раз по той причине, что губернатор Салтыков отправился на лечение в Москву. Кудрявцев, вынужденный тянуть непосильную из-за старости лямку управления губернией, 22 сентября 1718 года написал два послания: челобитную царю и письмо Макарову. В челобитной он сетовал на то, что Салтыков отправился в Москву «на малое время», «но изволит быть в Москве и доднесь». Между тем о себе Кудрявцев писал: «…так весьма уже ослабел, что часто непамятством одержуся, говоря многое не то, что надобно».
В письме Макарову деликатные слова о том, что губернатор, излечившись от недуга, «свободно изволит быть в Москве», заменены более резкими, причем старик не удержался от жалоб на своего начальника и колкостей в его адрес: «…превосходительный мой губернатор оставил меня во всяком бедстве и в тягосте и живет в Москве не для пользы болезни своей, только продолжает время, чтоб ему прожить, по коих мест разделитца всякое правление по коллегиям».[468]468
Там же, кн. 33, л. 851–853; кн. 37, л. 308, 413.
[Закрыть]
Автор не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что Кабинет работал, подобно хорошо отлаженному механизму, без сучка и задоринки; что возглавляемому Макаровым учреждению не были присущи черты, свойственные любому учреждению абсолютистского государства. Напротив, имеется множество свидетельств тому, что бюрократизм, волокита и производное от них медленное, как в сонном царстве, течение дел составляли характерную черту работы Кабинета.
То, что Кабинет функционировал далеко не безупречно, явствует из наличия повторных донесений с напоминаниями, что ни на одно из них не получено ответа. Таких напоминаний и просьб – бесчисленное множество. Так, рижский губернатор Петр Голицын испрашивал царского повеления на свое доношение от 28 августа 1713 года: «…на мои пункты, которые я прежде послал до его величества». Прошло более месяца, и Голицын вновь напомнил Макарову об отсутствии указа на ранее отправленные доношения. Свидетельство на этот счет Василия Долгорукова: «Писал я до царского величества многократно о многих самых нуждах, ни на одно не получил отповеди, ис чего немалой труд и печаль я принимаю». Канцлер Гавриил Иванович Головкин тоже сетовал на несвоевременные ответы на запросы. «Однако же, – писал он Макарову 26 мая 1713 года, – не на все дела, изображенные в тех письмах, решение к нам прислано, но о многих умолчено».
Случалось Макарову получать и сердитые письма – не с просьбами, а с упреками. Одно из них, отправленное 18 февраля 1718 года, принадлежит русскому резиденту в Лондоне Федору Веселовскому: «Я уже, государь мой, не могу больше писать к вам о комиссиях, положенных на меня, ибо сколько кратко к вашей милости не писал, однакож по се время ни одной строки в ответ не получил и так оставлен, что уже никакого способа не имею, как исправитца… Все сие становитца в немалой убыток за тем, что нескоро от вас указ получить могу».[469]469
Там же, кн. 17, л. 164, 165; кн. 15, л. 436, кн. 18, л. 641; кн. 35, л. 251.
[Закрыть]
Трудно сейчас ответить, кто повинен в том, что Веселовский и Голицын своевременно не получили указов на свои запросы: сам царь, хранивший молчание после заслушивания доклада и по каким-то соображениям считавший нужным повременить с решением вопроса, или его кабинет-секретарь, ожидавший «благополучного часа», чтобы доложить, а доложив и получив указ, не спешивший уведомить о нем заинтересованное лицо. Вряд ли, однако, Макаров осмеливался доводить дело до того, чтобы в его адрес раздавались упреки и жалобы корреспондентов или брань разбушевавшегося царя. Для покорно послушного Макарова, неизменно учтивого и обходительного, последнее исключалось: он умел рассчитывать свои действия, соразмерять их с последующими ответными шагами, взвешивать последствия.
Впрочем, иногда Макаров шел на риск, причем тогда, когда он не сулил лично ему выгод. Рисковать побуждали его доброта, приятельская верность и стремление выручить друзей из беды. В подобных случаях Макаров, надо полагать, сознательно клал под сукно бумаги, усугублявшие положение людей, нуждавшихся в его помощи.
Алексей Васильевич имел репутацию человека отзывчивого и душевно щедрого. Один из его корреспондентов, видимо лично ему незнакомый, писал: «…не имея ни малого услужения до вашей, моего государя, персоны, токмо разсуждая и видя ваше благое и милостивое склонение ко убогим…» Сразу же оговоримся, что автор этих строк, Иван Измайлов, не принадлежал к «убогим» в подлинном смысле слова. Он зря уничижительно называл себя человеком «мизерным», ибо владел 70 дворами крепостных. Поэтому Измайлова можно заподозрить в стремлении подхалимством расположить к себе кабинет-секретаря. Но вот что писал Макарову Конон Зотов, сын знаменитого князя-папы: «Одним словом, Никите Моисеевичу обязан за рождение и за воспитание, а вам – за благодеяние и милосердие».[470]470
Там же, кн. 27, л. 14.
[Закрыть]
Существует, кроме того, такой объективный показатель добродушия и благожелательности Макарова, как призывы к нему о помощи опальных, попавших в немилость. Он оказывал заступничество даже тем, покровительство которым было опасно и могло накликать беду. Среди них – первый прибыльщик, ставший затем архангелогородским вице-губернатором, Алексей Курбатов, московский вице-губернатор Василий Ершов, любимый денщик царя, а затем адмиралтеец Александр Кикин и многие другие. Не стеснялся обращаться за «предстательством» к Макарову и сам Меншиков.
Содержание многочисленных писем Курбатова Макарову, а также донесений его царю дает основание для заключения, что первый прибыльщик России был обязан Макарову сохранением жизни: если бы не советы и заступничество кабинет-секретаря, то, возможно, Алексей Александрович распрощался бы с земными заботами в тюрьме под пытками или на эшафоте.
У истоков опалы Курбатова находилась его ссора с Меншиковым. Поначалу отношения между ними были такими, что, казалось, их водой не разольешь: князь споспешествовал карьере Курбатова, а последний всячески угождал своему патрону. В одном из писем царю Курбатов называл Меншикова «избранным от Бога сосудом, единственным человеком, который без порока перед царем».[471]471
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. VIII. М.,1962. С. 500.
[Закрыть] Изредка между ними случались размолвки, но они были кратковременными.
Положение круто изменилось после 1711 года, когда царь назначил Курбатова архангелогородским вице-губернатором. Прибыльщик отправился в Город, как тогда называли Архангельск, и там обнаружил противозаконные действия агента Меншикова Дмитрия Соловьева. Вопреки царскому указу, запрещавшему вывоз хлеба за границу, Соловьев продавал его в Голландию. Курбатов настрочил донос царю. С этого времени Меншиков и Курбатов стали непримиримыми врагами и так крепко вцепились друг в друга, что разняла их лишь смерть Алексея Александровича.
К следствию по делу Соловьева был привлечен и Курбатов, который, несмотря на кратковременность пребывания в должности вице-губернатора, успел совершить ряд непристойных поступков. Ему пришлось оправдываться. Делать это было непросто, так как следственные комиссии испытывали давление со стороны всесильного Меншикова и его клевретов.
Здесь не место для обстоятельного изложения перипетий следствия. Наша задача скромнее – описать роль в этом деле Макарова. Она была сложной и требовала от кабинет-секретаря не только ловкости, но и отваги. Ему приходилось лавировать между противоборствовавшими силами – Меншиковым и Курбатовым, с каждым из которых он находился в приятельских отношениях. Кроме того, Макарову надлежало считаться и с самим царем, внимательно следившим за ходом следствия и считавшим Курбатова казнокрадом.
Дружеские отношения Курбатова с Макаровым не составляли тайны для окружающих. Иван Хрипунов, многие годы служивший под началом Курбатова, когда тот еще был руководителем Оружейной палаты, писал о себе Макарову в 1713 году: «Больши четырех лет служил его величеству при верном его величества рабе, а вашем друге, во определении математических школ и многотысячного збора крепосных дел и дел же оружейных». Знал о приятельских отношениях между Макаровым и Курбатовым князь Михаил Волконский, отправленный в Вологду и Архангельск для следствия по доносу Курбатова. Волконский делился с Макаровым сомнениями относительно успешности выполнения своего поручения, в частности, потому, что полагал: Курбатов «будет по любительной вашей дружбе до вас, моего государя, писать…».
До начала следствия Волконский, похоже, не питал неприязни к Курбатову. В спокойном и благожелательном тоне он извещал Макарова из Вологды: «… к Алексею Александровичу послал указ великого государя, чтоб к прибытию моему изготовил сведения, кои надлежат к тому делу». Следователь обещал вести дело «без всякого ухищрения… сколько глупово умишку моего есть».
Курбатов тоже поначалу не выказывал настороженности и подозрений относительно намерений следователя. В августе 1713 года он писал Макарову о Волконском: «А каковым усердием во оном розыске послужит – неизвестно». В дальнейшем отношения между Волконским и Курбатовым ухудшились настолько, что вести следствие стало практически невозможно. От следователя и подследственного посыпались взаимные жалобы. Курбатов закусил удила, стал в позу, считал себя крайне обиженным прежде всего тем, что его, человека, разоблачившего проделки Соловьева, привлекают к следствию. Свое негодование он изливал Макарову: «Господин маэор князь Волконский подавал мемориал на Москве в Сенате. Ежели по Соловьеву розыску надлежит мене допрашивать или взять скаску, или дать очные ставки, дабы я ему в том был послушен. И по ево желанию, жалея меня, и учинили. Разсуди, мой милостивый государь, каковая ко мне милость – не во ино что тщатся, точно безславие мне в народе зделать. То ли моя вина, что, всякой страх оставя, писал на Соловьева, видя ево неправость, за что было меня их милости, яко верным сущим, надлежало любить, а они начали губить».
Жаловался на Курбатова и Волконский: «Только что, государь мой, за чем не посылаю указы, ни на что отповедывания нет». В другом письме Макарову гвардии майор сокрушался по поводу полного игнорирования подследственным его распоряжений: «Не знаю, что мне и делать».
Вряд ли Курбатов вел бы себя столь заносчиво, если бы не рассчитывал на безоговорочную поддержку Макарова. Из его писем кабинет-секретарю явствует, что он согласовывал с ним каждый свой шаг: либо спрашивал совета, следует ли ему подавать доношение на имя царя, либо интересовался отношением царя к уже поданному доношению, либо, наконец, просил Макарова, чтобы тот «предстательствовал» за него перед царем и защитил его от всяческих «турбаций».
В первые годы работы следственной комиссии Курбатов пытался убедить всех и вся в своей невиновности. «Ей, ей, – писал он Макарову, – ни в чем же (при помощи Божии) надеются быти виновен, разве что по неведению многих ради моих суетств учиних, и в том, уповаю на Бога, едва сыщется». Виновником своих бед Курбатов считал Волконского, якобы предвзято к нему относившегося: «Не бегу от правосудия царска, но к нему прошуся, а он (Волконский. – Н. П.) – злоковарной лукавец и, всякие неправды исполненный, явно от того правосудия бежит».[472]472
РГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 167; кн. 17, л. 110,111 90, 92, 779; кн. 23, л. 845.
[Закрыть] Курбатов в эти годы вел себя так, будто он стал жертвой недоразумений, что все в скором времени образуется и возведенные на него обвинения развеются в прах.
Но по мере того как следствие подтверждало одно обвинение за другим, тон Курбатова менялся и он все менее категорично отрицал свои преступления: «А что до самих нужд моих и прокормления и брал сверх жалованья небольшое, и то не тайно, но с росписками, которой долг и доныне на мне явен есть». В доношении царю Курбатов напомнил о том, как в течение своей ревностной службы он «без тягости народа» принес казне «многосотные тысячи рублев» прибыли. В 1705 году он, будучи в Ратуше, увеличил питейный сбор только по одной Москве на 112 тысяч рублей, а в 1711 году сверх оклада собрал по Архангелогородской губернии 300 тысяч рублей. Гербовая бумага, введенная по его предложению, обеспечила поступление в казну 50 тысяч рублей прибыли. Перед нами типичный образец рассуждений казнокрада XVIII века, не видевшего ничего зазорного и тем более преступного в том, что он из полученных его радением казенных доходов малую толику, какие-то крохи, присваивал себе.
Но воззрений Курбатова почему-то не разделял царь. Следствие продолжалось, и Макаров делал все возможное, чтобы облегчить судьбу приятеля. Сохранилось письмо Макарова своему помощнику Черкасову с Марциальных вод, где в январе 1719 года он находился вместе с Петром: «Алексею Александровичу поклонись и скажи, что я всеми мерами об нем старатца буду, а по се время еще (кроме того, что при тебе в Шлютебурхе) на разговор об нем часу удобного не сыскал».[473]473
Там же, кн. 30, л. 252; кн. 53, л. 453.
[Закрыть]
Можно не сомневаться, что Макаров «сыскал» в конце концов «час удобный» для разговора с царем, – он был человеком обязательным. Но столь же бесспорно, что старания кабинет-секретаря оказались тщетными и веру царя в виновность Курбатова он не поколебал. Если бы Макарову удалось добиться угодного Курбатову решения, то последний не стал бы подавать царю челобитную с признанием своей вины. Впрочем, по сути дела это было не признание, а полупризнание, ибо Курбатов изворачивался и хитрил.
Общеизвестно, что обвиняемый тех времен если не располагал убедительными доводами для своей реабилитации, то прибегал к одной из трех формул: проступок-де он совершил либо «с простоты», либо «в беспамятстве», либо «спьяна». Курбатов, например, признал, что получил от хлебных подрядчиков взятку в 1500 рублей, и тут же придумал более изощренное, но не менее нелепое объяснение, которое, как ему казалось, могло убедить царя в том, что он, беря взятку, руководствовался благими намерениями: «А те деньги приняты под таким видом, чтоб донесть о том царскому величеству, а во уверении того писал он о пресечении дорогих подрядов». Итак, хотел донести, но не донес – слишком велик был куш, чтобы устоять от соблазна его прикарманить.
Жители Кевроля и Мезени дали Курбатову «в почесть» 300 рублей, чтобы он сквозь пальцы смотрел на уменьшение налогоплательщиков. Курбатов признал получение денег и опять попытался превратить порок в добродетель: «…он, приняв 300 рублей, запамятовал их отослать в Канцелярию на содержание школ и шпиталя, но за нуждами в то время не отосланы и по розыске Волконского дослать не успел».
Следственная комиссия подсчитала, что за три года Курбатов получил от городского населения управляемой им губернии «харчевых и почесных подносов» на сумму до 4 тысяч рублей. Курбатов оспаривал эту сумму, считая, что ему перепало до тысячи рублей, и тут же подчеркивал, что он брал «из мирских, а не государевых» доходов. В «почесть» он принимал виноградное вино, водку, деньги и пр. Кроме того, он, по собственному признанию, с 1705 по 1714 год присвоил 9994 рубля казенных денег.
Комиссия не завершила следствие: в дополнение к изученным 12 делам надлежало рассмотреть еще 15. Но и расследованные дела позволили предъявить Курбатову обвинение в присвоении им 16 422 рублей. В разгар следствия Курбатов умер. Комиссия затруднялась определить, по какому, так сказать, разряду его надлежало хоронить – как честного человека или как преступника. При этом майор Михаил Нарышкин, сменивший Волконского на посту руководителя следственной комиссии, извещал Макарова, что «о винах ево, Курбатова, его величеству не докладывано и эксекуции над ним, Курбатовым, никакой не чинено».[474]474
Там же, кн. 52, л. 817, 818; кн. 56, л. 229–231.
[Закрыть]
У другого опального – Василия Ершова было немало общего с Курбатовым. Ершов происходил из холопов Б. П. Шереметева и, подобно Курбатову, тоже занимал должность вице-губернатора. Оба они считали себя жертвами навета людей, завидовавших их блестящей карьере. Курбатов писал Макарову в 1713 году: «Истину реку ти: едва не вси мя возненавидеша, а за что – не вем, разве за усердие мое ко всемилостивейшему нашему государю». В другом письме Курбатов восклицал: «Ой, батько мой, вижду, что мне учинила ревность моя». Ход мыслей Курбатова перекликался с рассуждениями Ершова. Последний жаловался Макарову: «А за земские труды мои, тяжкие и верные, и за доброе мое отважное сердце, и за незазренную мою совесть, того ль я, сирой, ожидал». И далее: «…мнози жаждут изтребления моего».
Налицо и некоторая общность психологии опальных. Ершов, как и Курбатов, ссылался на огромные прибыли, полученные казной благодаря его усердию. В челобитной царю Ершов сообщал, что «ревностишкою моею» только в 1711 году при заключении винных и провиантских подрядов, а также питейных и таможенных сборах учинено прибыли 116 тысяч рублей. Кроме того, в результате его усилий Дворцовая и Мундирная канцелярии получили 400 тысяч рублей прибыли.
В остальном они были несхожи. Курбатов – человек дела, его письма и доношения отличаются лаконичным и ясным изложением цели, ради которой они были написаны. Письма Ершова, напротив, многословны, велеречивы, с нотками разочарования в суетной жизни и стремления разжалобить кабинет-секретаря описанием болезней и предчувствием скорой кончины. Степень близости каждого из них к Макарову тоже была различной. Курбатова, как свидетельствуют его письма, с Макаровым связывала дружба. Отношения кабинет-секретаря с Ершовым, видимо, были хотя и приятельскими, но менее доверительными.
Наконец, различными были и причины опалы: Курбатов обвинялся в казнокрадстве и мздоимстве, а Ершову было предъявлено обвинение всего лишь в несвоевременной доставке Сенату приходно-расходных книг за 1710 год и в невыполнении Московской губернией поставок провианта. Тем не менее Ершов тоже был отстранен от должности московского вице-губернатора и лишен вотчин и, подобно Курбатову, просил у Макарова заступничества и покровительства. Ершов, однако, заметил некоторое равнодушие Макарова к своим просьбам. «Прости меня в сомнении моем, – атаковал он в лоб Макарова, – но точию больши полагаю на то, что есть вашей милости от некоторых на меня теснота, что так я оставлен вашей древней милости без показания мне к тому причин». Но, подозревая Макарова в безразличии, Ершов, кажется, ошибался. Такой вывод напрашивается при чтении его следующих слов: «…но видно по всему, что есть на то воля божия, что никакое ваше старание в действо не приходит ни в которую сторону».[475]475
Там же, кн. 17, л. 767, 784; кн. 15, л. 454, 455, 448, 449; кн. 30, л.10, 11.
[Закрыть]
Давнишним приятелем Макарова был Александр Васильевич Кикин. Письмо, полученное Макаровым в 1711 году, мог отправить только близкий человек, во всем доверявший адресату. «Понеже я на вас, моего милостивого государя, имею такую надежду несумненную, яко на единоутробного моего брата, – писал Кикин Макарову, – того ради прошю вас, сотвори со мною милость: уведомь мене, не происходило ли от кого о мне по отлучении моем каких противностей и не было ли какого упоминовения от царского величества». На этот раз Кикин отделался легким испугом.
Серьезные неприятности подстерегали Кикина в 1713 году, когда Александр Васильевич, если бы не заступничество Екатерины, мог лишиться всего, в том числе и жизни. Но потерял он лишь доверие Петра и должность, то есть оказался в опале. Кикин, разумеется, был хорошо осведомлен о весьма ограниченных возможностях кабинет-секретаря чем-либо помочь ему и поэтому в отличие от Курбатова просьбами о «предстательстве» его не донимал. Посредничество Макарова могло нанести непоправимый вред, ибо раздражение царя против Кикина, растоптавшего уважительное к себе отношение преступными махинациями с подрядами, не знало границ. Коварный Кикин решил действовать исподволь. Он узнал, что избежал виселицы благодаря Екатерине, и просил Макарова передать ей «всенижайший поклон». В другой раз Кикин попытался потрафить царю тем, что просил Макарова доложить Петру о желании его племянников отправиться за границу изучать навигацию или какую-нибудь другую науку.
Активное участие Кикина в деле царевича Алексея решило судьбу некогда любимого царского денщика – он был казнен. Трагическая гибель Александра Кикина отразилась и на его родственниках. Один из них, Иван Кикин, астраханский обер-комиссар, просил Макарова помочь ему вернуть конфискованные вотчины, иконы и прочие «пожитки». Это не первое обращение Ивана Кикина к Макарову, ибо в этом же письме он благодарил кабинет-секретаря «за показанные твои ко мне многие милости».[476]476
Там же, кн. 12, л. 615; кн. 23, л. 847, 852; кн. 41, л. 222.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































