Текст книги "Академик Пирогов. Избранные сочинения"
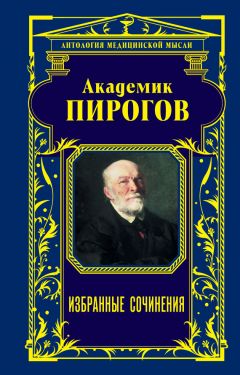
Автор книги: Николай Пирогов
Жанр: Медицина, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
17–18 февраля [1880 г.]. Оба дня тепло – до 4–6 °R при S и SW, вчера (17) более пронзительном, сегодня слабом. Ясно. На солнце тает, но общей оттепели нет, хотя снег уже и проваливается под ногами.
Я знаю, что мое мировоззрение не имеет той фактической подкладки, которая в наше время требуется от всякого серьезного размышления. Но в том-то и беда, что нужно или вовсе отказаться от всякого мировоззрения, или же принять в основание одни слишком общие и потому слишком близкие к отвлечению факты. Мне не суждено быть позитивистом; я не в силах приказать моей мысли: не ходи туда, где можно заблудиться. И я поневоле основываюсь в моем мировоззрении на том, что мне кажется вне всякого сомнения, хотя бы это было более отвлечение, чем факт. Мне кажутся такого рода отвлечения так же несомненными, как мое собственное существование; к ним я отношу: мировую целесообразность; общий план творения; мировую мысль; силу, независимую от вещества; вещество, при умственном анализе превращающееся в нечто неуловимое чувствами, то есть также силу; начало жизни, проникающее вещество, но не зависимое ни от него, ни от физических сил, а целесообразно направляющее эти силы к самосохранению вещества, возведенного этим же началом на степень организмов и особей. Принимая все это за неоспоримые истины, мог ли я принять иное мировоззрение? Будет ли наукою когда-нибудь несомненно доказано, что высшие животные типы, формы и мы сами развились под влиянием внешних условий и сил из низших форм, а эти, в свою очередь, из первобытной органической протоплазмы, – мое воззрение от этого не изменится; так ли, иначе ли развилась животная жизнь на Земле, принцип целесообразности в творчестве от этого ничего не теряет и присутствие мировой мысли и жизненного начала во вселенной не сделается сомнительным.
Я не могу убедиться, – хотя мое собственное убеждение и не могу подтвердить фактами, – чтобы во всей вселенной наш мозг был единственным органом мышления; чтобы все в мире, кроме нашей мысли, было безумно и бессмысленно, и чтобы она одна придавала миросозданию смысл и разумную целесообразность. При таком одностороннем воззрении мне чрезвычайно странным кажется значение нашего мозга; выходит так, что в целой вселенной он один, ощущая внешние впечатления и не ощущая самого себя, служит местом проявления какого-то «я», вовсе не признающего своей солидарности с местом своего происхождения и как будто ему постороннего. Поэтому мне сдается не более и не менее правдоподобным другое предположение, что это пресмутное и странное наше «я» заносится в мозг и развивается там вместе с ощущениями от приносимых в него внешних впечатлений; другими словами ставится вопрос: не приносится ли наше «я» извне, и не есть ли оно именно мировая мысль, встречающая в мозге аппарат, искусно сработанный ad hoc[38]38
Для этого (лат.).
[Закрыть] силою жизни и назначенный ею для олицетворения и обособления мирового ума? В таком случае мозг был бы искусно сплетенною сетью для удержания и проявления в личном виде этого вселенского разума.
Во всяком случае, это, по-видимому, фантастическое предположение мне кажется все-таки более вероятным, чем то, вышедшее из школы чистокровных материалистов[39]39
Речь идет о философском течении, возникшем в Германии в 50-е гг. XIX в. Наиболее известными представителями этого течения были Бюхнер, Фохт, Молешотт, утверждавшие, что содержание сознания определяется главным образом химическим составом употребляемых человеком продуктов.
[Закрыть], по которому наша мысль приводится в зависимость от мозгового фосфора. Сколько бы я ни ел рыбы и гороху (по совету Молешотта), никогда я не соглашусь отдать мое «я» в крепостную зависимость от продукта, случайно полученного алхимиею из мочи. Если нам суждено в наших мировоззрениях подвергаться постоянно иллюзиям, то моя иллюзия, по крайней мере, утешительна. Она мне представляет вселенную разумною и деятельность действующих в ней сил целесообразною и осмысленною, а мое «я» – не продуктом химических и гистологических элементов, а олицетворением общего, вселенского разума, который я представляю себе свободно действующим по тем же законам, которые начертаны им и для моего разума, но не стесненным нашею человечески– сознательною индивидуальностью.
XIV
19 февраля [1880 г.]. Отличная погода при –1 °R (утром ясно и тихо для дня двадцатипятилетия).
25 лет тому назад я встречал этот день в Севастополе. Тогдашние занятия на перевязочном пункте и моя болезнь (тифоид) не позволили ясно сохраниться произведенному на нас впечатлению известием о новом вступлении на престол. Я помню только о каком-то безгласном изумлении при получении известия о кончине императора Николая. Мы почти ничего не знали о его болезни. Пред неожиданным отъездом великих князей (Николая и Михаила) из Севастополя разнесся слух о болезни императрицы, и никому из нас и в голову не приходило, что нас ожидало такое важное событие. О каких-либо предстоящих переменах с восшествием на престол нового государя тогда некогда было помышлять. У всех одно было на уме – настоящее, весьма неприглядное. Неприятель приближался своими осадными работами; предстояли новые битвы и кровопролития; все были уверены, что, несмотря на перемену правления, до мира еще далеко. Газет мы тогда почти не читали; они приходили Бог знает когда, да и читать было некогда.
25 лет прошло с тех пор. Многое великое совершилось, много хорошего. Многое переменилось к лучшему; но юбилей омрачен новым Севастополем, также доморощенным и также не без внешнего влияния, тревожащим Россию. Уже давно появившаяся в цивилизованном мире болезнь, именуемая мирскою печалью или болью, «Weltschmerz», развилась и у нас. Но наши мирские печальники еще решительнее западных, не задумались прибегнуть тотчас же к самым печальным мерам для излечения своей болезни; но об этом поговорю после.
На другой или на третий день после призыва к присяге новому государю, я пошел зачем-то к нашему госпитальному аптекарю в Севастополе и встретил его на дороге возвращающимся с почты с каким-то ящиком. Я полюбопытствовал узнать и зашел в аптеку; при раскрытии посылки оказалось, что это была атомистическая аптечка лейб-медика Мандта[40]40
Мартин Вильгельм фон Мандт (1800–1858) – лейб-медик Николая I, приверженец гомеопатии (атомистической медицины).
[Закрыть], предназначавшаяся для всех военных госпиталей и по высочайшему повелению разосланная по всей России; этою аптекою, а следовательно, и атомистическим способом лечения д-ра Мандта, должны были по воле покойного государя (Николая I) замениться прежние аптеки и прежние способы лечения в военных госпиталях.
Как только ящик был открыт, наш аптекарь, тертый немец, посмотрев на содержимое, прехладнокровно помотал головою и, закрыв ящик, сказал: «Опоздал». Только потом я понял, в чем дело. Приказ от военно-медицинского ведомства об этом нововведении был, вероятно, уже известен аптекарю, и он, получив эту курьезную посылку прежнего режима уже при новом, тотчас же сообразил, какая предстоит ей будущность.
XV
Февраля 20–21 [1880 г.]. Продолжается ясная погода с небольшим марецом SW; на солнце 0 – +5 °R; ночью морозцы в –2–4 °R.
Вообще для меня остается еще открытым вопрос – нормально ли анализировать себя? Человек, что называется, цельный, кажется, живет, мыслит, действует без разбирательства своего «я». Он так устроен и сам так устроился, что его мысли и действия, по его собственному убеждению, должны быть именно теми, какими они есть, а не иными. Психический процесс в таком человеке можно сравнить с заведенным однажды на все время его существования часовым механизмом. Маятник ходит ровно, мерно и правильно. Раскрывать и рассматривать этот механизм нет никакой надобности. Самоедство же – другого свойства. Это продукт едва ли не патологический, хотя на нем и основано глубокомысленное правило мудрецов о познании (конечно, посредством наблюдения и изучения) самого себя, – известное «гнофи сеавтон»[41]41
От греч. gnothi seauton – познай самого себя.
[Закрыть].
Руководясь этим правилом, нужно проститься с дорогою цельностью души; расщепление и двойственность делаются неизбежны; борьба наблюдаемого и наблюдающего начал неизбежна, когда наше «я» делается в одно и то же время субъектом и объектом. Вот и я упрекаю себя в этой двойственности, хотя она играла, может быть, немаловажную роль в моем самовоспитании и самообладании; без этой двойственности, то есть без наблюдения и анализа самого себя, я был бы, может быть, гораздо хуже, чем каким я считаю себя в настоящее время. Но большею помехою была она иногда для моей практической деятельности и способствовала к развитию духа противоречия и оппозиции. Этот оппозиционный дух проявлялся так же сильно в анализе мнений и действий моих собственных, как и посторонних.
Я с давних пор не могу ни на что смотреть и ни в чем убеждаться с одной стороны; непроизвольно при каждом новом для меня предмете я тотчас же заглядываю на него со стороны, противоположной той, с которой смотрю. Недаром я косил одним глазом (левым) с рождения. Эта разносторонность во взгляде на предмет, приносящая свою долю пользы, вредна действию, лишая его меткости, быстроты и сосредоточенности. Я это испытал, к сожалению, не раз в жизни; зато она предохраняла меня от вредных увлечений, выставляя мне тотчас же на вид худую сторону того, что меня манило к увлечению. Несомненную пользу доставила мне разносторонность в хронических случаях, когда было довольно времени до начала действия взвесить и оценить обсуждаемый предмет с противоположных точек зрения.
Странно и непонятно свойство нашего «я» делиться. Впрочем, не знаю наверное, действительно ли наше личное «я», или что другое в нас имеет это странное свойство. Знаю только по опыту, что различное настроение (веселое, тоскливое) у меня весьма редко овладевало вполне мною; почти всегда было так, что как будто одно мое «я» веселится, а другое в то же время тоскует и разбирает (анализирует) причину веселья первого. В порывах же страсти и увлечения все зависело от их степени; увлекающееся «я» быстро представляло свои мотивы; другое, удерживающее, так же быстро приводило свои, и увлечение одолевало и приводило в действие только, когда его мотивы представлялись какому-то еще третьему «я» более основательными и более сильными. Для психолога все это, конечно, вздор. «Я» у каждой особы одно – цельное и нераздельное. Ощущение, как будто во мне действуют два или несколько противоположных «я», есть какая-то иллюзия. С той поры, когда мы начинаем себя помнить, и до конца дней все мы отчетливо сознаем свое цельное и идентичное «я», как бы мы в течение жизни ни изменялись в характере, привычках, образе жизни и проч. Мы чувствуем перемены с собою, но в то же время сознаем, что эти перемены не сделали нас не нами.
XVI
С 22–27 февраля [1880 г.]. Температура менялась эти дни от –5 до +6 °R. 22-го – 25-го мороза почти не было; раз пошел снег с метелью, но скоро перестал. 25-го – 26-го – сильный марец NNW и температура понизилась от 0 до –5 °R. Было ясно и солнечно. Сегодня ветер NW тише и днем +2–3 °R. Ночью было 0°. Ясно. Все время возим навоз; десять с лишком моргов[42]42
Морг – земельная мера в Польше, равная приблизительно 0,56 га.
[Закрыть] уже унавожено. Пшеницу, проданную по 1½ рубля за пуд, увозят, но помалу…
Да, наше «я» цельно, нераздельно и тождественно в течение всей нашей жизни. Только умалишенные, и то не все, вероятно, не сознают тождества настоящего своего «я» с прежним. Откуда же иллюзия, представляющая нам, что мы можем в одно и то же время чувствовать и мыслить не только различно, но и противоположно, противодействуя одним чувством другому и изгоняя одну мысль другою?
Во-первых, мы обманываемся во времени; между одним ощущением и другим, одною мыслью и другою всегда есть промежуток времени между этими актами, как бы короток ни был и как бы ничтожным нам ни казался.
Во-вторых, иллюзия зависит от того, что наше «я» способно в одно и тоже время прикасаться, так сказать, к нескольким органам, имеющим различные функции, да и само оно, наше «я», как бы соткано из различных ощущений.

Мозг человека. Иллюстрация Жозефа Вимонта к «Трактату о френологии человека». 1835 г.
Что же оно такое, это пресловутое «я»? Личное местоимение? Или также одна иллюзия? Я полагаю, нужно сделать различие между двумя видами «я». Один его вид есть не более как ощущение личного бытия, свойственное каждой животной особи. В другом виде вместе с этим ощущением существует еще и более или менее ясное понятие о нем, т. е. о своей личности. Вот это-то сознательное понимание присущего нам ощущения бытия, т. е. своей личности, и есть наше человеческое «я», выражаемое словом – местоимением личным: у взрослых – в первом, у детей – в третьем лице. И животные выражают звуками ощущение своего бытия; но у них оно выражается всегда вместе с каким-либо позывом, чувством удовольствия или боли.
Наше «я» в его отношениях к разным психическим способностям можно сравнить с музыкантом, играющим в одно и то же время на нескольких разных инструментах; прикасаясь к ним посредством разных телодвижений, он умеет разыгрывать мелодические концерты. Так и наше «я», сотканное из различнейших ощущений, обладает способностью легко прикасаться в одно и то же время к элементам разных частей мозга и возбуждать психические функции, приводя деятельность этих органов в унисон, а иногда и причиняя нестерпимую для самого себя и для других какофонию. Как бы ни были локализированы различные психические функции по разным частям мозга, ощущение и понимание бытия, т. е. наше «я», не может быть локализированным. Чтобы разыграть, не нарушая законов гармонии, какую-либо мысленную тему, оно должно коснуться в одно и то же время и органических элементов, сохраняющих на себе отпечатки внешних впечатлений (т. е. памяти), и мозговых извилин, служащих органом слова, и не найденных еще локализаторами органов фантазии и рассудка. Это необходимо потому, что мы не можем мыслить и рассуждать, не приводя в то же время в действие нашу память, наше соображение и воображение. Этою способностию нашего «я» приводить одновременно или попеременно, с самыми краткими промежутками, не нарушая своей целости (не разделяясь), разные органы ощущений и различные психические способности, объясняю я себе и кажущуюся нам его двойственность, так хорошо выраженную в одном послании апостола Павла. Не только между желанием (волею) и действием, как замечает апостол, но и между первоначальными зародышами наших мыслей, чувств, желаний, нетрудно подметить у себя противоречие и двойственность.
Что такое наше «я» без ощущений (оно, как я сказал, из них соткано) – ignoro et ignorabo[43]43
Не знаю и не буду знать (лат.).
[Закрыть]. Мы, врачи и натуралисты, посвятившие себя с ранних лет фактическим исследованиям живых и мертвых организмов и органов, так привыкаем к находящейся беспрестанно пред нами и в наших руках связанной с органическими элементами жизни, что невольно смотрим на нее как на следствие, а не как на причину. Уколом одного пункта в продолговатом мозгу мы мгновенно прекращаем самую полную сил и здоровья жизнь. Можно ли же осуждать нас, если мы заключаем, что жизнь, подобно часовому механизму, останавливается с повреждением пружины? Не естественно ли заключение, что наша жизнь есть не более как регулированное органическим механизмом движение? Ключ к этому механизму в том пункте продолговатого мозга, который потому и должен называться жизненным узлом – noeud vital. С выходом нашим на свет, он заводит машину; первое проявление механизма есть дыхательное движение. Если мы не желаем назвать внешним миром для человеческого зародыша заключавшую его девять месяцев матку, то первое сообщение его с внешним миром состоит в движении грудного ящика. Что же может быть после этого для нас наше «я» без ощущений и без связи с приносящими и принимающими ощущения органами? Разве посвятившим себя изучению органической природы не доказывают тщательные исследования, что в органическом мире действуют те же самые силы и законы, как и в неорганическом, и не в праве ли мы заключить из этого, что все, что мы наблюдаем в животном организме, относится так же, как и в неорганических телах, к свойствам и функциям вещественных элементов, составляющих его части и органы?
XVII
29 февраля – 1 марта [1880 г.]. После оттепели, менявшейся с ночными небольшими морозами, вдруг при новолунии (28-го февраля) начинается студеный NW, и вчера (29-го) температура понижается до –7 °R с ужасною метелью (это был ураган, шедший, по газетным известиям, с востока и свирепствовавший в степных восточных губерниях), а сегодня хотя и ясно, но мороз утром в 10 °R при сильном холодном NW. Слава Богу, что поля наши с посевами еще покрыты снегом; но куда девается этот снег? Настоящих оттепелей еще не было; ни разу не текли с гор потоки, температура не возвышалась ни разу более +6 °R, и то только днем, а снег, что называется, изнывает видимо; уже местами на дорогах и на зябле (вспаханная с осени стерня) его вовсе нет; земля под ним отмерзает только по временам, и то не более, как на 2°; следовательно, глубоко проникать в землю тающий снег не может; больших луж и ручьев не видно; испаряться снег при ясной солнечной, но прохладной погоде едва ли мог сильно; он был рыхл и при малейшей оттепели проваливался; вероятно, он теперь сплюснулся и слой его оплотнел.
Да, научному эмпирику, при индуктивном методе исследования, трудно избегнуть иллюзии, представляющей ему невозможным существование сознательной мыслящей жизни вне организма и без возбуждающих ощущения органов. А между тем эта иллюзия основана, хотя на привлекательном и, по-видимому, бесспорном, но поверхностном и одностороннем взгляде на индивидуальные проявления жизни. Живущее в нас, ощущающее и понимающее ощущение, начало не может быть само органом, то есть объектом; оно, по существу своему, не может быть субъектом, то есть существом, отдельным от органа, конечно, не в смысле грубо вещественном и, конечно, не имеет известных нам и подверженных нашим чувствам свойств существ органических. Оно, тесно связанное с органическими элементами, без чего чувственные его проявления были бы для нас невозможны, с разрушением этой связи перестает быть объектом, то есть предметом чувственного исследования. Но удастся ли кому-либо представить себе возможность ощущения: понимать ясно ощущаемое (т. е. мыслить), не сознавая в то же время себя самого, то есть не быв субъектом (для себя). Нарушая или прекращая связь этого субъективного, ощущающего и сознающего себя начала с органическими элементами, мы уничтожаем только объективно-индивидуальное проявление его, а следовательно, и жизни, но не самое жизненное начало. Насколько же это начало и после разрыва органической связи может еще сохранять свой индивидуализм, – свой индивидуальный, так сказать, облик, – это другой, не менее по своему содержанию глубокий вопрос. О нем потом приведу мое личное воззрение.
В современной науке установилось, однако же, воззрение, противоречащее, по-видимому, тому, что ощущение и мышление должны быть всегда сознательны. Действительно, нельзя не принять, судя по многим фактам, в известных случаях бессознательных ощущений и размышлений. Уловить существенное различие между этими видами ощущений и мыслей и сознательными не всегда возможно. Вот факты. Верно, организм зародыша ощущает бессознательно: большая часть рефлексов основаны на бессознательном ощущении, переносимом на двигательные нервы. Внутренние органы, без сомнения, передают от себя разного рода ощущения; но они бессознательны и обнаруживаются обыкновенно одними рефлексами. Впечатления, приносимые нам чувствами, и особливо зрением из внешнего мира, производят в нас правильные представления о предметах не иначе, как с помощью бессознательного мышления, приобретаемого опытом. Многие движения тела совершаются также бессознательно. Но во всех этих явлениях под именем бессознательного ощущения и мышления нужно понимать, во-первых, одну лишь органическую восприимчивость или способность тканей к возбуждению; ее, может быть, приличнее было бы назвать ощутительностью, без которой ткань не могла бы ни возбуждаться стимулом, ни передавать его центрам для возбуждения рефлекса; во-вторых, целый ряд органических ощущений (идущих от внутренних органов) хотя и не сознается нами ясно и отчетливо, как сознаются внешние впечатления, приносимые чувствами, но все-таки действуют на сознание косвенно, возбуждая то фантазию, то позывы, то проявления страстей и другие неопределенные напоминания о себе; поэтому вполне бессознательными нельзя назвать эти ощущения; в-третьих, наконец, многие и вполне сознательные ощущения иногда так кратковременны, что тотчас же исчезают из круга нашей сознательной деятельности и не удерживаются памятью; а иногда, при внимании одностороннем и сосредоточенном на одном предмете, или вовсе не замечаются, или только по временам доходят до нашего сознания; например, позыв на мочу и на низ, при усиленных умственных и других занятиях долго не сознается или же сознается только временно, несмотря на растяжение пузыря и прямой кишки.
Что же касается до бессознательного мышления, без которого нельзя бы было объяснить многие явления в функциях наших чувств, например, оценку расстояний глазом, правильное представление о предмете, видимом с разных сторон двумя глазами, перспективу и т. п., то и тут, во многих случаях, кажущаяся нам бессознательность есть только следствие привычки и опыта; что было в начале жизни узнано нами постепенно сознательным опытом, то впоследствии, сделавшись нам известным и привычным, кажется бессознательным, и мы пользуемся потом плодами этого знания, не сознавая, что обладаем им посредством долгого опыта. Нет ничего мудреного, если при этом суждение, сделавшееся для нас обычным и вседневным, потом не принимается нами вовсе за суждение и кажется чем-то очевидным, наглядным, не требующим ни малейшего проявления мысли. Дважды два – четыре нами не считается уже, обыкновенно, за суждение; это кажется нам так же очевидным, как стоящий перед нами стол или стул, правильное представление о котором требовало от нас некогда также изучения, как и дважды два – четыре. Сверх этого, надо знать, что мысли, как и ощущения, вполне сознательные остаются иногда такими весьма недолго; иногда проблески мыслей в нашем сознании до того кратки, что их, без преувеличения, можно сравнить с блеском молнии; но, несмотря на свою быстротечность, многие из них, хотя и незамеченные, остаются в памяти, побуждая нас к действиям; в таком случае и действия, и мотивирующие их мысли могут казаться нам бессознательными. Иногда же внимание, погруженное в занятие каким-либо предметом, вовсе не замечает ни совершающихся действий, ни руководящих ими мыслей, хотя бы и те, и другие и не были вовсе бессознательными. Вообще, для точного решения вопроса о сознательности и бессознательности наших ощущений, мыслей и суждений необходимо умение превращать свое субъективное «я» в объект постоянного и непрерывного наблюдения этого же самого субъекта им же самим.

Иоганн Петер Мюллер (1801–1858). Известный немецкий физиолог, у которого Пирогов учился в 1833–1835 гг. в Берлине.
Но такая напряженная и односторонняя деятельность нашего внимания над тем, что есть сознательного и бессознательного в нас, очевидно, ненормальна, так что и результаты такого наблюдения не могут считаться ни достоверными, ни удобными для контроля. Рассказывают, что Иог[анн] Мюллер едва не сошел с ума от усиленного наблюдения над собою: он хотел уловить у себя момент перехода от бдения ко сну, то есть поймать у себя переход сознания в бессознательность. Мы не можем выйти из заколдованного круга, при всех наших усилиях определить точнее наше субъективное индивидуальное бытие. В общих чертах оно тождественно для всего человечества, имеет многие общие черты и с субъективизмом других животных. Но это сходство проявляется объективно только тремя путями: голосом (звуком), словом (членораздельными звуками) и движением (прямым и рефлективным). Все наши опыты и наблюдения над проявлением субъективного индивидуального бытия человека и животных не имеют других критериев. Но если все они, несмотря на приобретенные посредством их веские знания, ненадежны, сомнительны, двуречивы, то еще менее прочны те наши сведения, которые мы приобрели чисто субъективными наблюдениями.
1–3 марта [1880 г.]. Все время холодный NW; мороз в 4–5°, а ночью 10–12°. Сегодня (3 марта) теплее и тише (–1°).
Сегодня случайно услыхал об одной человеческой низости, свойственной исключительно холуйству. Максим, с детства почти оставленный отцом-солдатом в дворовых, обязанный нам своим, относительно порядочным, состоянием (тысячи в две), купивший на деньги, приобретенные у нас, дом и землю, оказался таким злым и коварным, что, лаская в моем присутствии моего кота Мошку и зная, что я его люблю, бьет его напропалую за глазами только за то, что ему, коту, а не ему, Максиму, достаются кости от жаркого за обедом.
Не вправе ли же я был заключать из сказанного, что в отношении нашей субъективной индивидуальности мы, действительно, стоим в заколдованном кругу. С одной стороны, объективные критерии для ее расследования (голос, слово, движение) ненадежны, неясны и двусмысленны; а с другой стороны, субъективные ненормальны до того, что, употребляя наше сознание и мысль для исследования сознания же и мысли, мы рискуем потерять и то, и другое. В самом деле, кто поручится за ясность и нормальность мышления у наблюдателя, направляющего беспрерывно все внимание и мышление на то, например, чтобы проследить начало и прохождение мысли в сознании; кто поручится, что подмеченное совершилось в наблюдаемом, а не в наблюдающем? А кто поручится также за правильное понимание нами субъективных явлений, обнаруживающихся такими объективными признаками, как звуки, издаваемые животным при ощущении боли, движения, называемые рефлексами, и объяснения разного рода ощущений словами?
Если и при таком наблюдении самого себя в нормальном состоянии трудно и иногда невозможно отличить бессознательное ощущение от сознательного, то при объективных исследованиях (как, например, при вивисекциях и опытах над анестезированными хлороформом) еще гораздо труднее различить сознательное от бессознательного. При вивисекциях и при наблюдениях над человеком больным или приведенным различными агенциями в ненормальное состояние субъективный элемент жизни подвергается от расстройства его нормальной связи с органическими элементами таким колебаниям и сотрясениям, которые не могут не влиять ненормально и на его объективные проявления. Поэтому суждения о натуре и особенностях субъективно-индивидуального бытия, основанные на опытах и наблюдениях над животными и больными людьми, должно делать крайне осмотрительно и не с тою легкостью, которая так удивляет меня в результатах, получаемых современными вивисекторами и наблюдателями. Еще гораздо труднее, ненормальнее и сомнительнее дело, когда мы беремся судить о нашем «я», другими словами – о нашем лично сознательном ощущении бытия, мысли и вообще о присутствии в нас субъективного начала со всеми его (психическими) свойствами. В этом случае, если правильно мое сравнение нашего «я» с музыкантом, играющим одновременно на нескольких инструментах, оно, наше «я», начинает играть, не быв виртуозом, на одном из них исключительно и делает, конечно, fiasco. Наше субъективное существо, по натуре своей, не может и не должно быть односторонним и чрезмерно сосредоточенным; ни одна из наших субъективных способностей не должна быть излишне культивирована на счет другой, и особливо в том случае, когда от природы развита у нас одна способность на счет другой; тут-то именно всего более должно избегать односторонней культуры. В противном случае нам предстоит одно из двух: или мы изумим свет нашим глубокомыслием и гениальностью, или превратимся в односторонних, узких и близоруких мономанов.
Первое встречается весьма редко; второе – весьма часто и гораздо чаще, чем это признают психиатры. Есть, впрочем, еще один исход – специализм, в наше время завоевывающий себе все более и более почвы во всех областях знания. Но те из специалистов, которые отличились своими истинными заслугами, вовсе не были односторонними культиваторами одной какой-либо из своих умственных способностей, прежде чем избрали свою специальность. Только этому разностороннему предварительному развитию своих способностей они и обязаны успехом в культуре избранного ими предмета; только этим способом они, расширив свой кругозор, сумели найти новые пути и посмотреть на дело новым взглядом.
XVIII
4 марта [1880 г.]. Мороз 7° ночью, днем 1°. Марец WN.
Сегодня отправил письмо к Николаю Христиановичу Бунге в ответ на его письмо, в котором он писал, что идет в отставку, так как по новому университетскому уставу, ожидаемому вскоре, ректорам нечего будет делать, кроме получения прибавки жалованья[44]44
Речь идет о готовящемся тогда университетском уставе, принятом в 1884 г., отменявшем автономию, которой пользовалась высшая школа по уставу 1863 г., выработанному при ближайшем участии Пирогова.
[Закрыть].

Николай Христианович Бунге (1823–1895). Российский государственный деятель, ученый-экономист, академик, министр финансов Российской империи (1881–1886 гг.). Бунге считается одним из крупнейших реформаторов XIX в., непосредственным предшественником С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. Он был сторонником умеренного либерализма, частной собственности и свободы предпринимательства. Пирогов сблизился с Н. Х. Бунге в бытность свою попечителем Киевского учебного округа (1858–1861 гг.), когда последний был ректором Киевского университета.
Мой ответ – не буквальный. Я читал где-то и когда-то, что новое на свете есть не что иное, как хорошо забытое старое. Я читал также в каком-то киевском календаре, что у нас ежегодно бывают возвраты зимы весною и летом, а возвраты болезней мне известны давно по опыту. Нет ничего мудреного, что и в университетской жизни встречаются возвраты к старому, забытому и прожитому. Но нынче, видно, считается за новое и вовсе еще незабытое старое, а возвраты зим и болезней встречаются не только в природе, но и в университетском мире. Старики, как известно, всегда хвалят старину и предпочитают ее новизне. Только все наши университетские старожилы, за исключением гг. Каткова, Любимова и Георгиевского[45]45
Николай Алексеевич Любимов (1830–1897) – российский физик, профессор Московского университета, один из учредителей Московского математического общества, публицист, ближайший друг и сотрудник М. Н. Каткова.
Александр Иванович Георгиевский (1830–1911) – один из главных деятелей по введению системы среднего образования в России, профессор всеобщей истории и статистики в Ришельевском лицее (в Одессе), редактор «Журнала Министерства народного просвещения» (1866–1881 гг.), ближайший помощник Пирогова по ведению преобразованной в 1858 г. газеты «Одесский вестник».
[Закрыть], верно, не вспоминают добром не забытого еще старого. Это обстоятельство, казалось бы, должно было обратить на себя внимание новаторов, стремящихся возобновить старое. Почему это не сделано – объясняется именно тем влиянием этих исключительных личностей, успевших победить в себе предрассудок против отжившего. Это не должно удивлять нас, замечательно для меня одно только – это смелость ума наших новаторов, не боящихся ответственности перед будущим.

Михаил Никифорович Катков (1818–1887). Влиятельный русский публицист, основоположник русской политической журналистики. Издатель и редактор газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник».
Возвраты зимы весною и летом наносят вред земледельцам; возвраты болезней опасны для больных; с стихийными, однако же, силами ничего не поделаешь; зато ум, данный нам Богом для целесообразных действий, казалось бы, должен был не на шутку и не раз призадуматься, придавая возврату худого и худо забытого старого значение благодетельной новизны. В таком случае вам, конечно, ничего не остается, как уступить свое место (ректорство) другим и предоставить им вливать это новое вино в такого же рода новые мехи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































