Текст книги "Клятва при гробе Господнем"
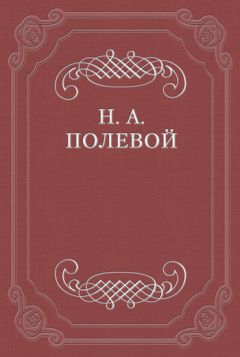
Автор книги: Николай Полевой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Глава VI
Кая житейская пища пребывает печали не причастна?
Кая ли слава стоит на земли?
Надпись на одной из княжеских гробниц в Архангельском соборе
Если грусть невольная одолевает сердце наше после живой радости, если мысль о ничтожестве человека налегла на нашу душу после гордой, высокой мысли, должно ли это почитать предвестием бедствия, грозящего нам? Не всегда; но – не презирайте предчувствия! Неизъяснимое, скрытое таинство заключено в этой безмолвной беседе души человеческой с будущим. Это грустный ангел, остерегающий вас… О, благоговейте перед его предостережением…
Недаром невольная грусть тяготила Шемяку, как мы видели это из разговора его с Исидором. Чуден человек тем, что все зависит от взора души его на окружающее! При весельи души его радужится пред ним будущее, цветится настоящее и воспоминание пережитой им горести покрывает прошедшее легкою грустью, похожею на радость, ярко представляя ему одно счастие былого! Но когда змея-горе сосет сердце человека – мрак облекает перед ним всю природу, темнит будущее, отравляет настоящее и клевещет на прошедшее, закрывая все его радости жалобою и горем. Заметили ль вы еще грустную игру судьбы человеческой? Как неверный друг сердца, поссорившись с вами, она вдруг, как будто раскается, спешит утешить, обласкать вас, помириться с вами… О! не верьте ей тогда, не верьте: это коварное обольщение перед побегом радости, перед разрушением счастия вашего! Ваше счастие хочет в последний раз напомнить вам о себе, дать вам почувствовать, чего вы лишаетесь, и – немилосердное! передает ваше сердце злодейке-печали!
Так и Шемяке пришлось испытать все это. Среди грустного, печального предчувствия беседа с Исидором освежила было душу его, упоила было ее думами, дотоле ей незнаемыми. Но безжалостно указала ему потом судьба на ничтожество человека в лице Константина и с злобным смехом повела его после сего в Кремль…
Что же там ожидало его? Что увидел он в Кремле? Много народа стеклось там на площадях и толпилось вокруг Кремля и около дворца, но это не были кипящие говором, шумные толпы; напротив, разделясь на небольшие собрания и беседы, отдельно, тихо, уныло разговаривал между собою народ. Многие, особливо старики, сидели и лежали на крыльцах и около стен, безмолвные, в грустном каком-то ожидании. Лошади бояр и чиновников дворских стояли в стороне, но были без всякого великолепия. Шемяка с ужасом предугадывал страшное событие и мысль, что за мгновенным порывом гордости судьба ведет его на зрелище смерти отца, как будто нарочно посмеиваясь ему – поразила князя! В то же время он помыслил, что лишается, хотя и слабого, но доброго, нежного родителя, и что будет теперь, если он скончался внезапно? – было последнею мыслью Шемяки…
Бледный, вне себя, вошел он в Большую дворцовую палату. Множество бояр и сановников, без всяких знаков пышности, сидели в сей палате в совершенном безмолвии. С изумлением увидел тут Шемяка князя Василья Ярославича, Юрью Патрикеевича и вообще всех Васильевых бояр, которые были взяты в плен, или захвачены в Москве, и находились под стражею. На лицах многих изображалась скорбь; некоторые тихо плакали, и все встали и почтительно ему поклонились.
– Что сделалось? Каков родитель мой? – поспешно спросил Шемяка.
«Он здравствует еще», – отвечал один из бояр.
– Слава Богу!
Но боярин продолжал: «Давно зовет он вас, князья, тебя и Василья Юрьевича, к себе; нам всем повещено собраться сюда; велено освободить и призвать всех бояр Василия Васильевича (примолвил боярин тихо). Мы собрались, ждем приказа – велено еще подождать – ужасная неизвестность заставляет душу ныть и сердце трепетать… Теперь у него священник с святыми дарами. О, князь, князь! До чего мы дожили!..»
Не отвечая ни слова, Шемяка пошел в комнату Юрия Димитриевича; тихо, но быстрыми шагами шел он, как будто желая скорее узнать меру своего несчастия. Все безмолвствовало вокруг Шемяки, и это безмолвие ужаснуло его, когда он подошел к дверям комнаты, где находился отец его. Дверь была затворена. Казалось, что за этою дверью ждало Шемяку будущее – и кто не ужаснулся бы, если бы ему сказали, что таинственный покров спадет в одну минуту с безвестного лица грядущей его судьбы? Невольно затрепетал и оцепенел Шемяка – «Помедли еще одно мгновение! – шептал, казалось ему, таинственный какой-то голос, – еще судьба в твоей власти; переступив этот порог, ты не будешь уже владеть ею! – Но, каждое мгновение есть, может быть, ужасный вычет из последних часов моего родителя. О Боже! Благословение, благословение его потребно мне, и от всего я отказываюсь!..» Шемяка медленно растворил дверь…
Окна комнаты были затворены изнутри ставнями. Летнее, светлое небо не было видно в этой обители скорби. Огромная, великолепная кровать великокняжеская стбяла у стены порожняя; широкая, отодвинутая от стены скамья, закрытая ковром, с одною большою подушкою составляла одр, на котором лежал в это время старец Юрий, сильный победитель, Великий князь Московский. На нем была надета белая рубашка; до половины тела закрыт он был собольим своим тулупом. Димитрий Красный поддерживал его голову; священник стоял перед ним с крестом. Глаза Юрия были закрыты. Длинные седые волосы и борода его были в беспорядке; благодушное лицо его было бледно… смертный колоколец звенел в груди.
Невольно сжались руки Шемяки. Но Димитрий Красный дал ему знак молчать. Священник оборотился к пришедшему. – Неужели все уже кончилось? – спросил тихо Шемяка. – «Нет! он сейчас говорил, – прошептал священник. – Не тревожьте его печалью, не мешайте ему». – Но лекарь, лекарь? – спросил Шемяка. Священник возвел глаза к небу. «Молитесь, – сказал он, – о блаженной, тихой кончине его. Он не велел призывать врачей и требовал только духовного врача».
Тут вдруг, неожиданно, Юрий открыл глаза и вздохнул свободнее. «Кто здесь? – сказал он. – Слышу, что кто-то пришел… Ты ли это Василий? Кто говорит здесь? Чувствую, что это голос сына! Ты ли это, Василий?»
– Нет! Это я, Димитрий, родитель! Неужели ты не узнал меня! – сказал Шемяка, повергаясь на колени перед умирающим.
Юрий хотел поднять голову, но не мог, тихо протянул руку, повел по голове Шемяки, собрался с силами и снова повторил: «А Василья нет?» Глаза его обратились к небу и наполнились слезами.
– Родитель мой! Мог ли я ожидать, оставляя тебя за три часа здрава и в силах, что увижу тебя в таком состоянии!
«Нет! Я давно уже знал, но… – Юрий улыбнулся, – зачем было тревожить вас? И без того вы нагорюетесь обо мне, бедном старике. Ты плачешь? Пора мне, чадо мое, пора! Я благополучнее теперь, благодарю Бога, что он сподобил меня приобщиться святых тайн, и видеть вас перед кончиною… Ах! как я ждал вас!» Юрий тихо пожал руку Шемяке и опять повторил: «А Василия-то все еще нет!»
– Он придет, родитель; но ты еще будешь жив и здрав для нашего счастия, для счастия всех…
«Поздно – пощупай ноги мои… они уже не принадлежат мне… Ах! Василья нет!» – он тяжело вздохнул.
– Неужели за ним не посылали? – спросил тихо Шемяка у Красного.
«Его нигде не нашли в Москве. Я послал на Ходынку[137]137
Ходынка (Ходынский луг, Ходынское прле) – историческое место в Москве, находилось в районе нынешнего городского аэровокзала.
[Закрыть]. Не там ли он, не осматривает ли дружин? – отвечал горестно Красный. – Кто думал, что так близок час кончины его!..»
– Дети мои, милые дети мои! – сказал Юрий после забывчивости, продолжавшейся с минуту, – дайте мне руки ваши! – Шемяка и Красный подали ему руки; Юрий сложил их вместе и сжимал хладеющею десницею. – Вотще, – продолжал он, – вотще глаголет Писание быть на всяк час готовым и исполнять то немедля, что лежит на душе и совести… Бедные! Мы не знаем, мы не думаем, что смерть всегда за плечами… Но, прочь земное – Господня земля и исполнение ее… Василья нет! Ужели умру не благословив его, не давши ему моего последнего завета! – Он опять остановился. Дети не смели прерывать молчания. Снова Юрий начал говорить: «Мир и согласие завещаю вам, дети мои. Здесь, под изголовьем моим, велел я поставить скрынку, где найдете вы мою последнюю волю – мою духовную грамоту – она да будет для вас неизменна! Прощаю вас, если вы погрешили предо мною – благословляю вас – О Господи! даруй им житие мирное, даруй им благословение твое! Не огорчись ты, Дмитрий, если я скажу твоему брату, что он был мой ангел-утешитель… Да, Митюша! ты никогда не досадил мне даже словом… Но Божие и мое на обоих вас равное благословение… Если Василья не увижу я, скажите ему, что и его благословил я – но, да исполнит он последнюю мою волю… Тяжек нрав его, буен дух его, а сердце его благо и ум его светел. О! горек, как море-окиян, будет поток жизни его! Сохрани его, ты, Бог милосердый! Смиряйте, увещевайте его, и – паче всего, повторяю вам – любите друг друга… Не плачьте, дети мои! Я умираю спокойно – вы на возрасте; дела Бог устроит; довольно пожил я на белом свете… может быть, без меня и лучше будет… Много было на мне грехов, но – ты милосерд, творец! Блюдитесь честолюбия, бегите гордости: она погубила праотца Адама, она губила и меня – ох!.. губила! Теперь, готовясь предстать неумытному судии[138]138
…предстать неумытному судии – т. е. Богу.
[Закрыть], чувствую, что не так бы должно мне поступать… Чтите чин духовный, молитесь за себя, за душу мою, молитесь, да не внидите в напасть – блюдите милую обитель мою – по душе моей дайте милостыню… А брат Константин? Где же он? Нас только двое братьев и осталось… Зачем он не пришел…»
«Он принял в сей день иноческий сан, родитель, – сказал тихо Шемяка. – Он прислал тебе благословение…»
– Ах! я начинаю уж забывать… Дивное дело смерть человека, дети мои! Чувствую, но не понимаю, не знаю, что со мною делается!.. – Он замолчал, собрался снова с силами и говорил, но гораздо тише и медленнее: «Один – умирает, другой – инок… И так нет уже сынов Димитрия Донского – прешли, как тень… Сорок лет тому, когда мы стояли у одра отцовского – помню – да… Пятеро было нас, и едва старший из нас вступал в лета юношеские – Василию было семнадцать лет, а Константин только что родился, и – се! последние двое преходят… О, дети, дети! Мир вам, мир – да удалит от вас Бог свары и гордость – гордость, паче всего… Батюшка! – сказал он обращая взоры на священника, – вели растворить двери и позвать всех – хочу видеть всех, проститься со всеми… Помоги мне, Господи!..»
Шемяка хотел было идти.
– Нет, нет! Не уходи, сын мой, чадо мое! Дай мне на вас наглядеться… Ах! Василий!..
Священник думал исполнить приказ Юрия, но остановился, ибо Юрий, голосом более и более угасавшим, лепетал уже невнятные слова. Язык его коснел; глаза закатывались. От сделанного им усилия говорить с детьми он ослабел совершенно, голова его поникла, глаза помутились, колоколец поднялся выше. Он шевелил еще губами. В горести упали подле него на колени сыновья его и рыдали. Юрий двигал правую руку, силясь, по-видимому, сделать крестное знамение. Священник поднял руку его, положил на грудь, вложил в руку крест и стал кадить ладаном в маленькой серебряной кадильнице. Быстро поднялся тогда Шемяка и смотрел на отца без слез и рыданий. Он приложил руку свою к его груди, пощупал его руки, лоб – все было холодно, и через минуту только короткое дыхание порывисто вылетало из уст Юрия. Священник читал отходную молитву – еще пролетела минута… дыхание Юрия прекратилось…
Тогда и Димитрий Красный перестал рыдать и плакать. Несколько мгновений смотрел он на хладный труп отца, потом стал на колени, обратился к образу и тихо молился. Поднявшись, закрыл он лицо родителя своего святым покровом. Тут взоры его встретились со взорами Шемяки, и братья бросились в объятия друг друга, крепко сжали один другого, слезы их полились снова и смешались. «Ты бледен и едва держишься на ногах, любезный брат!» – сказал Шемяка, чувствуя, что Димитрий Красный шатается.
– Если бы я и совершенно здоров был и тогда только вера помогла бы мне перенести тяжкую нашу потерю. А теперь, когда только забвение самого себя дозволяло мне быть при смертном одре родителя и я едва могу двигаться от слабости… о брат!.. ты оплачешь вскоре и мою кончину!
«Друг и брат! Что говоришь ты? – воскликнул Шемяка. – Нет! Бог милосерд…» Красный лишился чувств и повергся в его объятия. Шемяка осторожно положил его на постель великокняжескую. Тяжело дышал Красный.
Шемяка не слыхал, как настежь растворились двери и раздались стоны и рыдания. Весть о кончине Юрия уже разнеслась по дворцу, и все, собранные во дворце бояре и сановники, вошли в комнату, где лежало тело его, и в другую, перед нею находившеюся. Шемяка опомнился, когда несколько стариков, бояр звенигородских, товарищей юности Юрия, стали на колени подле его тела, заливались слезами и причитали: «Князь добрый! На кого покинул ты нас! Высокий умом, смиренный смыслом, лепый взором, чистый душою, мало глаголавший, много разумевший! Не узрим уже мы тебя! День скорби, день тьмы и мрака! Горе нам, братия! Уснул князь князей! Звезда сияющая склонилась к западу! Господин великий! где честь твоя и слава? Властитель земли Русской! мертв лежишь ты и ничем не владеешь! За багряницу саван, за красные чертоги гроб выменял!..» Так вопили и причитали верные слуги, среди плача и рыдания. Плакали все – друзья и враги, подвластные и непокорные. Кроме умилительного зрелища кончины старшего из князей русских, многие с ужасом в те же время думали о судьбе Руси, об участи Москвы, о том, что теперь будет, когда не стало Юрия, и сыновья его повелевали силами Москвы, враждуя против Василия.
Когда Димитрий Красный пришел в чувства, его взяли под руки и увели в его комнаты. Бояре и все сановники вышли в Большую палату.
Еще раз преклонился перед телом отца своего Шемяка, еще раз поднял он покров с лица Юрия, вглядываясь в доброе, благородное его выражение. Юрий казался спящим; улыбка застыла на устах его, и ни одна примета скорби не мрачила его чела.
В эти минуты ни печаль, ни мир, и ничто не волновало души Шемяки. Но – суета мира уже звала его так, как земля звала тело его отца. С одной стороны явились люди, назначенные опрятать покойника; с другой пришли бояре отца его и сказали, что Шемяка должен немедленно явиться в собрание бояр, где начинаются уже толки и споры, и что Кремль наполнился волнующимся народом. «Не прикажешь ли принять меры предосторожности?» – спрашивали бояре.
– Ничего не прикажу, – отвечал Шемяке,
«Не позволишь ли нам посоветовать с тобою, князь Димитрий Юрьевич?»
– Не нужно, – отвечал он.
Бояре безмолвно отступили.
– Возвратился ли брат Василий?
«Нет еще».
– Итак, да совершится все без него, – отвечал Шемяка. Он взял из-под изголовья отцовского небольшой ящичек, запечатанный великокняжескою печатью, дал знак идти за собою боярам, пришедшим к нему, и пошел в собрание.
Оно было уже умножено вновь пришедшими, ибо весть о кончине Юрия быстро пролетела уже по Москве. Подходя к дверям Большой палаты, Шемяка услышал шум и спор. Он остановился. Следовавшие за ним думали, что он тревожится страхом и опасением, и осмелились снова предложить ему о предосторожностях.
– Умолкните, бессмысленные, не понимающие величия кончины старца и Великого князя вашего! – воскликнул Шемяка и сильно расхлопнул дверь в Большую палату.
С негодованием увидел он, что не скорбь, не уныние, но беспокойство и шумное волнение царствовали в собрании; голоса возвышались; крамола действовала.
Вход Шемяки заставил всех умолкнуть. Мужественно стал он посреди собрания и быстро окинул взором всех присутствовавших. «Кто смеет здесь буйствовать? – сказал Шемяка. – Люди, недостойные своих званий и санов! Еще труп владыки вашего не остыл, и вы, в доме его, дерзаете уже помышлять о чем-либо другом, кроме благоговения в великий час его кончины!»
– Князь Димитрий Юрьевич, – сказал ему один старик боярин. – Мы не буйствуем; но в лице родителя твоего скончался не просто старец, но Великий князь Московский. С ним соединена была судьба русской земли. Народ, дружина, все мы ждем теперь решения сей судьбы. Скажи нам: кто теперь Великий князь?
Смятенный говор прожужжал в собрании. Шемяка снова обвел всех присутствовавших взором. «Не дерзайте решать судьбы Великого княжества! – сказал он. – Здесь видите вы решение оной, изреченное родителем моим; здесь сокрыто последнее его слово!» Он поднял и показал всем ящичек, держа его левою рукою. Взоры всех обратились на таинственный ящичек сей. «Но прежде, нежели мы что-либо узнаем, клянитесь мне все, – сказал Шемяка, – что все вы свято исполните волю отца моего. Я обещал ему повиноваться, и передает ли он Великое княжение брату моему, или отдает его последнему рабу – я, первый, клянусь ему повиноваться и положить живот мой во исполнение последней воли его!» – Он поднял правую руку и воскликнул громко: «Клянусь Богом всесильным, карающим клятвопреступника!»
– Клянемся! – воскликнуло несколько голосов, и несколько рук поднялось по слову Шемяки; большее число безмолвствовало; некоторые дерзнули что-то бормотать.
Грозно оглянулся кругом Шемяка. «Кто смеет противиться? – сказал он, видя, что приверженцы Василия явно хотят восстать против него. – Или снова браням и усобице хотите вы предать Великое княжение? – продолжал Шемяка. – Князь Василий Ярославич, князь Юрий Патрикеевич, вы все, которых призвал сюда отец мой, пленники его, преданные воле его судьбами Бога победодавца! Вы смеете сопротивляться голосу, который из гроба повелевает вами? Смеете ослушаться его, имевшего власть над животом и смертью вашею?»
Грозен был Шемяка в сии минуты и величествен был вид его. Но еще колебалось и волновалось собрание. «Подожди, князь Димитрий Юрьевич, старшего брата, который заступил теперь тебе место отца твоего», – заговорили некоторые. «Князь! Мы не смеем нарушить завета отцов, когда Господь послал по душу твоего родителя», – сказали другие. Шемяка вдруг удержал гнев свой поставил ящичек на стол и тихо, став снова среди собрания, начал говорить:
«Я был бы самый презренный из человеков, если бы осмелился притворствовать в сии горестные мгновения. Знайте же, что мне вовсе не известно, кому передал Великое княжение отец мой. Если он отдает его брату Василию – я буду первый слуга его; если же он отдает его и племяннику Василию… я первый обнажу меч на врагов его! По завету отцов, Великое княжение принадлежало отцу моему и ничто в течение девяти лет не могло нарушить его прав – он скончался Великим князем. Если бы я руководствовался корыстным побуждением, я стал бы теперь за своего брата, но вы видите мои поступки! Воля властителя, старца, первого в роде Мономаховом, когда он предузнавал уже кончину свою, так превышает нашу волю, как небо землю! И какое вы имеете право, вы, рабы его и послушники! решать то, что выше вас? Клянитесь повиноваться его воле, и я мгновенно сорву печать с его завещания!»
– Мы все клянемся! – единодушно воскликнуло собрание, увлеченное каким-то вдохновением, внушенным речью и голосом Шемяки. Шемяка схватил ящичек и сорвал с него печать. «Говори из-за гроба, родитель мой!» – сказал Шемяка и развернул грамоту духовную. Она вся была написана рукою самого Юрия. Шемяка показал ее собранию, поцеловал ее, перекрестился, и все перекрестились. Судьба народов Руси, судьба грядущих царственных поколений решались в сие мгновение. Воцарилось молчание, столь глубокое, что никто не смел даже дохнуть, и Шемяка начал читать:
«Во имя Отца и Сына и Святого духа. Се аз, грешный и худой раб Божий, Юрий Димитриевич, пишу грамоту душевную в своем смысле[139]139
…в своем смысле – т. е. в полном разуме.
[Закрыть]; даю ряд детям своим, Василью, Дмитрию и Дмитрию меньшому, приказываю[140]140
Приказываю – отдаю.
[Закрыть] им вотчину свою в Москве, жербий, чем благословил меня отец мой, князь Великий Дмитрий Иванович, в городе и станах, в пошлинах городских и в тамге, в восмичьем и численных людях, и в мытах, трем сыновьям своим натрое…»
Изумление изобразилось на всех лицах. «Праведник, праведник!» – пролетел шепот в собрании. Шемяка дал знак молчать и твердым голосом продолжал чтение: «А се даю сыну Василью из своего удела Звенигород с водостьми, и с тамгою, и с мыты, и с борти, и с селы, и со всеми пошлинами, и с волостями…» Следовало исчисление волостей. Шемяке отдавал отец Рузу, Красному Вышгород, повелевал им разделить между собою Дмитров, Вятку и Галич, определял выход в ордынскую дань[141]141
…определяя выход, в ордынскую дань – т. е. указывая характер и размер дани.
[Закрыть]; отдавал Василию икону Смоленской Богоматери, Шемяке икону Спаса Нерукотворного, Красному икону Богородицы Казанской, распределял пояса, золото, жемчуг и благословлял детей исполнить заветы, или страшиться суда Божьего за нарушение отцовского решения.
Чтение кончилось. Но о Великом княжестве ничего не было упомянуто решительно, как будто Юрий не имел никакого права располагать им. Сомнение, недоверчивость видны были во всех взорах, но никто не смел возвысить голоса.
«Итак, – сказал Шемяка, – да исполнится завет отца. Он ничего не говорит о Великом княжении, но он и не отдает его никому! Если он не смел решить судьбы сего великого дела народного, да будет по судьбам Бога. Право меча уступит праву мира; молчание отца подтверждает завет отцов». После минутного безмолвия: «Да здравствует Василий Васильевич, Великий князь Московский!» – громко воскликнул Шемяка.
Казалось, что этого только ждали.
И все собрание загремело: «Да здравствует Василий Васильевич, Великий князь Московский!» Общая радость заблистала во взорах всех присутствовавших. Великодушие Шемяки представило его каждому чем-то великим. Первым бросился к нему князь Василий Ярославич, поцеловал его руку и сказал: «Ты выше, ты больше: ты великодушный враг, ты ангел, а не человек!» Другие следовали примеру сего князя, целовали руки Шемяки, падали к ногам его… Святые минуты, редкие мгновения торжества добродетели!









































