Текст книги "Клятва при гробе Господнем"
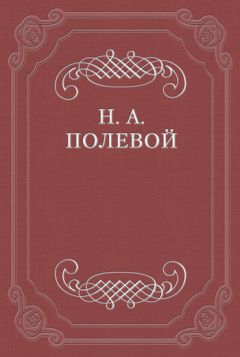
Автор книги: Николай Полевой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
«Не гибель Новгорода, а падение гордыни московской предвещает церковь Божия: нам грозили именем Иоанна, и вот Иоанн сокрушился! Смотрите, люди новгородские: мы все целы, а церковь упала сама на себя!» – Так раздавался громкий голос – это был голос Гудочника.
– Владыко согрешил, что давал немецкому мастеру строить храм Божий! – Казнить бы его теперь, так на его голову и упала бы церковь Божия! – кричали другие.
– Пойдем во храм Святой Софии, – провозгласил архиепископ, скрывая свое смущение, – пойдем молить заступницу, да обратит знамение на добро! Благовестите в большой колокол. Новгород не гордыни ищет, но мира, и Господь благословит его!
Безмолвствовал народ. Вечевой колокол звонил в знак согласия, и никто не препятствовал звукам его сливаться с звуками большого соборного колокола. Шемяка и князь Василий Георгиевич сопровождали архиепископа в храм соборный.
Там, с коленопреклонением, отслужен был молебен; освятили воду и с пением: «Все упование мое на тя возлагаю, Мати Божия!» – совершили ход кругом кремля, окропляя святою водою стены и стогны града. Сердца отдохнули[171]171
…сердца отдохнули… – т. е. отошли, успокоились.
[Закрыть]. Толпы осматривали развалины упадшей церкви и находили причину разрушения в неискусстве мастера.
Знать новгородская угощена была потом у посадника Якова Кирилловича; житые и торговые люди опять пировали у купеческого старосты Памфильева. На место, где собиралось вече Гончарского Конца, выкатили несколько бочек с пивом и медом и сказали, что князь Димитрий Юрьевич угощает новгородскую вольную дружину. В тот же день бедным раздали множество хлеба из посадничьих и владычних житниц.
Весел и радостен возвратился Шемяка в жилище свое, находившееся в доме суздальского купца, друга Гудочникова, издавна поселившегося в Новгороде и разбогатевшего от торгов с Ганзою. Получены были добрые вести из Москвы: новгородцы, возвратившиеся оттуда в сей день, привезли известие, что Великий князь изъявил большую робость, услышав о побеге Шемяки в Новгород; что он повелел очистить Углич и Галич; что по три дня собирались у него на совет бояре и князья, и что князь Заозерский объявлен был не пленником, но другом, и заседал в советах Василия наряду с другими князьями.
Все это ободрило, возгордило Шемяку и новгородцев. Оставшись наедине с Гудочником, он предался мечтаниям будущих надежд, сообщая ему известие об единодушном решении новгородских сановников на пиру у посадника. Гудочник, с своей стороны, рассказал, какие меры приняты были им, его друзьями и сообщниками для склонения простых людей. «В поход, поход!» – был клик даже и Гончарского Конца, когда на тамошнем вече сбивали обручи и ломали доски осушенных бочек пива и меда.
Глава VIII и последняя
…Бешеный страстей язык
Умолк пред истиной святою…
* * *
– В поход, в поход, старик, и досмотрим: такой ли ты удалец на булате, как на речах! – сказал Шемяка, крепко пожав руку Гудочнику.
«Дай Господь, чтобы молодые так же от тебя не отстали, как не отстану я».
– Но ведь у меня привычка: идти всегда впереди других – смотри, не думай тогда о жизни и не оглядывайся назад, чтобы не наткнуться на московские копья!
«У меня такое поверье, князь, что если судьба не наметила на кончике копья чьей-либо смерти, так это копье пролетит мимо, а если наметила, то и в обозе от него не отсидишься – все-таки оно найдет тебя!»
Еще разговаривали несколько времени Шемяка и Гудочник. Положено было, немедленно по собрании дружин новгородских и псковских, быстрым походом занять Торжок, идти к Ростову и не останавливаясь двигаться на Москву; легкому отряду, долженствовавшему предварительно составиться из новгородской вольницы, надобно было поспешить с Чарторийским в Галич и Углич, защитить сии области от впадения москвичей и собрать там вспомогательные дружины. Особый отряд под начальством Василия Георгиевича Суздальского, которому Шемяка дал крепкое слово восстановить его наследственный удел, положили послать в Суздаль и Нижний Новгород. Можно было думать, что, услышав о столь смелом нападении, ни Рязань, ни Тверь не вступятся за Москву; что Суздаль, Дмитров, Звенигород, князья Можайский и Верейский пристанут к Шемяке; можно было надеяться еще и на Махмета, мирно остававшегося в Белеве, но отвлекавшего часть дружин Василия для стражи со стороны Тулы. Предприятие, конечно, было смелое; но кому нечего терять, тот все считает за выигрыш, даже и бесполезное покушение возвратить потерянное.
Уже Гудочник хотел распроститься с Шемякою, когда хозяин дома появился в дверях.
– Прости мне, князь Димитрий Юрьевич, – сказал он, – если я тебя обеспокою.
«Душевно рад всегда видеть тебя, гостеприимный хозяин мой; только дивлюсь твоему неожиданному посещению. Что случилось?»
– Приехал к тебе какой-то почтенный гость из Москвы и просит немедленно быть допущенным.
«Гость из Москвы?» – Шемяка взглянул на Гудочника.
– Не ведаю, – отвечал Гудочник, в недоумении. – Может быть, Василий прислал к тебе посла.
«Нет! это какая-то престарелая духовная особа. И он говорит, что был другом отца твоего, князя Юрия, и к тебе пришел ради твоего блага. Он следует за мною и отстал потому, что медленно идет по лестницам и отдыхает».
Хозяин отступил в сторону. Дряхлый старец тихо вступил в комнату. Он одет был в монашескую рясу; длинная, седая борода волнами падала на грудь его, и седые волосы, выпадая из-под его клобука, лежали по плечами. Это был Зиновий, архимандрит Троицкий, духовник и друг Юрия, много лет находившийся настоятелем в Саввинской Сторожевской обители и, как мы выше видели, переведенный Юрием в обитель Святого Сергия, при первом занятии Москвы. Привыкнув уважать Зиновия, как отца, Шемяка с радостным благоговением подошел к нему под благословение.
– Отец мой! – сказал он, – тебя ли вижу? Что привело тебя в Новгород? Что заставило предпринять путь столь далекий, оставить свои благочестивые подвиги и святую твою обитель?
«Дозволь мне прежде сесть, князь Димитрий: я устал, непривычный к трудам странствования, и не успел отдохнуть, ибо прямо с моею повозкою подъехал сюда».
– Если осчастливишь дом мой пребыванием своим, – сказал хозяин, почтительно подступив к Зиновию, – я почту прибытие твое Божиим благословением на дом мой.
«Благодарю, чадо; но иноку не стать располагаться в доме столь великолепном; сыщу какую-нибудь обитель, где дадут мне уголок. Я осчастливлю дом твой гораздо более, если совершу в нем благое дело, за которым притек на берега Волхова. – Князь Димитрий! к тебе приехал я, для тебя совершил я далекий путь из Москвы!»
– Отец мой!
«Да, если родитель твой называл меня сим именем, я могу назваться отцом твоим. И душою, и сердцем хочу я вновь привести тебя к благодати так, как привел я тебя, младенца сущего, к святой вере Христовой от купели крещения».
– Отец мой! что значат слова твои?
«Веришь ли, что я тебе добра желаю; веришь ли, чадо мое, что твое временное и вечное счастие и спасение дороги мне, паче жизни моей? Дорога ли тебе память твоего родителя? Хочешь ли ты, чтобы прах его не содрогался в гробе и душа радовалась на небесах?»
Шемяка повергся на колена перед Зиновием и со слезами на глазах воскликнул: «Можешь ли сомневаться…»
Зиновий обнял Шемяку, облобызал его голову и сказал дрожащим голосом: «Благо тебе!» – Хозяин, свидетель всего происходящего, умилился до слез и поспешно удалился. Гудочник казался смущенным; он побледнел, задрожал, как в лихорадке, безмолвно оперся о печку и склонил голову на грудь.
– Князь Димитрий! внимай, что притек я сказать тебе: помирись с Василием Васильевичем! – Твердым голосом, внимательно смотря на Шемяку, произнес Зиновий слова сии.
Шемяка вскочил поспешно, как будто испуганный чем-нибудь. «Отец мой! что ты произнес!» – воскликнул он.
– Говорю: помирись с Василием Васильевичем.
«С ним помириться? С моим злодеем, убийцею братьев моих, хищником моего княжества».
– Да, с ним!
«Вероломным, клятвопреступником, которому все отдал, все уступил я, и который заплатил мне бедами и горестями, хотел посягнуть даже на мою жизнь».
– Да, с ним, с ним, и – горе тебе, если ты отвергаешь совет благий!
«Вижу коварство и трусость его, вижу хитрые его умыслы: тебя, святого, мудрого старца, уговорил он, осётил речами, и твоею хочет воспользоваться властию над душою моею, хочет снова уловить меня в сети! – Шемяка засмеялся судорожным смехом. – Не успел ли он оправдаться перед тобою? Не успел ли уверить, что мы все виноваты перед ним, почему не протягиваем шеи под его топор?»
– Да, он оправдался передо мною во всем.
«Как? Не сказал ли он, что очи брату моему вырезали без воли его?»
– Нет! Он говорил мне, что это сделано было с его воли.
«Братоубийца! Не уверил ли он, что без его воли я брошен был в тюрьму и едва не лишен жизни, когда ехал к нему для мира и согласия?»
– Нет! Он признался, что только боязнь раздражить князей безмерною свирепостью поступка, удержала его от тайного умерщвления тебя в темнице.
«И на злодейство-то даже не достало у него сил души! А то, что он захватил мою невесту и моего второго отца, что он разорил мои волости, что он… Ну! и в этом во всем сознался он?»
– Да, и в этом. И в том еще, что платил тебе за добро злом, за мир враждою, за покорность изменою.
«И после всего этого он оправдался! Ты заставляешь меня сомневаться, святой отец! тебя ли я вижу, мудрого ли Зиновия слышу я!»
– Меня, старца Зиновия, перед которым оправдался Василий – прибегнув ко мне не оправдываться, не как Великий князь, но каяться, плакать о грехах своих, яко грешник, удрученный тяжестью греха, трепещущий и почти отчаянный в своем спасении! Примирив его с Богом, я смело пошел примирить его с тобою. Ты ли хочешь быть более Господа? Ты ли в гордости сердца не простишь его, не протянешь к нему длани примирения, если Господь разрешил и простил его моими устами? Ты ли осмелишься возносить суд человеческий над совестью ближнего?
«Я возношусь? Я горжусь? Отец мой!»
– Или хочешь ты, в злобе сердца, взять на себя исполнение судеб превечных, и мстишь врагу, не внемля слов Спасителя, повелевающего миловать и смиряться пред обидящими?
«Смиряться! Пред Василием? Никогда!»
– А! я проник теперь душу твою: твое мщение, твой гнев прикрывают только личиною истинную вину злобы и вражды – твое ненасытное честолюбие! Ты забыл обет отцов, забыл завет родителя, забыл то, с чем мог предстать бесстрашно перед престол Божий – прежнее смирение свое и правоту после кончины родителя; забыл ты и гнев Божий на властолюбивого своего брата – вижу: ты алчешь престола великокняжеского…
«Твои слова оскорбляют меня, святой отец!»
– Не думал ли ты, что я пришел к тебе послом хитрым и стану уговаривать тебя, вместо провозглашения тебе улики и суда Господня? или что я устрашусь гордыни твоей, или чьей-либо? Нет! я, инок забытый миром и забывший мир – не стану улещать тебя, как улещают великих мира; не стану говорить тебе об условиях Василия и выгодах, какие он тебе обещает! О! для этого он мог послать не меня, но какого-нибудь лукавого царедворца, выставить дружины, послать крамольников, какие окружают тебя и его, воевать, хитрить с тобою! Я – видевший перед собою отца твоего в слезах покаяния, видевший и Василия, пришедшего ко мне во вретище раскаяния – я пришел не с тем и не для того!..
«Отец мой! если бы ты видел душу мою… Чем может Василий заплатить мне? Чем выкуплю я перед людьми честь свою, если уступлю ему!»
– Какую честь? Тщетное мирское суесловие, переговоры людей, грех слова и дела, ничтожество почестей тленных? Не думаешь ли ты, что я стану расспрашивать тебя: чего ты желаешь, или скажу, что дает тебе Василий? Не ведаю ни того, ни другого, и ведать не хочу: я принес к тебе покаяние грешника; от тебя требую смирения, мира и прощения; хочу тебя и Василия удержать на краю бездны греха…
«Итак, ты сознаешь, что право хочу я враждовать с Василием?»
– Никогда вражда не бывает правою: она богомерзка, и есть внушение диявола! Да, мирски ты был прав доселе; но семя греха зреет в похвале мира.
«Зачем же приписал ты мне гордыню и кичение? Зачем требуешь ты от человека – паче человеческого?»
– Рассмотри сам здраво душу свою и увидишь, что гордость, кичение и вражда скрываются в ней под видом праведного мщения. Паче человека не требую от тебя. Когда и всякому простому смерду Господь велит до тех пор не приносить молитвы и не возлагать дара на алтарь, пока он, шед, не смирится с братом своим, если вспомнит, что на кого-либо враждует, то князю ли, поставленному выше других, не паче того бдеть над собою и не превышать простых человеков высотою добродетели, исполнением заповедей Божьих, кротостию и миролюбием? Чем же отличатся от простого человека люди, поставленные править его судьбою? Вспомни то страшное слово, что за грехи князя народ наказуется, а за добродетели его много добра Господь посылает народу. Не за добродетель ли Иезекии простил Господь и спас Израиля? Помни же, властитель других, что преступлением своим ты губишь не одну свою душу, но тысячи других! Если за одного праведного спасен был град – за князя праведного спасутся тысячи стран!
«Отец мой! нам ли, грешным людям, вещаешь ты о высших судьбах Божиих, о добродетели недосягаемой! Где ныне святые мужи, и могу ли быть непричастен смятению мира, если мятусь среди волнений людских! Живущий в мире творит мирское…»
– Итак: пороками других оправдываешь ты свои пороки? Не хочешь быть добродетельным потому, что другие злы? Хорошо – чего ты медлишь? Иди же, иди, умножь еще более беззакония, удесятери их, погуби себя, погуби, отврати от себя смердящими злодействами лицо Божие… Прощай! Я надеялся найти в тебе прежнее сердце, прежнюю душу, прежнего Димитрия. Вижу – тяжко ошибся я: порок заразил уже твое сердце! Отрясаю прах с ног моих, и отныне не дерзай называть меня отцом – я не знаю тебя более…
«Остановись, остановись, отец мой! я человек – суди, но будь милосерд, как милосерд Бог!»
– Смеешь ли воззвать к Богу, если я, человек грешный, осуждаю тебя? Сердце твое есть гроб повапленный – ты обманул надежды старости моей…
«Я право иду[172]172
Я право иду… – т. е. правильно.
[Закрыть], право хочу требовать…»
– Право? Чего же ты требуешь? Хочешь обладать Великим княжеством?
Шемяка безмолвствовал смущенный.
«Видишь ли, – сказал Зиновий, – что ты не дерзаешь сознаться самому себе в тайне своего помысла? Здесь таится источник зла – в честолюбии твоем!»
– Нет! – воскликнул Шемяка, – нет! я не хочу престола великокняжеского!
«Но если ты лишишь его Василия, кому же, если не тебе, престол сей! Неужели ты доселе не помыслил о том? Если же не хочешь Великокняжества, что отвращает тебя от мира! Не хочешь ли ты, как жадный волк, упиться кровью своего родного, мстя ему за свое оскорбление, и тогда только примириться? Но не сам ли трепещешь и ужасаешься деяний Василия? И – сам же хочешь последовать ему! Ты недоумеваешь, безмолвствуешь! Говори: видишь ли, что ты не хотел, или страшился низойти во глубину тайных помыслов своих? Димитрий! я говорил с тобою, как служитель Бога – буду говорить мирски. Не скажу, что я сомневаюсь в твоей храбрости – знаю, что вы, гордые и великие мира сего, оскорбляетесь таким сомнением; не хочу сомневаться и в победе – ты победишь, уничижишь Василия, предпишешь ему мир и закон; гордясь и тщеславясь великодушием, пощадишь жизнь его и тем станешь выше его, хотя и будешь только удельным князем. Но, как достигнешь, ты сего! Уничижаясь перед крамолою, бунтуя князей и мятежных новогородцев, опустошая области, избивая народ, возвышая до неба вопль и стенания жен и детей! Приобретешь ли более крепости, посрамив, уничижив Василия? Прочнее ли будешь на уделе своем? Не посеешь ли тем семян тысячи новых крамол? Видя удачу, кто не последует твоему примеру? Тогда тебе должно будет, или сражаться за Москву с другими, или передать ее на расхищение другим. Что ты сделаешь тогда? Выбор тяжек: то и другое – источник бедствий! Братьев твоих постиг уже суд Божий: один с отцами нашими и, верь, не завидует уже миру; другого утешит ли слава и почесть, лишенного очей, и что ему, если держа за власы положишь ты перед ним даже главу врага его! Судьба всей Руси зависит от тебя и Василия. Он унижен уже перед тобою своими грехами; он унижен и тем, что просит тебя дать мир земле его и спасение душе его. Тяжка участь брата твоего, но судьба Василия тяжелее. Дай ему очистить себя пред Богом раскаянием, а судьбу брата отнеси суду Божию, и поверь, что твое великодушие горше отзовется на душе Василия, нежели самое страшное мщение. Тогда он закалит душу мыслью, что довольно наказан, если ты мстишь ему; теперь – слезами горькими омочит он грех свой, видя твою превысшую доброту… Сего ли недовольно, сын мой? Смотри же: я падаю за Василия к ногам твоим – я плачу за него и за Москву…»
Зиновий повергся со слезами на землю.
– Отец мой! что ты делаешь!
«Не встану, и вопию тебе – не погуби души своей; дай мне спасти ее, дай умирить землю Русскую…»
Страшное волнение изображалось на лице Шемяки. Он обращался к Зиновию, к Гудочнику – Зиновий стоял на коленях, преклоня чело к земле; Гудочник безмолвствовал, закрыв лицо руками.
– Могу ли еще упорствовать! – воскликнул Шемяка. – Чувствую, что настоящий подвиг мой труднее победы, и мир, князья, люди не оценят его, не встретят меня победителем, укорят, может быть, малодушием, робостью… Заветы отца, речи добродетельного брата, витающего ныне среди ангелов Божиих – помню вас… Приосените меня благословением вашим, отец, брат! Дайте мне силу, крепость души… – Шемяка бросился на скамью, колебался еще с минуту и – отворотясь от Зиновия, промолвил с трепетом: «Прощаю московского князя – Бог ему судья!» – Тяжелый стон исторгся из груди Шемяки после сих слов.
Зиновий поднялся с радостным лицом. «И мир Москве, мир с Василием! Докончи подвиг свой, князь Димитрий, дополни словами: мир Василию!»
– Тяжки слова сии, отец мой! избавь меня, избавь – прощаю, не мщу – только!
«Но любить враги своя, не прощать только, велел Спаситель, молившийся за убийц своих на кресте. И ничем другим не отличится христианин от язычника, только любовию ко врагу. Что тебе за подвиг – говорит Спаситель, если ты любишь любящего тебя, если добро творишь ближнему твоему? Не тако ли творят и язычники? Люби враги твоя, добро твори ненавидящему тебя, молись за вводящего тебя в напасть и искушение. Кто сей любви не имать в сердце своем, если бы и половину тела своего сжег за добро и благо, несть достоин Его!»
– Нет, отец мой! выше сил моих такой подвиг: прощаю, не мщу; но не могу протянуть руки моей и вложить ее в руку Василия, обрызганную кровию моего брата! Не могу и не хочу даже видеть его – Бог с ним!
«Прощаю скорби твоей, буду молить Бога, да окончит Своею Святою волею то, что успел совершить я, грешный, благодатию Божиею. И о сем уже не вмещает сердце мое радости. Возрадуйся, прах Юрия в могиле, ликуй душа его на небесах! Сын твой достоин тебя, старец, друг мой, ты, приходивший ко мне со слезами и трепетавший, что не успеешь изгладить следы честолюбия, омрачавшего душу твою на земле, трепетавший, что над могилою твоей прольются реки крови в усобице, и вопли гибели и смерти обременят память твою проклятием! – Сын мой, князь Димитрий! я говорил с тобою, как служитель Бога, как судия твоей совести – теперь дай мне обнять тебя, как другу, благословить тебя, как отцу! Я не хотел обольщать тебя благими мира; не хотел обольщать наградами и обетами мирского счастия; надеялся крепко на тебя, как на сына, как на христианина – благо тебе, благословен ты, обрадовавший меня старца на пороге гроба!»
И со слезами обнял благочестивый старец Шемяку и долго слезы его капали на голову Шемяки, склоненную к груди его. Исторгшись из объятий князя, старец поднял очи к святым образам, тихо молился и вышел из горницы.
Погруженный в думу, Шемяка не заметил, как скрылся Зиновий, и, забыв самого себя, сказал вполголоса, как будто был один и рассуждал с самим собою: «Тяжкий подвиг! И легче бы смерть в битве, нежели мир с ним! Если же это добродетель – зачем же не веселит она души моей и почему совершение доброго дела не радует меня, ужасает, заставляет трепетать, а не является мне радостным и веселым? Мир со злодеем, дружба с братоубийцею, тишина – с мечами в руках, с опасением на страже… Это ли мир и счастие!»
Две свечи, стоявшие на столе, нагорели и тускло светили; мрак облегал стены обширной комнаты. Движение кого-то бывшего в комнате и стоявшего у печки, безмолвно и неподвижно, обратило внимание Шемяки, это был Гудочник. Шемяка совсем забыл об нем, увлеченный жаром разговора с Зиновием.
– Да, – сказал тогда Гудочник, не двигаясь со своего места, – да, ты право рассуждаешь, князь Димитрий Юрьевич. Мир с Василием есть только начало новой вражды, и грядущее время не должно веселить тебя. Ты можешь забыться; но кто нейдет до конца, кто в брани оставляет слово на мир и в мире слово на брань, тот не сотворит себе ни мира доброго, ни брани славной.
«Иван Феофилович! осудишь ли меня? Назовешь ли изменником против данного тебе слова? Мог ли я против востоять? Робость ли заставляет меня бросить меч? Мелкая ли корысть увлекает меня, когда я не знаю даже и условий мира?»
– Нет! я тебя не обвиняю, князь Димитрий Юрьевич; слышал я все, и на твоем месте сам сделал бы то же, что ты; не уступил бы тебе в чистоте души и добродетели! Нет! так видно угодно Богу, и суетно человек хочет переменить судьбы непреложные, по коим движет перст Его царствами и народами! Горе тому, кто обрек себя на сопротивление судьбам Его – горе и гибель, и не будет благословения на делах и начинаниях его! Что сделает мирская сила и человеческая мудрость? Кто мог за два часа предвидеть, чем кончится то, к чему казалось вели события нескольких лет, труды тяжкие, пренебрежение страха, смерти! Но, суди же, Господи, и рассуди прю мою: виновен ли я? не всем ли жертвовал я? щадил ли себя? Несть Твоего благословения, и – что может человек? Едва тысячью трудов и замыслов касался я вожделенной цели – страсти ожесточают сердца; один гибнет, другой умирает, третий увлекается нежданным смирением! Снова труды и замыслы. Кажется: нет уже препятствий, разрушена вся возможность мира – спасаю человека из-под мечей, веду его, даю ему средства славы, мщения, величия, и молю только одного – исполнения моего обета! За меня вопиет и безнадежность грядущего, и кровь брата его – все тщетно: несколько слов инока, и – забыто мщение, забыто грядущее, забыто прошедшее, забыта слава – и мой обет, едва облегчивший душу мою лучом надежды, снова упал на грудь мою тяжелым камнем! О Боже, Боже Господи! и я не смею просить, чтобы отчаяние раздавило меня; я должен, как вечный жид, скитаться, страдать, трепетать, думать только об одном – за что же, Господи, гнев Твой? Зачем допустил Ты мне наложить на себя обет непреложный, и не допускаешь меня исполнить его? Разве я, как этот жид, возлагал богоубийственные руки свои на выю Твою? Разве я метал жребий об одежде Твоей? Разве я посмеивался богохульными устами страданию Твоему? О страшный пример безрассудного обета! И роптать не смею за то, что он отягчает меня выше сил!..
Гудочник снова закрыл лицо руками, но не плакал.
– Иван Феофилович! кто бы ты ни был, праведник ли великий, или грешник непрощаемый, – сказал Шемяка, подходя к Гудочнику, – я не хочу знать – знаю только, что тебе одолжен я спасением, и что ты мудр и велик духом – я не оставлю тебя: приди ко мне, будь мне другом, будь первым советником моим. Хочешь ли богатства и почестей – получишь их от меня. Я разделю с тобою кров мой, хлеб мой, судьбу мою!
«Нет! – сказал Гудочник, одушевляясь и принимая свой обыкновенный, спокойный вид, – нет! это невозможно – мы должны расстаться! Никогда не расстанется душа моя с тобою, князь Димитрий Юрьевич; но не хочу требовать от тебя паче того, что ты можешь снести. Прощай! будь счастлив! Ты не услышишь обо мне более. Но знай, что грядет и придет час, когда я снова предстану тебе; что в решительные минуты жизни твоей я снова явлюсь пред тобою; но это будет час исполнения моего обета, и тогда уже ничто, ничто не удержит меня, и тогда, если ты станешь за одно со мною, то не будет тебе возврата – смерть, или обет мой!»
– Остановись, Иван Феофилович. Может статься, и теперь будет возможность исполнить твое предприятие.
«Нет! я знаю, что нет! Знаю Василия, знаю легкомысленных новгородцев – скажу более: знаю князей, за которых полагаю свою голову – это невозможно! Василий все уступит; другие все примут; у третьих недостанет… недостанет силы душевной!.. Еще не пришло время; но его придет, придет, и тогда Гудочник снова станет пред тобою! Прощай, князь!»
– Иван Феофилович! так ли расстанемся с тобою? Забуду ли твое добро? Возьми, что тебе надобно, если я не могу иначе успокоить твоей старости.
«Если ты помнишь мое добро, то, молю, не забывать его никогда и в страшный час не забыть его! Если услышишь о смерти моей – вели помянуть меня за упокой. Душе моей грешной будут тогда дороже молитвы добродетельного, нежели злато, которое мог бы ты дать мне теперь. Прощай, князь Димитрий Юрьевич!..»
– Сын мой, сын мой! – раздался голос в передней комнате. Слышно было, что кто-то идет поспешными шагами. Шемяка обернулся к двери и не заметил, как ускользнул из комнаты Гудочник. И мог ли он заметить: из дверей бросился в это мгновение, в объятия его – князь Заозерский…
«Отец мой!» – вскричал Шемяка и повергся на грудь Заозерского. Несколько времени они не говорили ни слова, целовали друг друга, плакали, смеялись,
– Мне готовилась такая радость, и отец Зиновий знал это и скрывал от меня! – воскликнул наконец Шемяка.
«Я готовил тебе награду за добро; но не хотел обольщением привести тебя к добру», – сказал Зиновий, вступая в сие мгновение в комнйту. Он вел за руку Софию…
Шемяка не знал – броситься ли ему обнять очаровательное создание, стоявшее перед ним во всей прелести красоты, юности, любви, радости девической, смущения невинности – или обратиться с молитвою к Богу, сохранившему еще для него на земле столько счастия! Любовь такова: взор ее устремляется, или с восторгом на предмет ее очарования, или с благодарностью к небу. Других взоров она не знает, если только бедствие не губит ее, и если только есть на ней благословение Божие, без которого она ад на земле, мука нестерпимая – падший ангел…
– Чадо! обними свою невесту и не думай, чтобы чистые наслаждения добродетели могла запрещать человеку самая строгая жизнь инока. Любовь твоя благословлена уже родителем княжны, и она уже принадлежит тебе по законам Божиим и человеческим.
Так сказал Зиновий, и София, едва не лишаясь чувств, со слезами говорила Шемяке, когда он крепко обнял ее: «Сколько страдала, сколько плакала я в разлуке с тобой, и как в одно мгновение все мною забыто!»
Гудочник хорошо предугадал, что должно было случиться. Душу Василия мог видеть только единый Бог; но пред людьми он изъявил все, что может изъявить человек, истинно желающий мира, истинно раскаивающийся. Умолив святого мужа быть ходатаем за него, упросив доброго Заозерского ехать с Зиновием в Новгород и взять с собою дочь свою, он хотел, казалось, вместе с мольбою мира, отдать Шемяке все возможное счастие, выдав в то же время самый драгоценный залог безопасности. Богатые дары предложил он при том Заозерскому; старик отказался от даров, но охотно поехал в Новгород. С ним поехали и послы Василия к Шемяке и к новгородцам. Им поручил Василий согласиться бесспорно на все условия, какие объявит Шемяка, утверждая волость Димитрия Красного в прибавок к собственной волости Шемяке и отдавая ему все, что было за отцом его Юрием Димитриевичем. Таким образом Шемяка делался одним из сильнейших князей русских. Новгородцам утвердил Василий самосуд их, вольности, льготы, владение всеми их волостями и не требовал более изгнания суздальских князей. О восстановлении Суздаля никто не говорил ничего. Мир и условия мира с Василием произвели общую радость в Новгороде. Сильная партия Москвы, подкрепленная теми, которые робели новой войны, хотя и принуждена была уступать (как мы уже это видели), но тем не менее она тревожила и волновала умы. Теперь Новгород с честию выходил из затруднительных обстоятельств, и все радовались, или показывали, что радуются мирному докончанию, повторяя старое присловье: худой мир лучше доброй ссоры.
Новгородцы просили Шемяку праздновать свадьбу в Новгороде, и давно уже не помнили самые старые старики такого великолепия и веселья, какое было на свадьбе Шемяки. Вскоре после того он отправился в удел свой. Пересланы были взаимные грамоты с Василием; но Шемяка не поехал в Москву и основал пребывание свое в Угличе, как будто ему ненавистны были самые окрестности московские. «И праха моего не будет в тех местах, где семя зла произросло для рода нашего!» – говорил он.
Василий Юрьевич не хотел оставить той обители, куда заточен он был по воле Великого князя, и не хотел принять уделов ни от Шемяки, ни от Василия Васильевича. Он посвятил дни свои единому богу. Лишенный света очей, он прозрел светом души, и беседуя с братом своим, когда сей приехал навестить несчастного слепца, изумил его спокойствием и твердостью духа, с какою переносил свое несчастие. «Бог смирил меня за мое превозношение!» – говорил он, с тяжким вздохом.
Ничего не слышно было о Гудочнике. Тщетно в Новгороде хотел узнать Шемяка, куда девался этот старик – никто не знал – так, как и самые суздальские князья, за благо которых не щадил он жизни, знали одно, что он был суздалец, и что он заклялся восстановить свою отчизну. Василий Георгиевич, говоря однажды о Шемякою о Гудочнике, заключил словами: «Впрочем, мне казалось иногда, что едва ли он не помешался немного», Шемяка задумался, но не сказал ни слова, ни да, ни нет. Не хотел ли он спорить с суздальским князем из вежливости, или сам также думал – не знаю. Впрочем, люди нередко называют сумасшествием то, что выходит из обыкновенного круга дел и событий. Таковы люди – были и будут…









































