Текст книги "Клятва при гробе Господнем"
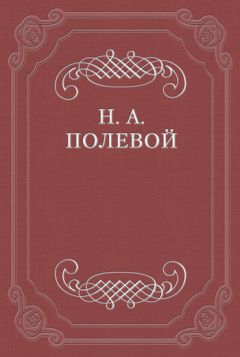
Автор книги: Николай Полевой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Глава IV
– Ну, великий господин, властитель всех бесов на свете! говори: правда ли это? – спросил боярин Старков, поспешно вставая, едва Гудочник вошел в комнату; боярин сидел в это время за столом, держа в руках большую оловянную кружку. «Правда», – отвечал Гудочник, усмехнувшись.
– Не иму веры, дондеже не… – боярин не пригадал, как окончить ему свою духовную пословицу.
«Дондеже не положу железы на руце и нозе его, и не упрячу буйной его головы в каменный мешок», – прибавил Гудочрйк.
– Воля твоя, старый хрен – это невероятно, этого не может быть! Повтори, что ты говорил мне?
«Глупость людская, особливо когда в дело вмешиваются бабьи глазки, всегда вероятна и вернее ума. Пожалуй, повторю: прежде я говорил тебе верные вести, что Шемяка хочет ехать сам в Москву; потом, что он едет; теперь говорю, что он скоро к тебе появится и что ты должен встретить дорогого гостя с подобающею честью, потому, что за этим именно послан ты сюда от Великого князя Василия Васильевича».
Старков крестился обеими руками: «И это точно подтверждается?»
– Боярин! есть всему мера – и вере и неверию. Сейчас прискакали расставленные по дороге ближние гонцы: Шемяка скачет за ними и прямо сюда, в село Братищи, где ты и я ожидаем его.
«Он помешался!» – сказал Старков, усмехаясь жалостливо.
– Нет! когда женится, то помешается, а теперь только дуреть начинает. Не знаю, однако ж, боярин, что тебе тут кажется непонятно! Я рассказывал уже тебе, что Шемяка засватался в таком семействе, где чарки не выпьют без земного поклона, а дети с рождения клобук надевают. Старик Заозерский начал увещевать князя, что ему, яко христианину и яко человеку, не годится быти во вражде с Великим князем; что благо смиряющемуся, и что блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся. Шемяка поколебался: ведь у него куриное сердце, скоро переходит и долго не продолжается. Тут и будущий тесть и невеста сильнее пристали к князю; призвали на помощь монахов; будущий тестюшка твердил одно: «Князь! отдаю я тебе мое единственное детище; препоручаю тебе и сына своего. Я стар, не сегодня, так завтра умру; если ты останешься во вражде, отравишь ты последние часы моей жизни, заставишь ты меня при дверях гроба думать не о спасении души, а о мире, где покину я тебя и дочь на произвол мирской бури. Да не зайдет солнце во гневе нашем…» Ну, и прочее, и прочее. А пока говорил это Заозерский и подговаривали ему монахи, молодая невеста прижималась к горячему сердечку жениха, роняла жемчужные слезки и только шептала: «Если любишь меня – помирись с Великим князем!» Эти слова – немного их было, да сильно отзывались они в сердце Шемяки: «Я не враждую, я давно простил московского князя. И теперь, когда я так счастлив, могу ли иметь на кого-нибудь злобу? Но Великий князь притворщик, хитрец, лукавый человек. Он ничему не поверит, когда в то же время брат мой сбирается на него войною. И могу ли я отдать ему брата головой?» – «Злые люди разлучили всех вас – не выдавай брата, но помири их: не может быть, не люди будут они, брат твой и Великий князь, когда ты изъяснишь брату своему всю невозможность борьбы с Москвою, когда Великий князь увидит в то же время твое доброе расположение. Они взаимно уступят друг другу, и мир процветет в потомстве Димитрия Донского! С каким весельем тогда встретим мы тебя, миротворца братьев, победителя не мечом, но словом честным и добрым!» – «Княжна Софья Дмитриевна! узнай, как я люблю тебя, как слушается твой жених твоего родителя: я еду завтра же и – прямо в Москву!» – вскричал Шемяка. Побледнела, задрожала молодая княжна-невеста. – «Да! в Москву! – продолжал Шемяка. – Если приступать к чему, так приступать душою и сердцем немедля, прямо, искренно. Я еду в Москву: звать на свадьбу мою брата моего Василия Васильевича, со всем его великокняжеским двором. В Угличе все у меня готово: терем светлый, мед сладкий, пиво крепкое – отправляйтесь туда; верно, вы застанете уже там брата Димитрия – я привезу с собою брата Василия Юрьевича и Великого князя, или приеду сказать вам: я простил его, но мира между ними нет! Я смирялся; но он питает вражду, семя диавольское. Тогда, да судит Бог виноватого!» – Предприятие Шемяки не на шутку испугало всех. Но таково свойство у этого князя: если он на что решится, то предается этому решению душою и сердцем… Рассказывать ли тебе, боярин, как после того расставались, плакали? У меня были там, в Заозерье, такие приятели, которые ни одного словечка не проронили и, может статься, наперед подсказывали многим, что надобно было говорить.
Старков качал головою: «Знаешь ли: ведь я не поверил было ушам своим, когда Великий князь призвал меня и сказал, куда и зачем меня отправляют?»
– Ты изумился, кажется, боярин, когда и меня увидел и когда Великий князь велел тебе поступить согласно тому, что я скажу?
«Признаюсь и в этом. Как мне было и не изумиться, если ты сам не забыл, с какой поры не встречались мы с тобою? Хоть ты и уверяешь, будто тогда не ты, но какое-то демонское наваждение обморочило всех нас – однако ж… хм!.. садись-ка, крестный батюшка, который благословил воевод московских в дураки, – примолвил Старков, указывая место Гудочнику, – садись и растолкуй, где пропадал ты с тех пор, что ты поделывал и как ты успел из притоманных друзей покойного старика Юрия сделаться таким другом нашего Великого князя? Не слишком-то доверчив наш князь Великий, и не надивлюсь я, как умел ты попасть к нему в такую великую милость!»
– Не всякий тот друг, кто с тобой брагу пьет; не всякий ворог, кто на тебя с мечом идет. А сверх того, боярин, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Светило сегодняшнее солнце – мы на нем онучки сушили; засветит завтра другое – мы будем сушить на нем. Позволь мне отложить на время дружескую с тобою беседу – от тебя ничего за душою не скрою, но теперь припомню тебе: все ли у тебя исправно и готово для встречи дорогого гостя?
«Да, да, я так изумился последней вести, что я забыл об этом. Распоряжено все; да, только надобно присмотреть за народом, так ли все сделано. Право, изумился я, и все было забыл…»
– Изумляться ничему не надобно, – ворчал Гудочник, – даже и тому, что ты поумнеешь. – Он проводил глазами Старкова и задумавшись сел на лавку.
День вечерел, становилось темно, как бывает темно в душе человека, когда он замышляет злое. Прискакал еще гонец и сказал, что Шемяку оставил в пяти верстах. Старков и бывшие при нем московские чиновники выехали за село. Несколько воинов стояло на почетной страже, близ избы, где назначен был ночлег Шемяке. Жители села толпами высыпали в поле. Все радовались, казалось, прибытию дорогого гостя.
Шемяка был охотник до скорой, лихой езды. По дороге, повсюду, от самой границы Великого княжества до Москвы, приготовлены ему были подставные щегольские тройки. Шемяка ехал с малою свитою, с Сабуровым и Чарторийским. Только пыль снежная взвивалась из-под копыт лошадиных, и множество колокольчиков на дугах звенело и гудело издалека.
Увидя Старкова, Шемяка остановился. Ласково, весело выслушал он приветствие боярина, поклон от Великого князя и приглашение отдохнуть в Братищах, где изготовлен был сытный ужин. Сани привернули к ночлегу.
Шутливо, приветливо поздоровался опять Шемяка со Старковым, не заметив его смущения; ужин был готов. Налив первую чару, Шемяка поднял ее высоко и выпил за здоровье Василия Васильевича,
– Позволь спросить, князь Димитрий Юрьевич, доволен ли ты доныне своим путем-дорогою; исправна ли была езда, добры ли были ночлеги? – сказал Старков.
«Я лично стану благодарить брата моего, Великого князя, – отвечал Шемяка, – и никогда не думал я, чтобы можно было до такой степени приложить старание угодить гостю. О, надеюсь отплатить за это на свадебном пиру своем! Садись, боярин, садитесь все – по-простому, по-дорожному».
Начался ужин, и русское разгулье развеселило сердца всех. Шемяка не утерпел: он пересказал Старкову, как хороша, как разлюбезна его невеста; с громким кликом осушены были кубки за ее здоровье.
– Ну, Чарторийский, видишь ли, что заяц по-пустому перебежал нам дорогу, при выезде из Кубены? – сказал Шемяка, оставшись с ними наедине. – Завтра мы в Москве, и не знаю, что-то говорит мне, будто с завтрашнего дня начнется истинное мое счастье! Такое веселье бывает недаром – давно не был я так весел и доволен.
«Кем, князь: собою или другими?»
– И собою и другими. Вижу, что правда светлая побеждает все и всякого: и самый подозрительный брат мой, Великий князь, не смеет не уступить доверчивому желанию добра и мира, которое ведет меня в Москву. Он чествует и принимает меня, как дорогого своего гостя, ждет не дождется и высылает на дорогу встречать и угощать. Я худо было поверил ласковому поздравлению, которое прислал он мне в Заозерье. Недоверчивость, чувство неприязни отравляли все часы моей радости. Будущее темнело передо мною, как туча осенняя. Теперь все ясно – и в сердце и в судьбе моей. Что ты кряхтишь, Чарторийский? Аль жесток тюфяк разостлали тебе хозяева наши? – спрашивал Шемяка, беспечно протягиваясь на мягком тюфяке своем, покрытом медвежьею кожею.
«Нет! мягко лежать, князь, да под голову лезет жесткая дума».
– Еще сомнения? Или ты боишься в самом деле кубенского зайца.
«Нет! я никогда, ни в чем не сомневаюсь, князь, потому, что никогда не думаю о завтрашнем дне, но, признаюсь тебе…»
– Что?
«Не нравится мне твоя поездка в Москву. К старому врагу надобно ходить, как в берлогу медвежью, с рогатиною в руках. Не любится мне, что ты явишься у него, как слуга его, когда мог бы его позвать к себе, как ровню. Я, на твоем месте, поехал бы в Дмитров к Василию Юрьевичу и оттуда звал бы на свадьбу Великого князя. Там надежнее мириться, где, слыша недоброе слово, можно ухватиться за бердыш… Впрочем, так что-то вздумалось мне говорить тебе… Поздно робеть, когда до Москвы остался один переезд».
Шемяка не отвечал: он уже спал крепко.
Не прошло двух часов после того, как заснули Шемяка и сопутник его, дверь тихо растворилась, несколько человек вооруженных воинов вошло в избу, осторожно светя глухим фонарем. Старков следовал за ними. Тихо подошли они к оружию, сложенному на столе Шемякою и сопутником его, и схватили это оружие. Тут несколько человек бросились к Шемяке, несколько к Чарторийскому и уцепились им за руки и за ноги.
– Что? – тихо спрашивал Старков. «Не выскочат!» – отвечал один воин.
– Подавай же огня! – вскричал Старков, растворяя дверь в сени. Там стояло множество воинов с зажженными фонарями.
Едва мог опомниться Шемяка. Раскрывая с трудом глаза, еще отягченные сном, он не понимал: во сне или наяву видит он избу, освещенную огнями, и толпу вооруженных воинов. Он хотел перевернуться, не мог, и только тогда заметил, что несколько сильных воинов держат его крепко.
– Чарторийский! спишь ли ты, или нет? Что это такое?
«Не сплю, князь Димитрий Юрьевич, да пошевелиться не могу – меня держит дюжина здоровых рук».
– Князь Димитрий Юрьевич! – сказал тогда Старков, выступая вперед, – от имени Великого князя Василия Васильевича объявляю тебя пленником.
Шемяка не отвечал ни слова. Он безмолвно смотрел на всех, окружавших его, и наконец сказал с негодованием: «Да воскреснет Бог! Какой дурной сон мне грезится! Кажется, я не много выпил с вечера».
– Изволь вставать, князь Димитрий Юрьевич, и прошу пожаловать за мною, – сказал Старков, сам сторонясь за своих воинов.
«Неужели это не сон? – вскричал Шемяка, стараясь пошевелиться. – Прочь от меня! Эй, ты, боярин Старков, или сам черт в его образе! вели отпустить меня этим бесам, а не то я не оставлю в вас живой души – с людьми управлюсь мечом, с чертями крестом!»
– Прошу не буйствовать, князь Димитрий Юрьевич, или я принужден буду употребить силу.
«Силу?» – И с этим словом кровь вскипела в жилах Шемяки. Как бешеный, рванулся он, вырвался из рук державших его воинов, вскочил и бросился к столу, где лежал меч его. Воины кинулись снова схватить его – стол полетел вверх ногами.
«Меч мой! – громко закричал Шемяка, – вставай, Чарторийский! это разбойники!»
– Воины! схватите князя! – закричал Старков, отступая к самым дверям.
«Прочь!» – загремел Шемяка, ухватил скамейку, стоявшую подле стола, и от одного размаха полетело с ног несколько человек.
– Князь! сопротивление бесполезно! – сказал Старков, – я кликну еще сто человек; ты безоружен – щади жизнь свою.
«Князь Димитрий Юрьевич! – сказал Чарторийский, – и я примолвлю: сопротивление бесполезно. Думать было в Кубене, думать было в Ярославле, а теперь поздно…»
Шемяка опустил на пол скамейку, бывшую в руках его; тяжкая печаль изобразилась на его лице. Никто не смел к нему подступить.
Безмолвие продолжалось с минуту.
– Говорите после этого, что добродетель есть на земле, что правда есть в мире! – сказал тихо Шемяка. – Ах! Софья моя, Софья! Ах! Князь Димитрий Васильевич! если бы вы теперь были здесь и знали!
«Князь! – сказал Старков, – прости меня: я исполняю повеления своего государя; не увечь без надобности невинного народа, а я поклянусь тебе, что никакого зла причинено тебе не будет!»
– Поклянись! – сказал Шемяка, обращаясь к нему с горькою улыбкою, – ну, поклянись, я послушаю!
«Вот тебе Бог порукою, и святая икона Владимирская, что жизнь твоя сохранится, и что мне велено только отвезти тебя в безопасное место и держать под стражею до дальнейшего повеления».
– А что это такое: безопасное место? Могила что ли? Видно, что до этого безопасного места любезный братец мой, Великий ваш князь, не думает уладить добром!
«Сохрани нас, Господи! мне повелено тебя чествовать и хранить».
– Откармливать на убой? Ха, ха, ха! – Опять все вамолчали.
– Слушай, – сказал Шемяка, идя к Старкову, – слушай… – Старков боязливо пятился от него. – Не бойся! – сказал Шемяка, – слушай мое препоручение, слушай же: если ты станешь посылать в Москву и доносить о поимке меня, то вели сказать брату, что скорее борода вырастет у него на ладони, нежели я помирюсь с ним; скажи ему, что он… выдумай самое непримиримое слово, – воскликнул Шемяка, схватя за руку Старкова и сильно сжимая ее, – скажи ему это слово от меня и прибавь к тому, что он изменник, обманщик, трус… Давайте мне одеваться! Готовы ли палачи твои, боярин?
«Поверь мне, князь…»
– Верю, всему верю, потому, что в роде нашем все бывало – и резали друг друга, и в тюрьмах душили, и глаза вынимали… Ба! Свирестель! ты ли это? – сказал Шемяка, увидя одного из воинов, – и ты здесь?
«Здесь, батюшка-князь!»
– Тебя не желал бы я встретить здесь: как мог ты принять на себя должность моего спекулатора? Помнишь ли ты битву у Николы Нагорного: я размозжил было тебе голову – ты закричал мне: «Пощади – у меня трое сирот!»
«Батюшка-князь!» – вскричал Свирестель, бросаясь целовать руку Шемяки, со слезами.
– Спасибо, хоть добро помнишь. Князю твоему уступил я целое царство, а он забыл это. Пояс мой! А меча мне не отдадут?
«Князь…» – сказал Старков, запинаясь.
– Ну, хорошо, хорошо! Смотрите только, чтобы он не заржавел. Отпустите же теперь Чарторийского. Старков! могу, ли я написать несколько слов, или послать кого-нибудь к моему будущему тестю?
«Князь…» – сказал опять Старков, в замешательстве.
– И этого нельзя? Хорошо. Готов ли ты, Чарторийский? Пойдем!
Шемяка вышел в сени. Толпа воинов занимала всю улицу; лошади были уже готовы; сторонясь, когда проходил Шемяка, один из воинов чем-то загремел; быстро взглянул на него Шемяка; воин что-то прятал позади себя; Шемяка сильно повернул его и увидел – железные кандалы!
– Видно, это кушанье не было готово ко вчерашнему ужину? – сказал он, обращаясь к Старкову.
Старков молчал.
– Подай мне их – я положу их с собою! – сказал Шемяка, схватывая кандалы, и скорыми шагами пошел к саням, сказав: – Будет время, когда звон этих кандалов обвинит Василия перед престолом Божиим!
Шемяка сел вместе с Чарторийским. Воины окружили его сани; другие скакали впереди и сзади. Своротили в сторону с Московской большой дороги. Шемяка завернулся в медвежью полсть и спокойно заснул.
– Где мы? – спросил он, проснувшись поутру, у Чарторийского.
«Мы выехали на Рязанскую дорогу».
Опять завернулся Шемяка и не говорил более ни слова. Переменять лошадей останавливались в маленьких селениях, проезжая большие.
– Боярин! – спросил Шемяка у Старкова, когда тот подошел к нему, – скажи: стало быть, приготовлены были здесь для меня лошади, и вы ждали меня?
«Да, князь!»
– А помнишь ли ты, что говорил, встречая меня в Братищах?
«Забыл, князь!» – Старков улыбнулся. Шемяка сам засмеялся.
Быстро привезли Шемяку в Коломну. Сани въехали в тамошний Кремль. Жилищем Шемяки определено было две комнаты в одной из башен Кремля. Ворота заперли и весь Кремль окружили стражею. Старков просил сказать: что ему нужно?
– Ничего! – отвечал Шемяка и не стал более говорить со Старковым. Он был разлучен со всеми спутниками своими. Почти весь первый день, молча, угрюмо, сложа руки, ходил он по небольшой тюрьме своей.
– От Великого князя приехали к тебе бояре, князь, – сказал ему Старков на другой день.
«Я не хочу их видеть, – отвечал Шемяка. – Прошу и тебя, боярин, не являться ко мне, или я ни за что не ручаюсь!»
Старков поспешно ушел. Пристав и несколько прислужников являлись к пленнику с обедом и ужином.
Уже более недели пролетело для Шемяки в тяжком его заключении, когда вечером в один день отворил кто-то дверь в его тюрьму и тихонько задвинул изнутри засовом. Шемяка равнодушно смотрел в окно на далекую Москву-реку и хладнокровно оборотился к пришедшему. Казалось, что Шемяка не обращает никакого внимания ни на один предмет из всего, что его окружало.
Вошедший низко поклонился и тихо стал подходить к Шемяке. Недоверчиво обвел глазами Шемяка и схватился рукою за тяжелый стул, подле него стоявший.
Вошедший понял движение Шемяки и сказал ему: «Неужели ты боишься меня, старика безоружного?»
– Зачем ты пришел сюда? – спросил его Шемяка. – Прошу убираться, а боюсь или не боюсь я тебя, или кого-нибудь – до этого нет тебе дела!
«Ты не узнаешь меня, князь Димитрий Юрьевич? Правда, мельком, и то давно, виделись мы с тобою, и ты мог позабыть меня».
– Кто бы ты ни был – ты раб Василия, ты один из палачей моих – пошел вон: по крайней мере, эта тюрьма мой удел, которым законно владею я, по воле Великого твоего князя. Вон! – воскликнул громче Шемяка, с умножающеюся яростью.
«Умей отличать друга от врага, князь!» – твердо отвечал пришедший, не сходя со своего места.
– Великий князь твой доказал мне хорошо свою дружбу, а с презренным смердом его дружиться я сам не захочу.
«Я не раб московского князя – я жилец целого мира и раб тому, кто, – тут голос незнакомца понизился, – кто враг московскому князю!»
Шемяка изумился и при сумраке внимательно смотрел на старика, стараясь разглядеть его.
– Я принес к тебе вести от брата твоего, от князя Димитрия Васильевича, от княжны Софии Дмитриевны.
«Искуситель! какие имена произносишь ты! – воскликнул Шемяка, закрывая лицо руками. – Зачем пришел ты смущать меня, меня, всеми позабытого? Я приучился было смотреть на свою участь и слова бы не сказал, если бы целый век суждено мне было здесь просидеть. Мое безумие слишком стоило такой награды – моя глупость достойна наказания!»
– Нет! добро никогда не погибнет, и кто сеет его горестью, тот пожнет радостью…
«Молчи, молчи, враг ли ты, изменник, искуситель, или в самом деле, друг мне! Слово добродетель, за этими затворами, в этих стенах, будет насмешкою на людей и укором Богу! Но говори – лги мне о вестях от тех людей, имена которых пробуждают еще душу мою!»
– Они все живы, здоровы, кланяются тебе.
«Живы – и забыли меня…»
– Ах! не забыли, князь добрый! Князь Заозерский и невеста твоя теперь в Угличе!
Как от громового удара вскочил Шемяка со своего места. «В Угличе? – воскликнул он. – Но ты лжешь… Кто ты?»
– По имени Иван, по прозвищу Гудочник, по душе недруг московского князя.
«Да, я узнаю тебя, кажется; не помню только: где мы виделись?»
– Мы виделись с тобою однажды, в страшный час кончины боярина Иоанна Димитриевича, в золотых надворных сенях.
Минувшее пролетело, казалось, перед взорами Шемяки. «Да, правда – помню!» – сказал он.
«Горе излишне мудрствующему, горе князю слабому, окруженному злым советом! От первого погиб боярин Иоанн; от второго родитель твой потерял престол!»
– А горе ли тому, кто добыл его мечом и потом вольно уступил своему врагу?
«Горе, если раздор кипит между родными, и один брат парит соколом, а другой, как рак, пятится в воду».
– Я знаю, что тебя все считают человеком бывалым и оказавшим большие услуги темными делами моему родителю.
«Нет, не темными, князь, – мои дела просветлеют солнцем там, некогда, где и когда светлые мирские дела многих князей и бояр покажутся тьмою кромешною!»
– Чего же хочешь ты от меня?
«Я пришел сказать тебе, что я состою в твоих повелениях». – Гудочник стал на колена и поцеловал руку Шемяке.
– Что же ты можешь для меня сделать?
«Разве недовольно уже и того, что к тебе перепадает через меня весточка от милых тебе людей? Весть от милого, как капля воды на палимый зноем язык, подкрепляет и оживляет нас».
– Но что же, если они живы только, что из этого?
«Они помнят тебя, а кто помнит, пожалеет ли чего-нибудь за твое спасение?»
– Что говоришь ты!
«Неужели в несколько дней дух твой до того ослабел, рука твоя до того разучилась держать меч, а душа таить крепкую думу?»
– Нет! нет!.. – сказал Шемяка, удерживая свое нетерпение, – но человек благовейно должен принимать наказание Божие.
«Князь! эти речи не по твоей голове, эти мысли не по твоему плечу! Что если бы кто теперь принес тебе весть свободы?»
– Свободы, – воскликнул Шемяка, – раздолья воле, разрушения мечу…
«Тише, ради Бога, князь!»
– Говорит о свободе моей и велит шептать – боится тюремных стен! Прочь от меня, соблазнитель! Я не верю тебе, краснобай, не верю ни вестям, ни словам твоим!
«Хорошо – надобно тебя уверить – до тех пор ни слова. Завтра, когда заблаговестят к обедне, смотри в это окошко, прямо на берег Москвы-реки, вглядись, с кем буду я там говорить. Добрая ночь!» – Старик ушел и запер за собою дверь.
Как взволновалась кровь Шемяки, как вскипелись все его мысли! До тех пор, беспрерывно, какое-то бесчувствие владело им после первого порыва, после той минуты, когда он готов был не отдаться живой в руки злодеям своим. Пролетела эта минута, и мысль о безрассудной доверчивости к Василию и ненависть к людям, сменившие его радостное ожидание, его надежды на мир и счастие, подавили его душу. Он не смел даже и роптать на самого себя, не смел осуждать своего поступка: его присоветовали, его одобрили люди столь добродетельные, столь милые ему; они, конечно, терзались после того, узнав судьбу Шемяки и гибель, в какую повергли его. Все это уничтожало, смешивало все помыслы, и Шемяка почитал все сие Божеским испытанием, наказанием, терпеливо решаясь ждать своей участи. А теперь? А! теперь все ожило в его душе: мщение, любовь, ненависть, гордость, оскорбление, позор, нанесенный его роду и званию, даже мысль о том, что он выдал беззащитного брата своего на жертву неутолимому, хитрому Василию! Ему пришло в голову помышление и об опасности, какой подвергались, может быть, Заозерский и дочь его. Он загорел, закипел мыслью свободы, мщения! Он вспоминал потом все, что слыхал о Гудочнике, странном, непонятном человеке; готов был верить, что этот старик оборотнем проходит сквозь двери и затворы темниц, невидимо присутствует во дворцах и увлекает души людей колдовством. Он вспоминал, что таинственный Гудочник всегда оказывал преданность Юрию и роду его; что он был участником и важным действователем во всех умыслах и смятениях до первого завладения Москвы Юрием. Но почему Гудочник ненавиствует московскому князю? Кто этот непостижимый старик? И если он доставит ему свободу, что начать тогда? Куда устремиться? Только бы выйти из темницы, только бы свободно дохнуть в чистом поднебесье – душа встрепенется сильною, крепкою думою…
Всю ночь не спал Шемяка, и едва стало брезжиться, он подбегал уже десять раз к окну, указанному Гудочником. Сильный холод заволок окно морозными своими узорами; Шемяка оттаивал мороз своим дыханием, своими руками. Взошло солнце; ярко осветились окрестности; народ заходил, зашевелился – не видно было Гудочника! Тогда только вспомнил Шемяка, что благовест к обедне будет знаком условленного времени. С грустью бросился он на свое ложе и прислушивался к каждому шороху и самому легкому шуму. В ушах его, чудилось ему, беспрерывно звенели колокольчики, и несколько раз вскакивал и подбегал он снова к окну, думая, что уже слышит желанный благовест…
Он раздался наконец и казался вестью воскресения Шемяке. Князь перекрестился, подбежал к окну и нетерпеливо смотрел: Гудочник там – он стоит с кем-то. Но кто это с ним? Да, Шемяка не ошибается: это друг и боярин Заозерского – это старик Шелешпанский! Радостно закричал Шемяка, готов был выбить окно и броситься в него с башни. Шелешпанский говорит с Гудочником, обнимает его, оборачивается к тюрьме Шемяки, машет ширинкою, кланяется, и оба старика вместе уходят…
Итак – Шелешпанский здесь, вблизи; он пришел от милых сердцу людей; он видел недавно Софию… Часы казались годами Шемяке: он ходил, садился, ломал себе руки от досады и нетерпения, иногда решался даже ломать двери тюрьмы. Солнце показывало уже полдень; слышен стук – двери отворяются. – Кто это? Гудочник? – Нет! Пристав принес обед Шемяке. Нельзя ли вырваться теперь? Шемяка приблизился к двери – она отворена. Пристав оборотился и сказал улыбаясь: «Там двадцать человек стражи, князь – если хочешь, отвори и посмотри!»
– Убирайся вон! Я не хочу есть! – сказал Шемяка, сильно толкая пристава. – Убирайся, или я выкину тебя, и с обедом твоим!
Робко осмотрелся пристав и поспешил выйти. Шемяка слышит, как стучат снова затворы, как все умолкает…
Тоска отравила у него час, горесть съела другой – отчаяние начинало терзать Шемяку, когда день померк, никто не являлся, и о Гудочнике не было ни слуху, ни духу.
Но, вот снова стучат затворы, дверь отворяется – Шемяка ждет: это Старков; за ним пристав с обедом, или с ужином. Пленник готов был кинуться на них, задавить их, бросить в передние комнаты перед тюрьмою и лучше погибнуть, сражаясь с воинами, нежели еще томиться… Но за приставом шел Гудочник – Шемяка задрожал, и вся жизнь перешла у него во взоры. Гудочник остановился у дверей и потупил глаза в землю, с видом покорности.
– Мне донесли, князь Димитрий Юрьевич, что ты не изволил сегодня кушать, – сказал Старков. – Прости, что, вопреки твоему желанию, это привело меня сюда. Великий князь поручил мне блюсти твое княжеское здравие.
Шемяка ничего не отвечал.
«Прошу сказать мне, если ты, чего, Боже сохрани, сделался нездоров и чувствуешь какой-нибудь недуг телесный…»
– Я здоров, но не хочу есть! – отвечал Шемяка. – Скажи мне: что же приказал тебе делать со мною твой Великий князь? – быстро спросил он потом, после короткого молчания, подходя к Старкову.
«Я ничего не знаю», – отвечал Старков, удаляясь от него.
– Неужели я должен сгнить здесь? – вспыльчиво воскликнул Шемяка. – Казнить, так казните скорее! Только братоубийства и недоставало еще твоему князю!
«Ради Господа, не говори мне таких речей, князь! Ты, конечно, нездоров, и вот я привел к тебе знающего человека. – Старков указал на Гудочника. – Если ты нездоров, скажи ему свою болезнь».
Шемяка хотел отвечать; но Гудочник, с низким поклоном, подошел к нему и тихонько шепнул: «Притворись больным!»
– Я не знаю, – сказал Шемяка, в замешательстве, – да и чье здоровье перенесет тоску и грусть моего заключения? Не единой души человеческой…
«Грусти и печали Господь помощник; в части и нечасти князь владыка; а мы, люди старые, люди бывалые, лечим недуги телесные, во имя Отца и Сына и Святого Духа, бесы прогоняющего, здравоносного, тело и душу радующего – лечим огневицу лихую, лихоманки злые, сорок лихоманок, Иродовых дщерей – трясущую, палящую, знобящую, удушающую, надувающую, бессонную, сонливую, медвежью, козлиную… Позволь, князь Димитрий Юрьевич, посмотреть в твои очи, пощупать твою руку – не сказывай болезни, угадаем и вылечим!»
Скороговоркою проговорил все это Гудочник, кланяясь Шемяке, но не показывая никакого знака душевного участия.
– Неужели ты знаешь, как лечить болезни всякие? – спросил Шемяка, невольно усмехнувшись.
«Знаем, знаем – погоди до завтра, до этого времени, и ты будешь здоров – тебе Бог судил еще много счастья и дарования в грядущее время… А мы лечим все, что ни попало: ту ли болезнь, что горячкою называют, а у иных огневою, ибо в той болезни человек, что твой огонь горит, подобно которая храмина горит и от того огня сгорает – знаем! В кашле лихом, что ли? Лекарственное снадобье невелико: толки чесноку три головки, клади в горшок, наливай медом пресным, ставь на ночь в печь теплую, покрывай крышкою, дай упреть, дай выпить – поможет! А у кого руки, или нога изломится – вылечит трын-трава, доброго слова не стоит: возьми пива доброго в ковшик, да столько же патоки, положи в горшок, парь гораздо, пока упреет до половины; да на плат намажь того спуска, около излома обвей, не отымай плата три дня и пока заживет переменяй. От уроков, от причудов, от змеиного укушения, от лихого глаза, от недоброго слова, от ветряного нашептанья, от вынутого следа, от сожженных волосов, от примиганья с левой, сердечной стороны – сыщем сделье, снадобье – Бог поможет, рукой снимет, недуг простится, человек укрепится!»
Говоря все это, с примолвкою благословений, Гудочник смотрел на Шемяку, ощупывал руку его и потом сказал: «Изволь покушать на здоровье, а как покушаешь, выкушай благословясь, вот это снадобье».
Он вынул из-за пазухи две сткляночки, смешал что-то жидкое, в серебряной чарке и поставил на стол. «На дне записка!» – шепнул он мимоходом, отступая к двери.
– Князь Димитрий Юрьевич! не введи меня в слово перед Великим князем, – сказал Старков, – исполни, что этот старик велит!
«Хорошо, боярин, хорошо; но мне всего более нужен покой… Прощайте!»
Боярин и Гудочник вышли; пристав остался. Наскоро проглотил кое-что из кушанья Шемяка и готов было гнать пристава, чтобы поскорее ухватиться за чарку, оставленную Гудочником. Вот и неповоротливый пристав удалился. Шемяка схватил чарку, выплеснул что в ней было: на дне лежал золотой перстень князя Заозерского, с его именем; к нему была привязана записка:









































