Текст книги "Эмма"
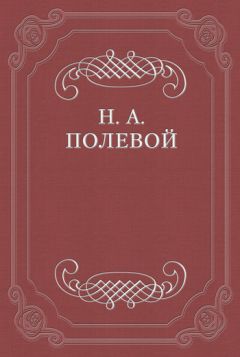
Автор книги: Николай Полевой
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
VIII
(Девичья, в деревне князя С ***)
Анютка. Право, Степан, ты досидишься до беды. Поди в свою лакейскую.
Степан (с торбаном в руках, развалясь на стуле, поет и подыгрывает).
За палатами-то стоят шатры шелковые,
Э, а, о, о, ох! шелковые, да, шелковые!
Парашка. Тебе по-русски говорят, Степан, чтобы ты убирался отсюда.
Степ. Да я и слушаю не по-французски, моя разлапушка, слушаю, да нейду.
Дуняшка. А вот увидит тебя Артамон Панфильич, так он тебе даст себя знать.
Степ. Не бось, моя разлюбезная Авдотья Степановна: этого старого черта унесло в Перепелихино, и он раньше ночи не воротится расхаживать здесь по-петушиному.
Маша. Но ты знаешь, Степан Ильич, что барыня накрепко заказывает лакеям приходить в девичью. Увидит тебя мисс Черт, подымет такую грозу…
Степ. Она ушла завтракать. Ей вот этакое блюдо буденю да окорок унесли в ее комнату. Ну! да если увидит, что за беда? Хе! палки деньги, деньги палки – семь бед один ответ – спины не нанимать стать: своя, не купленная! Лучше ли мне красть барское да проигрываться в три листа, чем приходить сюда к вам, мои красавицы, погуторить кое о чем, то есть, так сказать, о том о другом? Или, примером то есть сказать, спеть песню… То есть, Авдотья Степановна, как ты изволишь об этом думать:
Ах! ты, Степа, Степаша-горюн!
Ты почто, Степан, не женишься?
Анютка. Да я говорю тебе, что барыня не велит лакеям в девичью ходить. И в самом деле, за своею Дуняшкой ухаживаешь да другим дело, делать мешаешь, постреленый!
Дуняшка. Так тебе стало и завидно, что не за тобой ухаживают?
Анютка. Завидно! будто не знает, что вот все это белье надобно к обеду выгладить, отделать; а смотри-ка: где солнце-то?
Степ. Ну, если к барскому обеду, так успеете – в пять часов ведь обед; добрые люди, отдохнувши, полдничать да к вечерне идти собираются, а мы обедать садимся…
(Все смеются)
Степ. А что, право, у бар затей не оберешься. Ведь, вот, хоть бы и о том сказать: не ходи сюда с красными девицами поговорить! А сами что делают…
Маша. На то они баре.
Степ. Баре? Так им и надобно что хошь делать? Тут не далеко искать: вывезли они молодому барину эту немку молоденькую…
Анютка. Да ведь она его лечит.
Степ. Лечит? Хитер стал этот немецкий народ: у него и девки-то лет восьмнадцати лечить умеют. Хоть бы ты меня, Дунюшка, этак полечила!
Дуняшка. Да от коего черта тебя лечить?
Степ. Да от сердечной зазнобы, разлапушка. От того же, от чего немка молодого барина лечит.
Анютка. Полно ты врать, Степан.
Степ. Нечего врать. Верь ты этим барчатам да немкам, а мы знаем, что знаем.
Маша. Ах! скажи?
Степ. То-то скажи. Будто вы сами не догадаетесь. А я так подслушал, как мисс Черт говорила, а она, уж конечно, знает, что говорит.
Дун. Чего тут догадываться. Барич наш сошел с ума, и как было ему не сойти: ребенком был – его лелеяли, мальчиком рос – нежили; а как попал в службу, так в пол-года и с ума спятил.
Парашка. Говорят, он книг зачитался.
Степ. Скажи лучше: от ретивого головушка повернулась. Ведь и с нашим братом, лакейщиной: как приглянулся кто, так вот голова и одуреет.
Анютка. Вздор!
Степ. Не вздор, а то, что правдой зовут. Видишь: мисс Черт говорит, что барич только прикинулся сумасшедшим. Этому, говорит, примеры и в книжках есть описаны, и на театре представляют. А он себе очень на уме. Полюбилась, видишь, ему эта немка, и уговорил он доктора сказать, будто она лекарка.
Пар. Не такова наша барыня, чтобы ее обманули.
Анютка. Однако ж, Параша, в самом деле: чем же она его лечит? Ни порошков, ни пластырей, а он здоровеет видимо с тех пор, как немка при нем.
Степ. Эх! да какое лекарство лучше девичьих глазок! Я сам заметил: баричу грустно станет, опять будто что-то на него найдет недоброе – немка поглядит ласково, заговорит с ним – и как рукой сняло!
Пар. Ты думаешь, будто немка эта полюбилась баричу? Ан неправда, я знаю. Если и были у него шашни, так не тут. Помнишь, Анюта?
Анюта. Да с соседкой-то, молодою графиней? Знаю.
Все. А что? что?
Пар. Мы знаем что. Пока не определялся барич на службу, и записочки летали, и тихонько видались они – да не наше дело, а барское!
Маша. Ну, что твоя графиня: и теперь-то она дитя, а этому уж три года прошло.
Анютка. Батюшки! этак выдумала: дитя! Давно из пеленок вышла… А прошлую зиму послушала бы ты, что о ней по Москве-то говорили: первая, видишь, красавица и щеголиха; лучше ее никто в Благородном собрании плясать не умеет.
Маша. А знаете ли что: я так другое подозреваю. Немка эта не колдунья ли? Ну как она приворотила к себе барича каким-нибудь зельем, а на всех родных его обморок накинула?
Пар. Не правда. Она такая добрая!
Маша. Смотри ты на этих добрых! Ведь княгиней-то быть велико дело! А сама рассуди: что в этой немке хорошего? Так, всю-то красоту лавочным аршином смеряешь – ни кожи, ни рожи! А голь-то какая! что за бельишко у нее! Три капота белых, то и дело в стирку; а чепчиков-то всего полдюжины!
Анютка. Надарят, не бойся.
Пар. И ухватки-то у нее все нашей братьи, лакейские: слова гордого не скажет, взгляда сердитого не увидишь – ничего нет барского; сама одевается, сама голову чешет…
Анютка. Да, так тебе кажется, будто барского нет, а поди-ка, спеси в ней – не мисс Черт чета! Я-таки живала с барышнями. Бывало, к самой спесивой как раз и в фаворитки попадешь. А с этой заводишь речь – она молчит; продолжаешь – проговорит тебе: «Милая! мне ничего не надобно – ты можешь идти», – и пойдешь несолоно хлебавши…
Маша. Ведь и с баричем она так же обходится: не подлещивается, гордеянка, а как будто все приказывать ему хочет.
Анютка. Да уж не обвенчаны ли они, чего доброго?
Маша. Куда тебе! Тогда с старой барыней и не сладишь!
Пар. Но ты видишь, что старая барыня сама в ней души не слышит.
Маша. А, право, девки, дело чудное; я и не слыхивала об этом; не знаешь, как к этой немке и подходить: не то барышня, не то служанка, не то жена барича – а ходят вместе, сидят вместе.
Степ. А вот этак, не заметила ль ты, так сказать, чего-нибудь…
Маша. Ах! нет, нет! Вот уж нет – нечего и греха принимать на душу – ей богу! нет! ничего – как брат с сестрой – хоть и одни остаются, так на фортепианах начнут играть либо книги читать… Ну! ручки не пожмет ни разу!..
Пар. Ах! нелегкая вас побери! заговорилась с вами да любимый барынин чепчик прожгла утюгом…
Все. Ах! беда! ах! ах! ах!
IX
«Давно не писала я к тебе, милая Фанни, и вот уж почти осень наступает, а мое последнее письмо было писано, когда еще цвели розы. Милый друг! прости меня – виновата и хочу теперь так положить, чтобы писать к тебе всякий день, а потом вдруг отсылать, что у меня будет написано. Без этого, когда есть случай, ничего в голову не приходит – ни пера, ни бумаги не сыщешь…
Боже мой! у меня и нечего много рассказывать. Я писала к тебе подробно о нашем приезде в княжескую деревню, о княгине, о прелестном здешнем местоположении. Как сказать: прелестном? Может ли быть названо так место, где бедная природа брошена к ногам роскоши и искусства, где лужку не позволяют быть зеленым, пока не усыпали его золотом, а цветочку цвести, пока садовник не утвердит, что это цветок редкий или модный? Здесь все размеряно, рассчитано. Что кажется просто, то держится самым скрытным искусством. Обширные парки княжеские занимают ежедневно множество народа; каждое дерево там обделано, осмотрено, и что сначала почтешь простым, очаровательным, диким лесом, то все обработано по самой ученой перспективе. Вот окрестности здешние точно прелестны; виды в них превосходные. Но знаешь ли, милая, что я теперь чувствую?
Я писала к тебе, как сначала испугало меня великолепие, богатство, знатность, какие встретила я у княгини. Но я скоро к этому привыкла, узнала порядок здешней жизни, применилась к людям и теперь ничего не пугаюсь. Надобно знать тебе, что каждый день я открываю в милой княгине новые достоинства. Она так добра, проста, откровенна, ласкова! Она подарила мне такое множество всякой всячины, что я не знаю даже, куда мне с этим деваться. Не принять совестно, принять тоже. Князь – старичок предобрый, и мы его мало и видим: только главное за обедом. Завтрак поутру носят к нему в кабинет, а за чаем вечером всегда составляется у него партия виста. Он и еще трое стариков соседей, а иногда наш доктор, каждый вечер сидят в гостиной и играют; между тем мы собираемся в свое отдельное общество. Не воображай себе княгиню и дом ее, как мы всегда воображали знатных людей, с толпою гостей, с множеством народа. Мимоездом, изредка посещают нас, и княгиня ездит иногда с визитами. Но кроме того, что князь и княгиня не имеют здесь много знакомых, по болезни сына они совсем отказались от гостей. Думаю, что при гостях, при выездах, при балах я потерялась бы, не знала, что мне делать. Но теперь совсем другое, и я совершенно обжилась у милой моей княгини. И – вот, что чувствую я теперь: какую-то тягость, какую-то пустоту в великолепии и богатстве! Меня удивляла прежде всего эта пышность – теперь нисколько не удивляет. Я не могла сначала пройти мимо огромных зеркал, какие везде расставлены по залам, без того, чтобы не поглядеться в каждое. Теперь хожу мимо их и не думаю взглянуть на себя. Сначала я тихонько дотрагивалась, бывало, до малахита, бронзы, мрамора – так гладко, так хорошо погладить эти столы и вазы. Теперь все одно и то же пригляделось мне, и даже приходит иногда в голову: для чего стоят тут какие-нибудь пустые мраморные чаши и вазы, и можно ли платить за них тысячами, когда они ни на что не надобны, кроме того, чтобы занять места по углам и подле стен? Картин у князя так много, что часть их отнесена в кладовую. И не лучшие, но по симметрии подобранные поставлены картины на стенах. Многие ценятся за одно то, что они дороги. В гостиной находится большая картина; дикие американцы едят пленника – такая гадкая сцена, и я не взяла бы дорого смотреть на нее, но она дорого заплачена, писана каким-то славным живописцем и потому поставлена в лучшем месте. Не поверишь, по какому размеру и расчету все делается в знатном доме. Тут нет места уединению или свободе делать, что ты хочешь: на все часы, условие, и сто человек только того и смотрят: чего ты желаешь? Здесь все безмолвно слушается и услуживает – даже карпы в пруду слушаются звона колокольчика – и, не поверишь, как это скоро и сильно надоедает. Здесь так всего много, что желать нечего, и скучно желать, потому что наперед знаешь, что все тотчас исполнится, чего ты ни захочешь. От этого, думаю, и добрая княгиня моя смотрит на все равнодушно, холодно, ничему не удивляется, ничему не радуется. Помнишь, когда на выработанные тихонько деньги мы делаем бывало друг другу какой-нибудь сюрприз? – Теперь я понимаю: не в том радость, что подаришь, но в том, что сколько прежде этого думаешь, придумываешь, заботишься, как бы все это устроить и сделать! А когда бывало дедушка наймет карету, и мы отправимся в Царицыно – как радовала нас карета, как мы восхищались тем, что едем в карете! Теперь, милый друг, пять карет, и кабриолетка, и линейка – только захотеть, и поедешь в карете или в чем угодно, и – мне ни однажды этого не захотелось: право, не знаю, почему. Не знаю еще, каким образом милая моя княгиня узнала день именин моих и подарила мне богатый изумрудный фермуар. Но ведь я не обрадовалась ему так, как радовалась той браслетке, которую прошлого года подарила мне ты. Не думаешь ли, что я не люблю княгини? О, это невозможно – ее нельзя не любить; но для браслетки ты полгода копила деньги, а княгиня взяла фермуар из ящика, где у нее лежит множество брильянтов и всякой всячины; она подарила мне его как ничтожную безделку – я знала, что он ничего не значит для нее, и он потерял для меня всю свою цену. Дня три тому мы зашли на княжескую ферму. Тут я увидела дюжину превосходных коров – тирольских, английских – такие миленькие! И мне тотчас пришло в голову, видя, что княгиня и не смотрит на них: „Ах! если бы у бабушки моей была хоть одна такая коровка!“ Я давала в это время кусок хлебца прелестной английской корове, белой, как снег, и она так ласково лизала мою руку. Княгиня заметила, что я задумалась, и стала спрашивать, о чем я думаю. Я откровенно призналась ей. „Chere enfant!“[57]57
Милое дитя! (фр.).
[Закрыть] – сказала она, печально улыбнувшись, и поцеловала меня. На другой день я узнала, что корову увели в Москву, к дедушке. Это до слез растрогало меня. Я побежала к княгине и целовала ее руки. Пожалуйста, Фанни, поласкай мою коровку, когда приведут ее к бабушке, и напиши, рада ли была ей бабушка. Мы после того целых полдня сидели и говорили с княгинею. Она жаловалась мне на скуку жизни – я верю ей: у ней всего много, и ей нечего желать…
Расскажу тебе еще прогулку нашу дней пять тому назад. Она оставила глубокое впечатление в душе моей. Сквозь княжескую рощу из окошек моей комнаты видна золотая глава…ской пустыни. Давно хотелось мне побывать в этом монастыре. Я слышала, что там поют монахи по-старинному и очень хорошо, а ты знаешь, что никогда прежде совсем не слыхивала я монастырского пения и даже совсем не видала монастырей. Княгиня вздумала ехать и взяла меня с собою. Когда живет она летом в деревне своей, то всегда говеет, и духовник ее – один из монахов этого монастыря. Его все считают здесь за святого человека. Наружность монастыря обыкновенная, и он походит на все московские монастыри: четыре каменные стены, старинные башни, на воротах написаны святые. Мы молчали всю дорогу. Я думала, не сердита ли на меня княгиня; но, подъезжая к монастырю, она печально сказала мне: „Здесь погребена моя мать“. – Ее мать! Я поняла причину ее грусти, мне стало самой тяжко и грустно. Монастырь показался мне после того гробом живых мертвецов, которые оберегают могилы мертвых. У ворот мы вышли из кареты… Нет! жаль, что в наших лютеранских церквах нет образов! Ты не поверишь, какое чувство произвело во мне изображение на воротах двух смиренных моналев, несущих крест, и надпись над ними: „Отвергнись себя, возьми крест мой и по мне иди!“ Но в то же время неописанное наслаждение произвело в душе моей изображение Спасителя над дверьми главной церкви и надпись: „Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас!“ Мне казалось, что я приближаюсь к святому месту успокоения, обещанному Спасителем. Когда мы вошли в церковь, старинную, высокую, темную, невольное благоговение объяло меня. Церковь была почти пуста, народу было в ней немного: крестьянки-старухи да еще несколько богомольцев, пришедших из Москвы; но служба совершалась в церкви, как всегда; свечи зажжены были повсюду, О Фанни! мысль, что здесь, в этой уединенной обители, люди, отрекшиеся от мира, забытые миром, молятся за государя, за страждущих, плененных, за целый мир, за счастие его, за будущее небо для других людей – и в то же время свет, и люди, и мир шумят, бегут, едут мимо их и не мыслят о молитве их – и нет никакой награды в мире этим инокам, кроме мысли о темном гробе, о светлой жизни за гробом… Фанни! я невольно стала на колени и молилась усердно! Только молитва бедных поселян и смиренных богомольцев, пришедших издалека, сюда, в забытую эту обитель, сливалась с моею молитвою. „Господи! успокой его там, где успокоены праведные!“ – шептала за мною какая-то старушка, босая, с котомкою за плечами, с изношенным платком на голове – она молилась со слезами, в землю. Я спросила у другой старушки: о чем плачет ее подруга? „У нее умер сын, барышня, и она для утешения пришла сюда, потому что с печали совсем лишилась хлеба и только в богомолье находит еще отраду“. Бедная мать ничего не замечала, молилась и плакала: Я готова была обнять ее и также плакать. Все несчастные казались мне друзьями моими. „Итак, только в горести, в скорби, – думала я, – мы вспоминаем об этих святых монастырях, приходим сюда плакать и молиться!“ И звон колокола, который столько раз слыхала я равнодушно, утром и вечером, каждый раз говорил мне: „Бедствующие! утешьтесь! есть место, где вы можете плакать; и люди не помешают вам, и сам Спаситель сойдет святым утешением в душу страдальца!“
Между тем с любопытством смотрела я на монахов, на их длинные черные рясы: мне казалось, что я вижу тени людей, уже умерших, и только молитва, мрачная, грустная, печальная молитва, являлась мне в образе этих черных иноков, возносимая из глубины гроба, где погребены они. „Зачем же молитва тому, кто столь милосерд, должна быть мрачна и печальна?“ – думала я, смотря на черные рясы и важные, угрюмые лица монахов. Я вслушивалась в пение, и оно удивляло меня какою-то важностью, дышало чем-то гробовым, страшным, заставлявшим содрогаться. Вдруг все монахи сошлись на средину церкви, и громкий хор их раздался повсюду. Я не знаю слов того, что они пели, но этот хор поразил меня какою-то патриархальною простотою: мне казалось, что я живу еще в первые времена христианства, когда еще не много стекалось народа в храмы и все страшились, что посланные тирана набегут на храм, сокрытый в какой-нибудь пустыне, и смерть ждет христиан в усердной молитве их…
Но хор умолк, и вдруг три тихие голоса запели. – О Фанни! И теперь слезы на глазах моих, едва вспомню я, как пели они! Я достала себе слова и ноты этой церковной песни: это та самая песнь, которую пел святой старец Симеон, когда увидел Христа, принесенного во храм Иерусалимский. Ты помнишь эту великую повесть[58]58
Ты помнишь эту великую повесть? – Далее пересказывается евангельская легенда.
[Закрыть]? Симеону было обещано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. И вот ждал Симеон, долго ждал, состарелся, одряхлел – нет обетованного! Напрасно приходил он ежедневно во храм, смотрел, тосковал душою и сердцем – нет его! Уже ноги Симеона едва двигались, глаза едва смотрели – а смерть не приходила к нему! Он идет во храм еще раз – и перед ним божественный младенец, на руках пресвятой девы, – и мысль, что он видит от веков обещанное спасение мира и людей, и сладкая дума, что он видит вестника освобождения своего из тюрьмы здешнего мира и что настал для него час праведной кончины и для мира час вечного спасения… все это излилось из глаз его горячими слезами. И старец Симеон бросил в сторону свой костыль, принял на руки божественного младенца и вдохновенно запел: „Ныне отпущаеши раба, твоего, владыко! по глаголу твоему, с миром!“… Эту самую песнь пели иноки обители. Не могу писать к тебе более – дай мне поплакать немного!..»
Х
– Не прикажете ли, ваше сиятельство, поднять штору? – униженно спросила у княгини служанка, горничная княгини, если угодно. Впрочем, в целом доме звали эту служанку Аграфена Михайловна; дворецкий всегда ласково кланялся ей, и мисс Щорт, или как называли ключницу-англичанку слуги и служанки, мисс Черт, всегда звала ее к себе завтракать. Аграфена Михайловна редко отказывалась от этого: она очень любила бриошки[59]59
Бриошки – сдобные булочки из белой муки.
[Закрыть], какие мисс Черт готовила для своего завтрака.
Княгиня сидела на низеньком табурете подле круглого столика и, казалось, со вниманием смотрела в письмо, которое только что было прочитано и лежало перед нею на столике. Глаза княгини не могли оторваться: от следующих слов письма (мы переведем их для наших читателей; письмо писано было по-французски, разумеется):
«Словом, милый друг, прости эгоизму, с каким читала я твое известие о надежном выздоровлении твоего Поля Ты опять возвратишься в Петербург, опять, счастливая мать, ты увидишь милого сына своего на блестящем пути, какой открывают ему его род, дарования и образование. Но мы радуемся всего более за себя, милый друг: без тебя мы сиротеем, негде души отвести, и если бы не наш барон Б. Б. завел дни, я не знала бы, куда деваться с днями, прежде тебе посвящаемыми. Ты полюбишь его баронессу; в этом я уверена. Кстати, милый друг, неужели ты не знаешь, что в соседстве твоем опять живет нынешнее лето сестра баронессы, графиня N. N.? – Кажется, вы бывали некогда довольно знакомы, когда еще графиня не ездила в Италию. Баронесса сказывает, что малютка графини, эта Лауренсова[60]60
Лауренс (Лоренс) Томас (1769—1830) – популярный английский живописец.
[Закрыть] головка, Моина, сделалась прелестна и исполнена дарований, что вся Москва была восхищена ею в прошедшую зиму. Мне невольно пришел в голову твой Поль. Если бы слабость здоровья не позволила ему служить, Моина твоя соседка. Несмотря на расстроенное состояние матери…»
Княгиня задумалась и оборотила голову к окну. Аграфена Михайловна с величайшим вниманием смотрела в это время в окно.
– Что ты видишь там такого любопытного, Груня? – невнимательно спросила у нее княгиня.
– Ах! ваше сиятельство! извините… я засмотрелась..
– Что там такое? – княгиня встала и подошла к окну, из которого видна была часть сада. На прелестном садовом лужку молодой князь и Эмма играли в серсо[61]61
Серсо – игра с тонким обручем, который подбрасывают и ловят палочкой.
[Закрыть] и весело бегали по саду.
Княгиня молчала и внимательно смотрела. Игра кончилась. Эмма бросила свою рапиру; князь побежал к дерновой скамейке, где лежали зонтик Эммы и платок, он подал их и потом взял Эмму под руку. Он и Эмма пошли после того по садовой дорожке.
– Прекрасная парочка!.. – прошептала Аграфена Михайловна, как будто забывшись.
– Что ты говоришь? – быстро спросила княгиня, оборотясь к ней.
– Ах! ваше сиятельство! извините…
– Что говоришь ты? – взор княгини сделался мрачен.
– Ваше сиятельство! я осмелилась сказать: «прекрасная парочка».
– Кто же эта парочка?
Аграфена Михайловна обратила взоры молча на князя и Эмму. Белое платье Эммы еще мелькало вдали, между деревьями.
– Ты знаешь, Аграфена, что я терпеть не могу, если ты позволяешь себе болтать всякий вздор.
– Я полагала, что на это есть воля вашего сиятельства и не смела бы подумать ничего противного воле вашей.
– Ты дерзкая болтунья.
– Не я, ваше сиятельство: это общий слух. В доме графини N. N. недавно говорили об этом. – Княгиня молчала. – Дедушка Эммы совсем этого не скрывает от своих знакомых.
– Кто сказывал тебе, что в доме графини говорили об этом?
– Лука Лукич, возвратясь от графини домой, говорил это своей супруге, а она спрашивала у меня, встретившись со мною в церкви.
– И неужели старик-немец осмелился сказать что-нибудь подобное?
– Ваше сиятельство! я не знала, что это тайна.
– Поди вон и не смей показываться мне на глаза!
Аграфена Михайловна сделала печальную рожу и безмолвно пошла из комнаты, думая: «где гнев, тут и милость». Но ее насмешливая улыбка могла бы показать, что ядовитая стрела пущена была не без намерения, не пролетела мимо и попала по своему назначению.
«Об этом уж говорят и у графини N. N., и я сделалась басней слуг и соседей, и этот дерзкий немец осмелился думать и говорить…» – княгиня так сильно толкнула пьедестал с мраморным Амуром, что бедный бог любви полетел с него и отшиб себе оба крыла. Княгиня так задумалась, что совсем не заметила падения Амура…
«В самом деле – какое несчастное стечение обстоятельств! Кто не подумает?» – проговорила она вполголоса.
О! как много действует одно слово, один намек! Как правы были наши старики, говоря: «Слово не дубина, а убивает сильнее обуха!»
Только теперь все вдруг осветилось в глазах княгини и устроилось в какой-то особенный порядок идей, из которых мы перескажем только немногие:
«Она – моя невестка – жена моего Поля – дерзкая девчонка! Неужели ты думала? – И этим все должно кончиться для меня! – Какая глупость с моей стороны, какое безрассудство!»
Неужели совесть не сказала в это время княгине: «А отчаянное положение твоего сына? А то мгновение, когда ты плакала при одре его и говорила врачу: „Спасите его, спасите, чего бы то ни стоило!“»?
Нет! Совесть ничего подобного ей не сказала.
Неясно, неопределенно думала теперь княгиня: «Дерзость этих немцев – лекарка эта – моя дочь!..» Да, сын княгини был уже здоров, и чего же еще более? Какая была надобность, если это непостижимое таинство природы, совершившееся над сыном княгини, должно было кончиться, может быть, нежным чувством любви, если земному надобно было перейти в небесное! Какая надобность, что на светлой душе Эммы взор княгини до сих пор не открыл еще ни одного пятнышка! Какая надобность, если судьба уже благословила два сердца на всю вечность быть одним сердцем и, разрывая их, надобно было растерзать их, облить кровью и, может быть, окровавленными руками положить во гроб – и юношу, спасенного Эммою, и девушку эту, спасительницу юноши… Зачем же не догадалась глупая судьба пустить его в мир каким-нибудь немцем-учителем, под пару немке, дочери небогатого чиновника? А теперь – он князь, а она мещанка, и судьбе вздумалось шалить так неосторожно сиятельными родословными?..
Но, что бы ни думала княгиня, она спокойно, не изменяя ничего прежнего, встретила Эмму и сына своего, когда они воротились с прогулки.
И как несправедлива была княгиня к бедной Эмме! Прочтем письмо, посланное Эммою к Фанни через несколько дней после того.









































