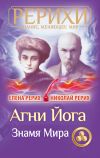Текст книги "Агни Йога. О вечном (сборник)"

Автор книги: Николай Рерих
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Врубель
Ярко горит личность Врубеля. Около нее много солнечного света. Много того, что нужно. Хочется записать о Врубеле.
Повидаться с ним не приходится. Стоит мне приехать в Москву, оказывается, он уже в Петербурге. Если прихожу на выставку, где он должен быть непременно, мне говорят: «Только сейчас ушел». И так несколько лет. Пока не знаю его, надо о нем записать. После знакомства впечатление всегда меняется. Сама внешность, лицо и то уже все изменяет; а слово, а мысль? И сколько раз горестно вспоминалось: к чему знать автора? Какой осадок на песне произведений часто остается от слова самого художника.
С Врубелем перемена к худшему не будет при знакомстве. Могут прибавиться личные черточки, собственные мысли Врубеля о своих задачах. Говорят, он человек редкой чуткости и обаяния. Все, что около него, тоже чуткое и хорошее. Хорошо, что так говорят; достойно, что так и есть. Это так редко теперь. Часто около новых творений стоят люди старые ликами и внутри некрасивые.
Около Врубеля ничто не должно быть некрасивым.
Светит свет и в нем, и на всем, что движется близко. Страшен нам священнейший культ мудрецов великой середины. Каким невыносимым должен быть среди него Врубель, середины не знавший. В холодном хоре убивающих искусство как страшно звучит голос Врубеля и как мало голосов за ним. Высокая радость есть у Врубеля: радость, близкая лишь сильнейшим; середина никогда не примирится с его вещами. Приятно видеть, как негодует мудрец середины перед вещами Врубеля. Не глядя почти на картину, спешит он найти хулу на искусство. Но крик его, правда, без разума; и в самом среднем сердце не может не быть искры, вспыхивающей перед красотою. Какую же хулу, грубую и бессмысленную, нужно произнести, чтобы скорей затушить светящую искру. Середина долго дрожит, долго колеблется после картин Врубеля. Не скоро мудрец середины остановится без хорошего и злого, без ангела и без дьявола, – ненужный, как ненужно и все строение его.
Какой напор нашей волны безразличия должен выносить Врубель? Ведь сейчас мы даже будто перестали уже негодовать на всякий непосредственный подход к подлинной красоте; ожесточение будет сменяться самодовольной усмешкой и неумными воображениями победы. Что делать и зачем делать таким, как Врубель, среди толпы, среди всей тяготы, запрудившей наше искусство?..
У нас так мало художников со свободной душой, полной своих песен. Надо же дать Врубелю сделать что-либо цельное: такую храмину, где бы он был единым создателем. Увидим, как чудесно это будет. Больно видеть все прекрасное, сделанное Врубелем в Киеве, больно подумать, что Сведомский и Котарбинский и те имели шире место для размаха. Неужели, чтобы получить доступ сказать широкое слово, художнику прежде всего нужна старость?
Мы стараемся возможно грубее обойтись со всеми, кто мог бы двинуться вперед. И на одну поднятую голову опускаются тысячи тяжелых рук, ранее как будто дружелюбных.
Только Третьяков первое время поддержал Сурикова. Мало поняли Левитана. Мы загнали Малявина в тишину деревни. Мы стараемся по мере сил опорочить все лучшее, сделанное Головиным и Коровиным. Мы не можем понять Трубецкого. Выгнали Рущица и Пурвита на иностранные выставки. Ужасно и бесконечно! … Врубелю мы не даем размахнуться. Музей академии не знает его. Появление его маленького отличного «Демона» в Третьяковской галерее волнует и сердит нас. Полная история русского искусства должна отразиться в Русском музее, но Врубеля музей все-таки видеть не хочет. Только заботами кн. Тенишевой, украсившей свой отдел музея «Царевной-Лебедью», музей не остался вовсе чужд Врубеля. Странно. Мы во многом трусливы, но в искусстве особенно храбры маститые трусы; даже будущего не страшатся. Поражает наша неслыханная дерзость, не знающая даже суда истории…
Легко запоминаются многие хорошие картины. Многое отзывается определенно сознательно. Наглядевшись вдоволь, через время опять хочется вернуться к хорошему знакомому и долго покойно сидеть с ним, и не страшит промежуток разлуки.
Но иначе бывает перед вещами Врубеля. Уходя от них, всегда хочется вернуться. Чувствуется всем существом, сколько еще недосмотрено, сколько нового еще можно найти. Хочется жить с ними. Хочется видеть их и утром, и вечером, и в разных освещениях. И все будет новое. Сами прелести случайностей жизни бездонно напитали вещи Врубеля, прелести случайные, великие лишь смыслом красоты. Какая-то необъятная сказка есть в них; и в «Царевне-Лебеди», и в «Восточной сказке», полной искр, ковров и огня, и в «Пане» с этими поразительными глазами, и в «демонах», и во всей массе удивительно неожиданных мотивов. Таинственный голубой цветок живет в этом чистом торжестве искусства. И достойно можем завидовать Врубелю. В такой зависти тоже не будет ничего нечестного. Так думаю.
Врубель выставил «Жемчужину». Останется она у Щербатова; ему нужны такие вещи в основу галереи.
Этим временем мы бывали на выставках; слушали лекции; не упустили спектакли, набирались всяких мнений. Мы были в «курсе» дела, в ходе жизни и жемчужины не сделали.
Врубель мало выезжал теперь; мало видел кого; отвернулся от обихода и увидал красоту жизни; возлюбил ее и дал «Жемчужину», ценнейшую. Незначительный другим обломок природы рассказывает ему чудесную сказку красок и линий за пределами «что» и «как».
Не пропустим, как делал Врубель «Жемчужину». Ведь это именно так, как нужно: так, как мало кто теперь делает. Среди быстрых примеров нашего безверия и веры, среди кратчайших симпатий и отречений, среди поражающего колебания, среди позорного снобизма, на спокойной улице за скромным столом, недели и месяцы облюбовывает Врубель жемчужную ракушку. В этой работе ищет он природу. Природу, далекую от жизни людей, где и сами людские фигуры тоже делаются волшебными и неблизкими нам. Нет теплоты близости в дальнем сиянии, но много заманчивости, много новых путей – того, что тоже нам нужно. Этой заманчивости полна и «Жемчужина». Более чем когда-либо в ней подошел Врубель к природе в тончайшей передаче ее и все-таки не удалился от своего обычного волшебства. Третий раз повторяю это слово, в нем какая-то характерность для Врубеля: в нем есть разгадка того странного, чем вещи Врубеля со временем нравятся все сильнее. В эпическом покое уютной работы, в восхищении перед натурой слышно слово Врубеля: «Довольно манерного, довольно поверхностной краски. Пора же глубже зарыться в интимнейшую песню тонов». Пора же делать все, что хочется, вне оков наших свободных учений.
«Если хотя одну часть вещи сделать с натуры, это должно освежить всю работу, поднять ее уровень, приблизить к гармонии природы». В таком слове звучит коренное умение пользоваться природой. Врубель красиво говорит о природе; полутон березовой рощи с рефлексами белых стволов; тень кружев и шелка женских уборов; фейерверк бабочек; мерцанье аквариума, характер паутины кружев, про все это нужно послушать Врубеля художникам. Он бы мог подвинуть нашу молодежь, ибо часто мы перестаем выхватывать красивое, отрезать его от ненужного. Врубель мог бы поучить, как надо искать вещь; как можно портить работу свою, чтобы затем поднять ее на высоту, еще большую. В работах Врубеля, в подъемах и падениях есть нерв высокого порядка, далекий от самодовольного мастерства или от беспутных хватаний за что попало. Не поражающее, а завлекающее есть в работах Врубеля – верный признак их жизнеспособности на долгое время. Подобно очень немногим, шедшим только своей дорогой, в вещах Врубеля есть особый путь, подсказанный только природой. Эта большая дорога полна спусков и всходов. Врубель идет ею. Нам нужны такие художники. Будем беречь Врубеля.
Виктор Михайлович Васнецов
Редко с кем из художников поступала русская публика с такою непоследовательностью, как с Виктором Васнецовым. Еще не так далеко время, когда в больших газетах можно было читать про картины Васнецова, что «не знаешь, писанье ли это малярного мастера или профессора живописи», и большая часть публики сочувственно относилась к голосам такого сорта, а художник даже за несколько сот рублей не мог продать большую свою картину; теперь же декорации совершенно изменились и В. Васнецов сделался непогрешимым гением, не соглашаться с которым представляется даже чем-то несовременным. Таково последнее заключение публики, пожелавшей загладить свою недавнюю близорукость: но и в этом отзыве, конечно, забыта правда. Забыто то, что художественная деятельность Васнецова настолько разнообразна, что, справедливо восторгаясь одними сторонами ее, непременно не согласишься с ее некоторыми подробностями, если только относиться к делу искренно.
Дело в том, что к восхищению работами Васнецова у многих, к сожалению, примешивается восхищение не только чисто художественными сторонами его произведений, а также и наслаждение литературное, несовместимое с истинным искусством живописным. Мы слишком часто всматриваемся в подробности богатырей и святителей в отношении чисто повествовательном и незаметно начинаем наслаждаться уже не красивою картиною, не цельным живописным образом, а поэтичными былинами, эту картину породившими.
Правда, публика в этом отношении не очень виновата; наученная гражданскими повествовательными мотивами передвижников, она отвыкла обращать внимание на сторону чисто художественную; но все же пора чувствовать, что разговор об истории и археологии допустим лишь при картинах Верещагина или Альма Тадемы, где сторона обстановки подавляет всю живописную сущность. У Васнецова же слишком много чисто художественных заслуг, чтобы, говоря о нем, заниматься подобными обстановочными подробностями.
У В. Васнецова совсем иная заслуга. Ценно в нем то, что во время замиравшего ложноклассицизма и расцвета гражданской живописи передвижников, Васнецов совершенно самостоятельно почувствовал потребность обернуться к чисто русской красоте. Инстинкт подсказал ему необходимость исканий «Руси», не академической, не передвижнической, а настоящей, затерявшейся в далекой старине, сохранившейся лишь в немногих забытых уголках и в нашей незатейливой природе, именно той Руси, которую так счастливо разрабатывают В. И. Суриков, М. В. Нестеров, Малютин, Головин, Поленов и др. Путь к народным формам красоты, стремление к первоисточникам поэзии, к тому же в самое неблагоприятное для такого порыва время – вот заслуга В. Васнецова; при ней незначащими кажутся подробности его творчества, которые уже не могут удовлетворить молодое русское поколение.
Зная Васнецова по его последним религиозным историческим вещам, трудно предположить, чтобы та же самая рука написала реалистических паяцев перед цирком, что в Русском музее Императора Александра III, или современные жанрики (в Третьяковской галерее), или иллюстрации на злобу дня вроде «Чтения телеграмм с войны», разбросанные в «Пчеле» и других иллюстрированных изданиях. Но когда мы просматриваем эти вещи первого периода творчества Васнецова (семидесятых годов) и узнаем, что пресса и часть ценителей его за эти начинания достаточно нахваливала, тогда еще дороже покажется нам поворот художника к «Битве со скифами», «Ковру-самолету», «Трем царевнам», «Побоищу», «Аленушке», «Ивану Царевичу» и др. картинам последующего сказочного периода, претерпевшим почти повсеместное гонение.
В этом же периоде, благодаря гр. Уварову, В. Васнецову удалось выступить еще в новом направлении, а именно: украсить одну залу Московского Исторического музея фресками сцен каменного века. В них, правда, Васнецову не удалось еще вполне овладеть духом и характером древней эпохи, но все же по настроению и по краскам эта стенопись является ценным вкладом в русскую живопись и лучшим произведением Музея.
Второй период деятельности Васнецова является несравненно ранее подготовленным, нежели третий период, период религиозной живописи. К сказкам и к истории Васнецов подготовился уже давно, еще среди своих первых реалистических работ, занимаясь литографическими рисунками к изданиям сказок (Жар-Птица, Козел Мемека и др.). Такие наброски, с одной стороны, помогли ему овладеть сказочными изображениями, но, с другой стороны, нанесли и значительный вред, внеся в творчество Васнецова почерк иллюстратора, от которого впоследствии ему приходилось с трудом избавляться. Всматриваясь в Аленушку, а также в Иоанна Грозного и в Снегурочку, можно с уверенностью сказать, что, взгляни на сказочную живопись Васнецов более непосредственным взглядом, и, наверное, волк под Иваном Царевичем не был бы из мехового магазина, в Побоище не легли бы тела в театральном порядке и не засветила бы луна бутафорским способом. Такие недочеты без иллюстрационной заказной заразы не могли бы явиться у человека, так просто понявшего концепцию поэтичной Аленушки, с родными приречными камешками и узорчатыми елочками, красоту которых никто до Васнецова не сумел постичь.
Меньше, чем в сказочных картинах, могло повредить Васнецову иллюстраторство в его работах религиозных, начатых росписью Владимирского собора в Киеве. По своему характеру, по семейным традициям и по воспитанию, сын священника, воспитанный в семинарии, вдумчивый Васнецов сумел внести много ценного в нашу религиозную живопись. Канонически верные, близкие старинным образцам церковные изображения Васнецова стоят притом на такой высокой ступени художественности, что по справедливости должны были завоевать расположение и восторг огромного большинства; тому же способствовало и общее настроение прошлого десятилетия, отвернувшегося от натуралистических изображений. Недовольными остались лишь небольшие кучки: одни, не удовлетворяясь глубиною проникновения художника духом русско-византийской живописи, находили его сочинения поверхностными и утрированными; другие – под влиянием живописи предыдущего времени, в соборах Христа Спасителя, Исакиевском и т. п., не видели в образах Васнецова молитвенного настроения. Но эти недовольные остались в совершенном меньшинстве, и все русское общество признало В. Васнецова главою нашей теперешней религиозной живописи. В самое короткое время художнику пришлось исполнить массу религиозных заказов для дармштадстской церкви, для храма Воскресения в Петербурге, для церкви во Владимире и др.
Наряду с живописью религиозною совершенствовался Васнецов и в создании драгоценнейших образцов орнаментики, почерпнутой из богатой мотивами старины русско-византийской. Среди живописных работ он не погнушался, тоже первый из русских художников, внимательно отнестись и к делу художественной промышленности, сознавая всю важность вмешательства художников в создание даже мелочей жизненного обихода; таким образом, и в этом отношении В. Васнецов шел впереди современных русских художников, до сих пор еще не вполне почувствовавших значение истинной художественной промышленности, в области которой так счастливо работают многие лучшие художники Европы.
Мотивы декораций, обстановки, орнаментов, виньеток, наконец, проекты внешней росписи Кремлевского дворца и Третьяковской галереи в Москве доказывают, как чутко, разносторонне относится Васнецов ко всяким нуждам жизни искусства. Его личное обособленное положение среди художников, его домашняя обстановка на старинный лад, с бревенчатыми стенами и расписными печами, свидетельствуют, как глубоко и неразрывно со всем его существом живет стремление к старой Руси.
Сказочная, богатырская Русь пройдет красной нитью по всей деятельности Васнецова, ее не могут заглушить ни живопись религиозная, ни проекты росписей дворца и орнаменты. Так, во время работ в Киевском соборе не переставала создаваться последняя картина Васнецова «Богатыри», бывшая одним из самых последних приобретений П. М. Третьякова для его галереи.
Публике особенно понравилась эта картина. В ней видели как бы синтез проникновения в богатырскую старину, тогда как в самом деле многие из менее замеченных произведений Васнецова более отвечали на такое требование. В «Богатырях» же медленность их создания поглотила вдохновенные образы и заменила их рассудочным рассказом и собиранием типичных богатырских атрибутов. Хотя вместе с этим нельзя пройти мимо крупных достоинств картины, мимо красоты дальнего пейзажа, мимо гармонии некоторых красочных сочетаний, мимо серого неба с величавыми кучевыми облаками, мимо хвойного бора и любимых художником елочек. Пожалуй, может показаться странным, что при гигантских образах богатырей можно говорить об убогой елочке, помнить о скромной Аленушке и об изображениях к Снегурочке… Но велика по своему значению для русской живописи проникновенность Васнецова в серую красоту русской природы, важно для нас создание Аленушки, и дорого мне было однажды слышать от самого Виктора Михайловича, что для него Аленушка – одна из самых задушевных вещей.
Именно такими задушевными вещами проторил В. Васнецов русский путь, которым теперь идут многие художники.
Юон и Петров-Водкин
В далеких Гималаях получены две прекрасные книги о замечательных русских художниках Юоне и Петрове-Водкине. Обе книги изданы в Москве в 1936 году.
Видимо, художественные редакторы Г. А. Кузьмин и М. П. Сокольников потрудились, чтобы оправить творчество мастеров достойно. Удачно собраны картины и хороши цветные воспроизведения. Тексты Я. В. Апушкина о Юоне и А. С. Галушкиной о Петрове-Водкине вдумчивы и дают богатый материал.
Апушкин начинает книгу о Юоне словами:
«В Москве, в Третьяковской галерее, есть портрет Юона работы Сергея Малютина, помеченный 1914 годом. Это крепко и сочно, в присущей Малютину манере сделанное полотно ценно для нас не только как самодовлеющее произведение искусства и не только как внешне точная передача изображаемого лица. Нет, ценность этого портрета значительнее и глубже, ибо он является попыткой проникновения во внутренний мир изображаемого, является опытом психологического раскрытия и объяснения человеческой личности.
Несмотря на то, что с момента написания портрета прошло более 20 лет, несмотря на то, что 17 из этих 21 опалены бурным дыханием революции, несмотря на то, что Юону сейчас уже не 39, а почти 60 лет, портрет этот сохраняет весь свой смысл и всю силу удивительно верной характеристики, данной художником художнику.
Вот вглядитесь. На тахте, в несколько небрежной и в то же время удивительно покойной, я бы сказал, эпической, позе сидит человек. На нем черный, строгий, хорошо сшитый сюртук; плечом он прислонился к стене; одной рукой, несколько вывернутой, он опирается на колено, другой – на край тахты. У человека круглая, коротко, почти по-татарски, остриженная голова. Черным, тщательно подбритым клином на белизне крахмального воротничка выделяется борода. Под такой же черной, так же тщательно подбритой полоской усов спокойный, с несколько утолщенными губами рот. И глаза, внимательные, пристальные глаза человека, привыкшего видеть, глаза живописца. Это Юон.
Он спокоен, корректен, точен; он внимательно и углубленно задумчив; ни капли богемности, ни на йоту романтической “вдохновенности”, никакой внешней растрепанности и никакой растрепанности чувств и мыслей. Он весь как бы собран воедино и ясен. И если нужно какое-нибудь слово, которое наиболее точно выражало бы его человеческую сущность, это слово будет “мастер”».
…«В современной действительности художник прежде всего хочет видеть ее положительные стороны, а в человеке – сильного строителя новой жизни. В этом подъемном восприятии окружающего и положительном отношении к советской действительности и заключается основная ценность его искусства. Такие работы, как “После боя”, “Матери”, “Смерть комиссара”, являются большим вкладом в советское искусство. Лишенные случайности и бытовой мелочности, они исполнены простоты, ясности и проникнуты героическим пафосом. Новые задачи, поставленные Петровым-Водкиным в последних работах, расширяют его искусство за рамки станковизма. Художник проявляет определенное стремление к монументальности и идет к завоеванию новых форм».
Характеристики глубоки; еще надо добавить, что оба мастера остаются художниками русскими. Разные они, совсем не похожи друг на друга, но русскость живет в них обоих. Убедительность их творчества упрочена исконною русскостью. И в этом их преуспешность.
И Юон, и Петров-Водкин прикасались к иноземному художеству. Юон всемирно мыслит в «Творении мира». Петров-Водкин сам говорит, что наиболее сильное впечатление произвел на него Леонардо да Винчи; вторым мастером, поразившим его в Италии, был Джованни Беллини: «Встреча в галерее Брера с Джованни Беллини застряла во мне навсегда». Петров-Водкин проходит и Париж, и мюнхенский Сецессион. Он любит и Пюви де Шаванна, и Гогена, и Матисса, внимательно вглядывается в разных мастеров, но в сердце остается художником русским. В этом особенно трогательная заслуга и Юона, и Петрова-Водкина.
С обоими мастерами приходилось много встречаться, но никогда не сталкиваться. Помню беседы с Юоном. Константин Федорович всегда вносил спокойную убедительность. Он не раздажался в исканиях, но творил так, как по природе своей должен был выражаться. Юон всегда крепок, силен, нов. Нельзя его ограничить русской провинцией или русской природой, в нем есть русская жизнь во всей полноте. Юоновские кремли, Сергиева лавра, монастыри и цветная добрая толпа есть жизнь русская. Сами космические размахи его композиций тоже являются отображением взлетов мысли русской. Краски, построение картин, свежая техника всегда порадуют. У Юона много учеников. В его руководстве закалится молодое сердце.
Так же хорошо, что Петров-Водкин дал многих учеников. Редко можно найти такое счастливое сочетание, чтобы мастер, впитавший лучшие достижения Запада, остался исконно русским и нашел бы убедительный язык в своем руководстве. А Кузьма Сергеевич умеет быть огненным.
Петров-Водкин говорит в «Пространстве Эвклида»:
«Количества любого цвета, распределенные по холсту, оказались не случайными. Основные направления живописных масс давали картине динамику либо равновесие, в зависимости от темы. Я понял, что это они и производят во мне или бурю зрительного воздействия, или радость и покой равновесия».
А книга о Юоне заканчивается так:
«Он учит принципиальности и высокой требовательности к себе; учит умению учиться, не впадая в подражательность, учит не страшиться влияний, критически их осваивать, обращать их на потребу своим художественным задачам и целям. Он учит широте кругозора, разнообразию мастерства, чуткости к великим явлениям действительности и мужеству в трудном деле переоценки былых ценностей.
И еще он учит идейно-образной насыщенности реалистического искусства, четкости композиции, строгости рисунка, яркости цвета, равновесию содержания и формы – овладению всем тем, что сам Юон называет основными элементами восприятия бытия как единого непрерывающегося процесса, он учит смотреть в прошлое, чтобы понять настоящее и в настоящем прозреть будущее».
Хорошо сказано. Красиво и сильно сказано, без умаления, без сентиментальности, но ярко, по существу. Выписываю эту цитату не только по тому, что она хорошо характеризует мастера, но и потому, что она является выражением мысли русской – той молодой русской мысли, о которой можно порадоваться. Также можно порадоваться, видя, что творчество сильных мастеров не только почитается народом, но и запечатлевается на страницах, которые останутся в истории культуры русской. Широко расходятся эти книги по многим странам. Русский язык недаром сделался вторым языком мира. Русский текст книг не мешает их появлению в самых далеких краях мира. Притом в книгах нет шовинизма, а это обстоятельство уже доказывает правильный рост мысли.
В тексте упоминаются имена писателей и художественных критиков: Бабенчикова, Голлербаха, Кузьмина, Дмитриева и других, умевших дать верные оценки. Еще недавно газетные листы обошло сведение о том, что репинскую выставку посетили многие сотни тысяч почитателей его творчества. Такие факты сами по себе говорят о многом. Совсем недавно мы читали о новой, потрясающей постановке «Анны Карениной» в Художественном театре. Все это удары резца на скрижалях.
Вспоминаю, какое движение воды в художественных кругах в свое время произвел «Красный конь» Петрова-Водкина. Сколько было споров, негодований! Даже испытанные любители не знали, какую мерку приложить к этой яркой картине. А вот сейчас она встала на заслуженное место среди прочих творений мастера. Удивительно наблюдать, как Петров-Водкин претворил свои давние итальянские впечатления в нескрываемую русскую оправу. Посмотрите его «Мать». Никто не будет сомневаться в том, что эта картина русская. А в то же время вы чувствуете, какими этапами подошел к такой русскости мастер. Можно вполне понять, что для прошлых поколений трудно было найти меры творчества Петрова-Водкина. Вот-вот, как будто уже умудрялись заключить его в один из трафаретов, но тут же выявлялось нечто такое, чему должны были быть найдены новые слова. А между тем слова эти должны были быть простыми. Искание монументальных форм, влюбленность в рисунок и в сильный колорит настолько очевидны, что укладываются именно в простые утвердительные формулы. Художник заканчивает свое шестое десятилетие. Будем надеяться, что ему будет дана возможность приложить свое творчество именно в монументальных формах. Пусть, покуда силы его в полном расцвете, он оставит народу русскому все самое сильное, к чему стремился его творческий дух.
В характеристике Юона правильно указан его оптимизм. Такой мастер, как Юон, по природе своей, конечно, всегда будет оптимистом. Никакие сложности не смогут поколебать путь Юона. Наоборот, из всего комплекса жизни он опять найдет тот синтез оптимизма, который сделает его картины и реальными, и вдумчивыми, и улыбающимися в красках цветочного луга. Уже в седьмом десятке Юон, но каждый скажет о нем как о художнике молодом. В этом будет заключаться его необычайное качество. Он не сможет быть старым, ибо истинный оптимизм не дряхлеет.
Оба мастера почти от начала своей деятельности имели учеников. Это учительство, как у давних итальянских художников, являлось совершенно естественным выражением их художественного творчества. Ради учеников они вовсе не покидали своих ярких творческих выражений. Наоборот, общение с молодежью давало новые неисчерпаемые соки постоянному труду. И Юон, и Петров-Водкин сделали очень многое. На трудных перепутьях они укрепили и поддержали русское сознание. Они вели многих молодых по пути истинного неустанного изучения. Своим трудом они показывают, что действительно учение никогда не может кончиться, что не может быть такой школы, выйдя из дверей которой художник объявит себя законченным. Леонардо да Винчи говорил: «Истинный художник всегда будет сомневающимся». Может быть, вместо слова «сомневающийся» лучше сказать «ищущий», как единственное средство молодости и преуспеяния. И Петров-Водкин, и Юон всегда останутся художниками ищущими, иначе говоря, преуспевающими. В оптимизме, постоянном труде, в обновлении творчества оба мастера дают пример роста русской мысли и красоты.