Текст книги "Юность в Железнодольске"
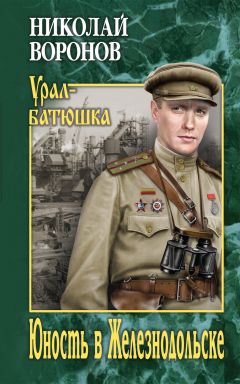
Автор книги: Николай Воронов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава тринадцатая
Я любил ходить в клуб железнодорожников на сыгровки оркестра. Меня привлекало все: и то, как раскладываются на пюпитры нотные листы, и как духовики выливают из труб водичку – больше всего ее выливалось из геликона, – и как прилаживают к ним медные мундштуки, а сильней всего, конечно, то, как мало-помалу, прыгучие, словно струйки родника, звуки флейты сливаются со вздохами басов, с тетеревиным токованием валторны, с курлыкающим говором саксофона, с ударами литавр, похожими на перезвон буферных тарелок пришедшего в движение поезда…
Как-то после сыгровки ко мне подошла Кланька и, пряча в брючный карман мундштук геликона (мундштуки духоперы всегда носили при себе), сказала, что мой интерес к музыке заслуживает похвалы, но все-таки нелишне было бы и книжки читать.
Я ущемился: книжки я читал, а она сказала так, будто совсем к ним не притрагиваюсь. Обиделся я и потому, что она напомнила о скудости школьной библиотеки: там уж и выбирать-то не из чего.
Кланька махнула рукой, в которой держала «Пушку», испускавшую перистый дымок: дескать, топай за мной. Она пошла из комнаты оркестрантов, я не сдвинулся с места.
Бабушкино отношение ко мне носило уличающий характер. Если не пью молоко, она ярится: «Вишневого морсу, поди-ка, захотелось. Не получишь… Вот она, фигушка!.. Шея-то навроде бычьего хвостика. Эх ты, худоба». Выпил в охотку стакан молока – размитингуется: «А жалился: на дух оно ему не нужно. Сам-то чуть ли не целый битон выглотал. Ишь, хомяк, какие щеки напил-наел». И так за все уличает: за лень и старательность, за грязь под ногтями и за аккуратность, за то, что ломаюсь на турнике, и за то, что прекратил заниматься на нем…
Не будь в Кланькином обращении обличающей нотки, я вприпрыжку побежал бы из оркестрантской комнаты. Вопреки тому, что никто не одобрял ее склона рядиться под мужчину, мне именно это и нравилось: держит себя независимо перед общим мнением.
Но теперь я присоединился к ее судьям. Нет, наверно, не присоединился, просто увидел Кланьку их глазами, потому и испытал неприязнь к ее молодцеватой выправке, к затылку, выбритому до середины, к сизой бумажной кепке с длинным, устремленным вверх козырьком.
– Чего остолбенел? – становясь за порогом, спросила она. Я молчал, потупив хмурый взор. Тогда она ухмыльнулась и ударила каблуком свиного полуботинка по крашеной половице, будто сбивала смоляной ошметок. – Девчонка, сюсюкать с тобой надо. Двигай следом. Здесь прекрасная библиотека. Даже «Квентин Дорвард» есть.
– Знаю, – соврал я. – Без няньки обойдусь.
– Тут нянек нету и в помине, – возмутилась она. – Дядька есть. – Она как бы мазнула пальцем по темным полосам на губе, отходящим уголком от носа: усики пригладила, да и только. Кланька работала паровозным кочегаром; по участковым уверениям, полосы на ее губе были следом угля и мазута. – Собственной персоной – Клавдий из Железнодольска. Дуй за мной, пострел – везде поспел. Помогу записаться в библиотеку.
– Без опекуна обойдусь.
– Сейчас правильно – в мужском роде. Навряд ли, правда, тебя запишут без помощи дяди Клавдия. Мама-то твоя, Мария Ивановна, к сожалению, не транспортница.
Ее предсказание сбылось. В библиотеку меня не записали. Надув губы, я прошел мимо дубовых шкафов. Стекла в дверцах шкафов были зеленые, шишчатые, закрытые на ключ, и я подумал, что за ними, должно быть, хранятся сказочные книги.
Было похоже, что на середине барак немного переламывается. Это мы замечали с земли, наблюдая за голубями, гуляющими по крыше. Внутри барака это обнаруживали ноги. При всех неровностях коридорного пола идешь беспрепятственно. И вдруг спотыкаешься: значит, горб коридорного пола – его середина. На северо-западной стороне она приходилась на ось печного барабана, окованного железом. Часть барабанного овала выкруглялась из угла нашей комнаты, а часть – из угла комнаты, смежной с нашей, где жили Зорины, Иван Николаевич и Марфутка. Ивану Николаевичу, как и моей матери, было лет двадцать пять, Марфутке – наверно, чуть поменьше. Он работал в паровозном депо. Когда спрашивали, кем он там, Зорин не без щегольства выкрикивал, словно находился в красноармейском строю: «Медник-лудильщик!» Для смеха он прибавлял: «Чистильщик-механик, жулик-карманник». Одна нога у Зорина была напрочь согнута в колене, он припадал на нее, мы называли его «дядя Ваня Кочережка». Он был женат на маленькой, почти лилипутистой толстушке, злой, быстроязыкой и хлопотливой, с прозвищем Кнопочка.
В подпитии он любил посидеть у нас в комнате на полу. И не как-нибудь, а прислонясь спиной к печке-голландке и покуривая козью ножку, свернутую из газеты.
Пол застилался самодельными половиками, вязанными крючком. Для вязанья годились обрезки всяческих материалов: майя, бязь, старые чулки, фланель, сатин, ситец…
Иван Зорин скрещивал и поджимал к ягодицам ноги, обутые в сапоги черного хрома, отдающего синевой. Рядом с фиолетовым сукном брюк сизой эмалью лоснился атлас косоворотки, подпоясанный крученым пояском. Над его лицом огромным одуванчиком светился чуб. Чтобы взбить свои ковыльно-белые волосы до такой воздушности, он подолгу просиживал перед зеркалом, орудуя роговым гребешком.
Зорина тянуло в родные места. Хмельной, ни о чем другом он не мог говорить и обычно, прислоняясь к голландке, тотчас произносил торжественную фразу:
– Я – сын Волги.
В лето нашего приезда на Тринадцатый участок я забрел к Зориным на хвойный запах канифоли. Иван Николаевич паял примус. Трепещущую каплю олова он притирал носиком паяльника к медному горлышку, через которое в примус заливают керосин или бензин, где размешана соль, дабы не взорвался.
Он сказал тогда, то ли в награду за интерес к его ремеслу, то ли надеясь подружиться со мной:
– Поедем, Сережка, в Ярославль. Знаешь, какие у нас частушки поют? «По улице идетё, играетё, поетё».
Он быстро раскусил, что я неутолимо пристрастен к базару, поэтому водил меня туда, чтобы удовлетворить мою любознательность и уменьшить безнадзорность. И для детей и для взрослых базар, кроме того что здесь покупали-продавали, был еще и зрелищем: чем-то вроде парка для гуляний, цирка, зоосада, вместе взятых.
Однажды в июле, когда воздух над горами базара раскалился, как возле турбогенератора, который обслуживает Авдей Брусникин, Зорин спросил, хотелось ли бы мне попить холодного молока. Дескать, оно не из ледника, однако, может, и попрохладней. Взгляд плутоватый. В голосе веселая загадочность.
– Только у одной-разъединой торговки его можно купить.
Засмеялся, сбил фетровую дымчатую шляпу на лоб и заковылял, опираясь на трость из трубчатой латуни.
– Вы нам молочка с самого Северного полюса.
Баба в ситцевом платочке, мушкатом от крапинок, с готовностью кивнула одновременно головой и туловищем. Она добыла под прилавком крынку, прикрытую лопухом. Зорин снял лопух. Внезапно в его зрачках возникла нарочитая строгость, он цыкнул на кого-то:
– Мы-арш на дно!
И поднес крынку к моим губам. Я с ходу сделал несколько глотков (молоко было упоительно прохладно) и оторвался от крынки, чтобы не захлебнуться. Тут из молока выставились чьи-то настырные глаза. Я отпрянул.
– Ай, невыдержанные они у вас, – сказал Зорин; в тоне – шутливый укор.
– Наподобье человека.
– Попьешь еще, Сережа?
– Не. Страшно.
– Лягушку забоялся? По-видимости, брезгаешь?
– Не, боюсь. Больно шибко она глаза выставляет.
– Не глаза – бинокль целый.
– Ага.
Он дунул в крынку и стал пить.
Благодаря Зорину, – правда, об этом ему неизвестно: он разошелся с Марфутой и уехал в Ярославль, – и произошла история, горькая и трогательная для всех ее участников, по-особому остро пережитая моей матерью и Марией Дедковой, урожденной Бокаревой.
Мать надоумила меня обратиться к Зорину: ведь он работает в паровозном депо. По паспорту Ивана Николаевича, под его фамилией, я и записался в библиотеку. Наобум взял книжку, распухшую от частого чтения. Она не понравилась мне, и я попробовал сдать ее в тот же день. Библиотекарша, – я был предупрежден ею, что книги принимаются не раньше чем через день, – попросила меня пересказать книгу. Я заартачился: «С чего это я буду пересказывать? В школе осточертело». Тогда она выпроводила меня, наказав подклеить полуотставший корешок. Я негодовал, но книжку все-таки образил – и вместо того, чтобы идти в школу, отправился на другой день в библиотеку.
Клуб еще не отпирали. Я обогнул его и встал на каменистом пустыре, по которому, казалось, была разлита масляная охра: то оранжевато желтели пятна лишайников, малоприметные летом и ярчевшие осенью.
Женатик Пашка Кривой купил в Белорецке голубей. По донесению Сани Колыванова, он привез пару белых синехвостых и пару розовых, веслокрылых, которые трясут головками. Все голубятники ждали, когда Пашка начнет их обганивать. Мечтать о ловле таких диковинных голубей – одно это само по себе уже счастье!
Небо над землянками Второй Сосновой горы было пусто, лишь взмывали в него невидимыми ракетами-шутихами собачьи голоса. Никто собак не беспокоил, лаяли они понарошку, выслуживаясь перед хозяевами: дескать, мы сторожим верно и неусыпно, не пора ли наполнить наши долбленые корытца вчерашней похлебкой и не прибавить ли к похлебке сахарный мосол.
На макушке горы маячили человеческие фигурки. Я подивился: неужели мальчишки Восьмого участка? Ведь мы воюем с ними за гору вечерами?!
Пригляделся и уловил по контурам фигурок, семенящих внаклон и падающих, – красноармейцы учатся делать перебежки.
Перевал между этой горой и Первой Сосновой поражал непривычным для утреннего времени безлюдьем. Ход к перевалу со стороны нашего участка не перекрыт, значит, и оттуда проходи свободно.
Только я хотел посмотреть на Первую Сосновую гору, как над горизонтом седловины вырезался велосипедист. Я не допускал, что он будет оттуда съезжать: спрыгнет, полюбуется заводом, гладким листом прудовой равнины, кряжем Кырык-Тау, игрушечным вдали, словно покрытым полированным обсидианом.
Но велосипедист начал спускаться. Обалдел, что ли?! Или это тоже красноармеец и у него немедленное задание? Сверзнется, бедняга, костей не соберут. Даже машины-полуторки тут не рискуют съезжать, патрульные милиционеры сводят коней, держа под уздцы.
Здесь страшны не круча и не скорость: зимой по тропиночной наледи мы скатываемся. Хотя удержаться на коньках трудно, глаза затапливает слезами, а мы, однако, скатываемся, пусть и не все. Правда, зимой иное дело: снег все заравнивает, а теперь дно междугорья в углублениях и неровностях – изрыто сверху донизу полой и ливневой водой.
Велосипедист, как угадывалось по силуэтам ног, спускался, не пользуясь тормозом. По тому, что он нет-нет и покручивал педали и часто почти рывком склонял машину то вправо, то влево, совершая повороты, создавалось впечатление, что он явно лихач-самоубийца.
На половине спуска, когда у велосипеда появилось ныряющее движение, я определил по взлетам волос над головой человека, мчавшегося в низину, что это – девушка.
Я был изумлен еще сильней, когда она спрыгнула с велосипеда подле клуба: да это ведь библиотекарша!
– Боялся? – спросила она, взглянув на меня.
– Переживал. А я на коньках оттуда съезжаю. Как только вы удержались?!
– Я живу в Соцгороде. Семиэтажный дом знаешь?
– Стахановский?
– Стахановский.
– Кто ж его не знает! Выше нет в городе.
– Горком партии выше.
– Не, они одинаковые.
– Разве?! Каждое утро я еду на велосипеде из дома. Здесь я целую неделю спускалась на тормозах. Изучала путь. А сегодня рискнула…
– Больше не съезжайте. Убьетесь.
– Убиться можно и на ровном месте. Я велосипедистка. Тренируюсь. Скоро республиканские соревнования. Я собираюсь победить. Да, почему ты не в школе?
– У нас занятия во вторую смену.
– По-моему, все малыши в первую смену.
– Все, да не все.
– Обманываешь?
– Обманываю.
– Давай мигом в школу. После уроков заходи. Впрочем…
Она взглянула на часы – круглые, серебряные, с дымчатым стеклом.
– Садись. Я успею тебя довезти.
Я сел на раму. Держался за середину руля. Мы покатили между детсадом и бараком. И скоро выехали на тропинку, протоптанную по склону горы, откуда была хорошо видна наша каменная, беленная известью школа.
Едва я начал всходить по высокой парадной лестнице, библиотекарша помчалась обратно. Металлические зажимы, которыми были прихвачены у лодыжек ее сатиновые, на резинках, шаровары, мерцали на солнце.
Хотя в вестибюле меня поймал директор и велел завтра не приходить без матери, в тот день я был самым счастливым в классе. Никелевый запах велосипедного руля, исходивший от моих ладоней, то и дело напоминал о бесстрашной и доброй библиотекарше.
Вскоре я сделался завзятым читателем и приобрел такую благосклонность и такое доверие Марии Васильевны (было ей тогда лет двадцать), что мог часами пропадать в книгохранилище. Тогда меня интересовали книги о том, что было взаправду, и книги о революциях. Я выбирал себе тома не по разумению. И однажды, сидя среди стеллажей на раздвижной лестнице, целое воскресенье читал «Записки карбонария» Лоренцо Бенони.
В глубине книгохранилища стоял круглый стол. Столешница, посаженная на резьбу, была настолько огромна и массивна, что из нее могла бы получиться крышка для чана, в который красители, обосновывающиеся на лето в станице Железной, закладывают ткани и одежды. На стол сносились потрепанные книги, здесь мы с тетей Марусей, а иногда и Саней Колывановым переплетали их.
Время от времени вдвоем с нею мы обходили Тринадцатый участок, «выцарапывая» давно взятые книги. Сначала мы посылали «невозвращенцам» напоминание, а потом уж, если не достигали результатов, отправлялись по адресам. Когда мы выясняли, что у кого-то бесштанная мелюзга затаскала роман, а кто-то извел его на самокрутки («Толстовата, верно, бумага, вспыхивает и в горле дерет») или на завертку сельди, Мария Васильевна огорчалась с таким отчаянием, будто пропал или загублен ребенок. Были читаки не только откровенные, не умевшие сказать об исчезновении книги, не расстраивая библиотекаршиных чувств, но и кичившиеся своей откровенностью: «А чё с ними чикаться. На шкалик не хватало. Башка трещала с похмелюги – бы-ыр. Я етот самый роман и сплавил на базар».
Читака мог бы прибегнуть к более грубому измывательству, но его останавливало и то, что выражение ее глаз сделалось девчоночьи стыдливым, и то, что за этим впечатлением беспомощности, обозначающим чистоту души, кроется не сникающая ни перед чем непримиримость.
Однажды я зазвал ее к нам. Она села на сундук. Облокотясь о стопку книг, поверх которой лежал том «Королевы Марго», – том хотела зажилить Нюрка Брусникина, но мы отобрали его, – она оглядывала комнату.
Мария Васильевна понурилась, едва мы вошли: бабушка, вскочив из-за прялки, на которой ткала козий пух, начала кланяться и просить, чтобы гостья не обессудила нас за тесноту и за то, что застала врасплох – ни винца нет, ни сладостей. Раньше я не задумывался над тем, как мы живем. Нормально. Чего там?! А теперь, когда мои глаза сопровождали взор Марии Васильевны, я стеснялся розовых цветов, сделанных из стружки и прикрепленных к рамке, в которую забрана большая, на картоне, фотография, откуда таращимся мама и я, приткнувшиеся друг к дружке головами; мне было неловко, что труба печки-голландки в накрапах жира, что на стене, возле кровати Лукерьи Петровны, прибит масляный ковер с красавицей, полуоткинувшейся в кресле, с лебедями, плавающими среди кувшинок, с голубем, несущим в клюве скрепленное сургучом письмо.
Раньше при чужих людях я редко не испытывал неловкость за бабушку: лебезит; хитро-смирная, словно никогда воды не замутила; вероломна; груба; даже люта в своем оскорбительном оре, когда мама понравилась приличному человеку и он готов взять ее замуж вместе с накладным приданым (сын да характерная бабка), а Лукерье Петровне надо отвадить его…
При Марии Васильевне, лишь только она села на сундук, бабушка сделалась какой-то виноватой, задумчивой (сроду-то я не видел ее таковой) и сказала вдруг истаявшим до сипа голосом:
– Супротив другех ребятишек, доченька, он по-княжески живет. Гораздо лучших условиев наша кормилица, спаси и сохрани ее пресвятая богородица, не в силах ему создать. Учителя еще укоряют нас. Восет Антонина Васильевна забегала к нам, проработку за него делала. Вы, говорит, одеваете его во все бархатное, а он несусветный хулюган. Он не то что бархатного, другой раз мешковины не заслуживает.
– Я ничего бархатного на нем не видела. Костюмчик из вельвета да бумажный. Одна тюбетейка бархатная.
– Вот, вот, доченька. Отколь нам разбираться? Ни уха ни рыла не смыслим во всяких там промтоварах.
Странно… Сама же, рассказывая о поездках на ярмарку в город Троицк царского времени, так расписывает шелка, атласы, сукна, кашемиры, шерстяные ткани, что создается впечатление, будто собственными руками разворачивал штуки с этими материалами, поглаживал их, дивовался ими. Либо забывчивость напала на бабушку, либо намеренно притворничает: сейчас почти все, кого ни спроси, кто они в прошлом, бывшая голытьба.
– Лукерья Петровна, зимой у вас, по всей вероятности, холодно?
– Холодно, яблонька. Из подполья сквозняки садят, ветер в окно, под дверь поддувает. Днем, покуда топишь, благодать. Ночью холодно. Верно, у меня постель справная. Перина из чистого пуха, одеяло стежёное. Закроюсь с головой – и до утра.
– А Сережина кровать где?
– Некуда ставить.
Действительно, куда кровать втиснуть? У той стены – табуретка, на табуретке таз, над ним умывальник, затем – печка, тумбочка, на ней ведро с водой, потом – мамина кровать; с этой стороны – сундук, гардероб, бабушкина кровать. Некуда.
– Где же он спит?
– Я сплю на сундуке или на полу.
– У тебя тоже пуховик?
– На перине шибко жарко.
– Яблонька, у него стежёная подстилка. Мерзнет, дак подбросим фуфайку, старенькое пальтишко, овечью безрукавку…
– Тетя Маруся, мне совсем незачем койка и теплая постель. Для закалки они вредные. У нас в бараке вся братва закаляется. Еще лед на пруду, а мы уже купаться. Почти до снега купаемся.
– Ды халва ты ореховая, ды сладкое винцо кагор для причастия, ды семечко ты мое арбузное, да ты, должно, проголодалась?! Не почтишь ли нашу скромную пищу?
– Вы угадали, Лукерья Петровна, я хочу есть. Дадите горбушку ржаного хлеба и стакан воды, больше ничего не надо.
– Я сама, грешница, люблю ржанину. А уж воды-то нашей вкусней в свете не сыщешь. Одначе вода от тебя не уйдет. Ты попробуй-ка свекольник. В казачестве у нас он принят повседневно, особенно летом, на покосе, заместо квасу. Мелко режем свеклу, варим, даем остыть, после квасим и сахарку добавляем. Допрежь свекольника ты друго поешь… Подсаживайся к столу поближе.
Бабушка накрывала на стол, Мария Васильевна глянула на себя в зеркало, стоявшее на угольнике. Она вынула из волос коричневую гребенку, – золотой узор поверху, – завела за уши русые пряди и опять воткнула гребенку. Не любил я, если она стискивала волосы на затылке; свободные, они падали мерцающими шторами вдоль щек, и прояснялся румянец, и нежнело лицо, и, затеняясь, обозначалось на шее серебро медальонной цепочки.
Картошка в мундире, лук, вырванный с корнем и очищенный (хрустка и брызгуче-сочна молодая головка и сладостны зеленые с голубым стрелки), бочковая, потрошеная, но не очищенная селедка и редька, нарезанная круглыми пластиками, в льдистой россыпи дробленой соли, – все это, приготовленное Лукерьей Петровной, было, по моему разумению, вкуснейшей едой, однако я трепетал: как бы Мария Васильевна не замодничала. И я чуть не засмеялся от радости, едва она промолвила, что простая деревенская пища чудесна и что она не одобряет пристрастия ее Лешки к верченым, крученым ресторанным кушаньям какой-нибудь китайской кухни. Лешка, ее муж, работающий конструктором в отделе главного механика металлургического завода, проходил морскую службу на Дальнем Востоке, там он и пристрастился к блюдам из осьминогов, трепангов, кальмаров и других глубинных чудищ, приправляемых множеством всяческих пряностей, соусов, плодов, трав, водорослей.
Она повеселела, нахваливала редьку, не одряблевшую с прошлой осени, не разветвившую в себе черных прожилок, и, к счастью, наверно, не прикидывала больше, куда втиснуть для меня кровать. Редьку бабушка хранила в речном песке, засыпанном в бочку из-под цемента.
Свекольник ее восхитил, и она сказала, что за ним не угнаться ни морсу, ни пиву, ни виноградному соку, ни даже сидру.
Я преклонялся перед ней за то, что она человек, за то, что она исключительная велосипедистка (она была чемпионкой нашей области среди женщин), за то, что она из всех маленьких читателей выделяла именно меня. В моем поклонении перед ней: не отказалась зайти, не только отведала простецкой снеди, но и питает к ней точно такую же склонность, как и мы, – стало больше неба и солнечного сияния, и я рассказал об этом матери, прерывая бабушку, которая пыталась выразить свой восторг («Ды какая грамотная: не погнушалась отведать за одним столом с нами…»), нервным протестующим криком.
…Такой сон может присниться лишь в детстве.
Я стою на холме. Около железисто-бурая дорога. Зигзагом она падает среди мордовских землянок к берегу. Пруд лежит гладко, вздоха не сделает. Кажется, будто он покрыт какими-то маслами. Приглядываюсь. Нет, он залит свежерасплавленным свинцом, и по этому свинцу подергивается от жара паутинисто-невесомая, синяя с оранжевым пленка. И едет по воде на своем взрослом велосипеде мой друг Панька Липанин. Едет с того берега, из станицы Железной. И за ним выстеливается изголуба-белая, излучающая марево колея.
Я начинаю беспокоиться. Пленка – поверхностный шлак. И коль возникает чистая-пречистая колея, значит, пленка пристает к колесам и Панька не доберется до берега.
Внезапно он куда-то делся, и я вижу ветвистую складку на склоне. Вся она заросла горицветом, и оттуда звон велосипедного звонка. Я спускаюсь. Лежит велосипед. Кажется, Панькин. Седло повернуто задом наперед, к раме примотана куртка. Я поднимаю велосипед, встаю левой ногой на педаль, правой отталкиваюсь. Хотя тут крутой подъем, колеса легко катятся вверх. Я завожу в воздух ногу. Переношу ее через багажник, к которому приторочена корзинка, чтобы возить из магазина хлеб, и сажусь, но сажусь не на куртку, а на само седло, теперь оно на месте. И еду. Ноги достают до педалей и не теряют их. И равновесие не нарушается.
Возникает сосна. По стволу струится белка. Я гонюсь за ней до вершины. Она, растопырив крылышки ног, летит вниз. Я прыгаю за ней, страшась, что расплюснутся колеса, но не теряю равновесия, прочно держусь за руль. Шины с ударом приземляются, так что звон раздается в резиновых кольцах камер. И мне непонятно: не то я свалился, не то усидел. И я просыпаюсь, не успев этого разрешить. И лежу радостный. Я ехал на велосипеде, страшно ловко держал равновесие. И у меня уверенность, что чувство равновесия навсегда возникло и укрепилось во мне. И если Панька на минутку даст мне велосипед, я поеду, несмотря на то, что раньше не умел ездить.
По волглой от росы дороге я бегу в мордовские землянки. Паньку не застаю: умчал на базар за кормом для кур и гусей, с базара он заскочит к двоюродному брату в поселок Коммунальный, и аж тогда только – восвояси. Это будет к полудню, а может, и к вечеру. А у меня нетерпение и даже страх: вдруг да к тому времени я растеряю равновесие.
Я жду возле клуба Марию Васильевну Дедкову-Бокареву. Во впадине междугорья темные, одиночные фигурки пешеходов, поднимающихся к перевалу. Из-за перевала, с Восьмого участка, – никого.
Мария Васильевна окликает меня.
Я люблю, когда она с обновой: на ней широкополая шляпа, низ тульи украшен сизым бантом.
Невеселой я ни разу ее не видел. Она идет навстречу, ее глаза озабочиваются, заметив, что я понур, но продолжается сияние улыбки на лице. Она обвивает рукой мою голову, спрашивает:
– Ты чего, сынок?
Не впервые она зовет меня сынком. Иногда и мне хотелось назвать ее мамой.
– Приснилось… – говорю я.
Мне так укромно и нежно. Я словно под крылом у нее. Дышу, уткнувшись носом в крученый шелк ее кофточки, туго-натуго натянутой грудью.
– Что приснилось?
– Ну… Я не катаюсь на велике. Ну… Во сне ехал… педали не отставали от лап, рулем не вилял… Теперь, уверен, сяду и поеду безо всяких-яких.
– Дурашка ты мой! Как это я упустила? При двух велосипедах и не догадаться… Гоночный я не могу дать. Простой возьми, хоть насовсем. Ай, невнимательность. Поезжай, бери. Дядя Леша дома. Он бреется.
Дядя Леша обычно брился, оголясь до пояса. Он был огромноростый, с глазами небесного цвета, шерстистый. Тетя Маруся подсмеивалась над его волосатостью: «Кто в теории Дарвина сомневается, увидит тебя, тотчас отбросит сомнения: явно – ты от приматов, от самых настоящих». Вместе с тем по интонациям, которые нет-нет как бы пробивались сквозь шутливость ее голоса, точно река сквозь лед, можно было понять: она гордится исполинской величиной мужа и его чащобной растительностью.
К моему приезду лицо он выбрил и прояснял на груди и животе очертания орла, который размахнул крылья и распустил хвост. В те годы редкий матрос возвращался домой без татуировок после прохождения действительной службы.
Дядя Леша возвратился с флота без наколок («Влияние тюремных замашек. Бедность художественного воспитания. Индейцы и какие-нибудь там нецивилизованные аборигены Африки устраивают на собственном теле переносную картинную галерею – у них в этом необходимость. И в общем-то они делают татуировки со вкусом. А мы? Грубятина»), но и на нем отразилась мода. Он любил покрасоваться во время купаний на водной станции своим орлом из шерстянки; правда, при этом он охотно, со злинкой зубоскалил над собой.
Велосипеды, один над другим, висели на стене, к которой была приткнута кровать; над спинками кровати торчали дутые медные шишки, посветленные никелем.
Дядя Леша отложил опасную бритву, смахнул полотенцем мыльное облако с поджарого живота и снял простой велосипед, взгроможденный под потолок.
Жили они высоко. Чтобы я не загремел с велосипедом по лестнице, он попросил подождать: сам снесет машину. Пока он надевал брюки и натягивал футболку, я стоял перед ватманским листом, прикнопленным к чертежной доске. На ватмане, отливистые, чернели кружки, крестики, хомутики, прямые линии, нанесенные тушью. Хоть я и не понимал, что накалякано на листе, я все-таки, как и раньше, подивился тому, что дяде Леше платят за чертеж по четыреста рублей, а тете Марусе – она помогает ему – за копию такого чертежа дают целых две сотни.
Длинный путь от дома Дедковых до нашего барака я вел велосипед, сжимая в кулаках резиновые наконечники, натянутые на «рога» руля. На мое счастье, ребят у барака не было: чистили лошадей на конном дворе, а мама отдыхала. Я позвал ее с собой.
Ветрило по направлению к станице Железной. Волокло дымы электростанции и коксохимического цеха; огибая нагорье Второй Сосновой горы и холм, за которым ютился мордовский «шанхай», они плотно приникали к склонам, покрытым свиной щетиной травы, напоминая белесое, с прожелтью, курево, которым застилает горные огороды, когда жгут кучи навоза, соломы, подсолнечных будыльев, картофельной ботвы.
Над железнодорожным пространством, прилегающим к пруду и прокатным станам, тоже стлался заводской чад. Стрелочникам, составителям, механикам паровозов он, наверно, застил взор, и они предупредительно часто дудели на жестяных рожках, дули в свистки, подавали гудки.
Нам с мамой редко удавалось вот так вот, как сегодня, идти вместе и ни о чем не беспокоиться: у меня каникулы, у нее выходной день, свобода. От своей сегодняшней беззаботности и от радости за меня: «Замечательный велосипедище отцепил!» – она так глазела по сторонам, словно ее долго держали взаперти, закладывала за голову ладони, чтобы запеть во всю ширь души «Располным-полна моя коробушка», но не могла преодолеть стеснения – люди шли и ехали с парома и на паром. Голорукая, в сатиновом сарафане, она казалась девчонистой, совсем девчонистой.
Едва мы поднялись на верх изволока, она вдруг в неожиданной тревоге схватилась за велосипед. Надо немного вернуться назад. Здесь круто, а я, что бы мне ни приснилось, кататься не умею и расшибусь.
Я обиделся. Ведь наступил момент, когда могу проверить, возможно ли чудо.
Я дергал велосипед к себе, она не отпускала, стала еще тревожней, укоризной полнились глаза.
По отношению ко мне она постоянно проявляла покладистость, а тут я наткнулся на неуступчивость, и взбеленился, и повернул руль под уклон, и ринулся с дороги, и вырвал у нее велосипед.
Она оторопело засмеялась от моего упрямства.
– Чего ты взбрыкнул? Захотелось нос на затылок переместить?
– Ну уж! Знал бы – ни за что б не позвал. Сяду и поеду. Не мешай. Ладно?
Она выдумала уловку:
– Сам покалечишься – полбеды, велосипед поломаешь.
– Тетя Маруся отдала насовсем. Никто не заругает.
– Тебе отдали… Надеялись, ты с ним будешь хорошо обращаться, с бережью.
– Мам, ты ровно бабуська… Дай убеждусь.
– Убеждайся. Только я за седло буду поддерживать.
– Нет, ты до седла не дотрагивайся. Если завихляю – поддержишь.
– Бесшабашный ты у меня, Сережа.
– Мам, не сердись.
Дальше все происходило почти так же, как во сне: оттолкнулся, накренив велосипед, утвердился в седле; хотя перегибался из стороны в сторону, педалей не терял.
Однажды Мария Васильевна рассказывала, что когда она училась кататься на велосипеде, то ее завораживали камни. Собирается объехать камень, туда-сюда рулем, а в результате наскочит на него.
Я удачно обминул кирпич и кусок зернисто-черного магнетита.
Уклон увеличивался. Я задержал педали. Кабы не ветер, бивший наискосок велосипеду, скорость развилась бы чуть меньше лыжной, когда нафталиново-сухой снег, и ты мчишься с вершины Второй Сосновой горы к рудопромывочному ручью.
Мама, как я слышал по шурханью кремней, вылетавших из-под ее кожаных тапочек, не отставала от меня. Я не оглядывался, чтобы не загреметь.
Стоило дороге выровняться, я осмелел. Ничего страшного не случилось: то воздух присасывался к левой щеке, теперь присосался к правой.
Мама бежала, вытянув к седлу руку, готовую к хватке. Я застиг на ее лице выражение восторженного блаженства, которое рождает стремительность. Через мгновение мой взгляд, замеченный мамой, изменил ее состояние: лицо напряглось и погрознело от ужаса. Наверняка ей уже померещилось, как я грохнулся. И тут я тоже ужаснулся, но странности того, что до сих пор качу на велосипеде. И сразу чувство равновесия как бы перекосилось во мне, я тормознул и спрыгнул на землю. В том, как все это я проделал, была конвульсивная быстрота, я не удержал велосипед и сам свалился на него. Страшась, что мама вконец перепугается, я успел вскочить, пока она подбегала, и засвистел, торжествуя. Потом я сел на траву рядом с дорогой и опять рассказал матери о своем чуть ли не волшебном сне, а после взахлеб говорил о переживаниях, когда въяве ехал на велосипеде.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































