Текст книги "В стране моего детства"
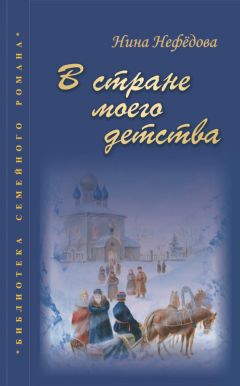
Автор книги: Нина Нефедова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Нина Нефёдова
В стране моего детства
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви
Книга Лауреата Всероссийского конкурса современной прозы имени И. С. Шмелёва
© МОФ «Родное пепелище»
© С. Н. Хмелёва – наследница
Дорога в Павловский
(вместо предисловия)
Поселок городского типа Павловский в Пермской области расположен на берегу правого притока Камы реки Очер в двадцати двух километрах от пристани Таборы. Эти скудные сведения о стране моего детства сообщает «Большая Советская Энциклопедия», но они, разумеется, ни в коей мере не отражают прелести и поэтичности мест, где я родилась и выросла.
Взять те же Таборы. Маленькая пристань на реке Каме, но сколько поэзии уже в самом названии. Вслушайтесь: Та-а-бо-ры… Не правда ли, вашему взору так и представляется темная августовская ночь, шатры, костер, старый цыган, раскуривающий трубку, куча черномазых, голопузых ребятишек, цыганка, помешивающая в котле варево? Если в ближайшем от вас шатре вспыхнет спичка, сквозь тонкий ситцевый полог видно, что в нем, закинув за голову руки, лежит цыган с неизменной трубкой во рту, а возле него сидит молодая жена и кормит грудью ребенка.
Признаюсь, эта картина плод моего воображения, возможно, так когда-то и было, ведь не случайно же даются названия. В действительности же теперь, когда вы ночью сходите с парохода (а он в Таборы всегда приходит ночью), вас обступает крутой обрывистый берег, на котором далеко вверху, на фоне предрассветного неба вырисовываются очертания елей. Поселок дальше, в двух километрах от пристани. Слышно только, как на берегу, в темноте лошади, хрумкая, жуют овес, да люди негромко переговариваются.
Теперь предстоит непростая задача: найти подводу. Старик-ямщик, с которым удается столковаться, отказывается тотчас же трогаться в путь, ему боязно одному ехать ночью через лес. Он хочет, во что бы то ни стало, подождать товарищей.
– Оно, паря, не слыхать, не балуют шибко-то, ну а сообча-то, все же веселея ехать, – говорит он.
Наконец, составляется обоз из трех-четырех подвод, и мы трогаемся в путь.
Дорога идет по хорошо укатанному галечному тракту, по обе стороны его стоит стеной дремучий бор. Жутковато ехать через него в темноте, недаром мой возница опасался ехать один. Вспоминается случай, рассказанный мамой. Она ехала из Табор, как вдруг в коробке, под козлами обнаружила топор. Это повергло ее в ужас, и она решила незаметно подгрести топор к себе. Старик-ямщик, не обнаружив топора на месте, в свою очередь струхнул и, отыскав топор, положил его на прежнее место. Так они и ехали всю дорогу, тягая топор туда-сюда, пока не миновали опасную зону. Мама потом долго со смехом вспоминала этот случай и слова старика: «А кто тебя, милка, знает… Береженого Бог бережет!», сказанные им на прощанье.
Но вот лес кончился, и дорога пошла полем. По левую сторону от нее осталась стоять красавица школа, она сложена из белого кирпича, железная крыша ее свежепокрашена зеленой краской. В этой школе я проучилась четыре счастливых года. Школа стоит за околицей Одуя (так называется поселок, живописно раскинувшийся на другом берегу пруда и соединенный с Павловским длинной плотиной). Одуй, как и положено деревне, отделен от полей изгородью с воротами.
В нетерпении я соскакиваю с подводы и открываю ворота сама, не ожидая, пока возница слезет с козел. Будь это днем, у ворот обязательно бы дежурили ребятишки, считавшие своей привилегией открывать и закрывать ворота, за что приезжавшие бросали им сладости: пряники и конфеты. Так и сидели они, бывало, стайкой у ворот, взимая своеобразную дань с проезжавших. Теперь не то. Разве наоткрываешься, когда по тракту проходят сотни машин в день. Да и надобность в этих воротах отпала.
Вот и Одуй позади. С небольшой горки открывается великолепный вид на поселок Павловский. Он весь еще в утренней дымке. Красные, зеленые крыши домов (обязательно железные!) утопают в зелени садов. Это не плодовые сады. Яблони и груши пока еще робко пытаются культивировать отдельные любители-садоводы, но зато каждый житель поселка считает своим долгом иметь при доме липу, черемуху, рябину, сирень в палисаднике с кустами крыжовника и заросли смородины и малины в огороде за домом.
Дорога теперь идет по плотине, соединяющей Павловский с Одуем. Справа раскинулся пруд, окаймленный с одной стороны сосновым бором, а со стороны поселка ветлами, низко клонящимися к воде. Вода кажется розовой, плотной, маслянистой, легкий парок поднимается над нею. Всплески воды и круги, расходящиеся на ее поверхности, заставляют биться сердце рыболова, ведь это рыба «играет». Как завороженные сидят рыбаки в лодках, привязав их к колышкам, раскинув свои удилища в ожидании удачи. Между тем всходит солнце. Тяжелое, весомое, оно большим желтком повисает над горизонтом.
Слева под плотиной туман гуще, здесь низина, на много километров протянулись торфяные болота. Но под самой плотиной гулко ухает чудище – Павловский косный завод.
Здесь куют косы-литовки. Они славятся по ту и другую стороны Урала. Под взмахом их падает пахучая стена Ивановского разнотравья. Никнет скудная растительность Барабинской степи.
Миновав плотину, въезжаем на базарную площадь, где выстроились рядом две церкви: старая маленькая, почти незаметная в гуще разросшихся в церковной ограде кустов и деревьев, и новая, кирпичной кладки, победно поднявшая высокий купол с золоченым крестом к самым облакам. Но нет возле этой церкви ни кустика, ни деревца и кажется, что и самой ей стоять на этом пустыре неуютно. Впрочем, не так уж долго она и стояла. В 1917 году сдернули с нее позолоченные кресты, разломали купола, но саму церковь, сколько ни бились, не могли разобрать на кирпичики, так прочно они были сцементированы, к тому же сложена была церковь из добротного, прокаленного до синевы кирпича. Так и осталось стоять на площади уродливое сооружение. Использовалось оно вначале, как овощехранилище Райпотребсоюза, а с открытием в поселке ремесленного училища отдали его под мастерскую для вихрастых, озорных пацанов. С тех пор доносится из церкви не церковное пение и речитативы священнослужителей, а дробный перестук молотков и визг напильников. В обеденный перерыв выстраивается возле нее шеренга ремесленников в измазанных куртках и бодро, под песню, направляется в столовую.
На базарную площадь выходят: торговый ряд, поповский дом – серое унылое строение, двухэтажный дом купчихи Субботиной, в нижнем этаже которого лавка с промышленными товарами, красивый дом управляющего завода с большим садом, спускающимся к пруду, и серое двухэтажное же здание волостного правления, окнами своими глядящее на пруд. Каждое из этих зданий заслуживает того, чтобы рассказать о нем, а главное, о его обитателях подробнее, что и будет сделано впоследствии.
На базарной площади только в субботу людно, когда съезжаются из окрестных деревень крестьяне, чтобы купить, продать, послушать новости, узнать, что творится на белом свете. Уж так повелось издавна: базарный день в Павловском – суббота, а в Очере, что в девяти верстах, торжище – в воскресенье.
Наш дом на широкой зеленой улице, полого взбегающей в гору. За этой горой ежедневно куда-то проваливалось солнце. Чернела на горе одинокая скамеечка, особенно отчетливо видимая в часы заката. Вечерами на горе девушки водили хороводы. Взявшись за руки, они медленно шли по кругу в одну сторону, плавно поворачивались и шли в другую. Казалось, они не шли, а плыли по воздуху, заунывно, протяжно напевая: «Как по-о мо-о-рю, к-а-к по-о мо-о-рю…» Тепло было сидеть в бабушкиных коленях и слушать песню про «белую лебедушку». Потом засыпать под тягучую монотонную песню и не слышать, как уносят тебя в дом и укладывают в постель.
Глава 1. Отчий дом
Поскольку наш дом стоял на центральной улице, то и называлась она Павловской, впоследствии ее, конечно, переименовали, и стала она Ленинской. От базарной площади дом стоит третьим с угла. Он большой, двухэтажный, с палисадником, где растут кусты сирени и крыжовника, и с садом, в котором привольно, точно в лесу, вымахали клен, липа, береза и черемуха. Росла в нем и рябина, горькие вяжущие ягоды которой нам, детям, очень были по душе, и мы не ждали, когда побитые морозом они станут слаще. Но дед срубил ее. Деревья так разрослись, что в комнатах, которые выходили окнами в сад, летом всегда был полумрак. Дед несколько раз заносил, было, руку с топором: «Надо укоротить маненько…» Но мама не разрешала. Ей нравилось, когда с весны сад заполнялся щебетом и гомоном птиц. Первыми прилетали скворцы, и мы, дети, любили наблюдать, как деловито они осваивали скворечники.
Ну, и домище же отгрохал дедушка! В его положении потомственного рабочего это было, наверное, нелегко. Но дед был честолюбив. Если кругом стоят такие солидные дома, как той же купчихи Субботиной, или дом Орехова, помощника управляющего заводом, то чем он хуже этих домовладельцев? Слава Богу, руки-ноги при нем, силушки не занимать, да и помощников эвон сколько: два сына, две снохи, девок с мужьями четверо. Окромя того, место обязывает, не ставить же в центре поселка какую-то завалюшку!
Но, размахнувшись на большой дом, дед так и не смог полностью осилить его. Так не была сделана теплая лестница на второй этаж, а та, что вела из холодных сеней наверх, доставляла большие неудобства, особенно зимой. Выскакивая на нее из теплого помещения и по обыкновению забыв накинуть на себя хотя бы шалюшку, мы частенько простывали, кашляя «бухали», как в бочку, чем приводили маму в отчаяние.
Полы в доме, как не покрасили сразу, так потом покрасить и не собрались, хотя разговор о том, что надо бы покрасить полы, возникал часто. Более того, и краска для полов была уже куплена, но она так и простояла в чулане, пока не высохла. Больше всего от некрашеных полов страдали мы с сестрой Надей. Ведь каждую неделю нам приходилось мыть полы с дресвой, крупным песком, которую мы сами же получали, дробя горную породу. Мыть полы часто было необходимо, ибо при большой семье они быстро затаптывались. А что значило вымыть с дресвой пять комнат, кухню, сени вверху и внизу, лестницу? Одной воды сколько надо было натаскать, чтобы смыть эту самую дресву. Нет, не говорили мы дедушке спасибо за его некрашеные полы!
И наверху, и внизу сени были большие, к ним примыкали чуланчики, светелки, боковушки, которые по первоначальному замыслу деда должны были стать жилыми комнатами, но так и не стали по недосугу его. А между тем, сколько полезной площади они отнимали у обитателей дома! Словом, большой дом был не очень удобен для жилья. Но это был родной дом, и хотя прошло более сорока лет с тех пор, как я жила в нем, я помню каждую половичку, каждую ступеньку, каждую дощечку его. Все в нем знакомо мне до боли. И память эта дорога мне.
Обращаясь сейчас к воспоминаниям о детстве и юности в родном доме, я хочу отдать последний долг уважения и любви дорогим мне людям. Людям, которые жили в этом доме: трудились, радовались, любили, страдали, нередко заблуждались, но свято чтили заветы отцов. Людям, которые бережно относились к хлебу, называя его не иначе как «хлебушко», с почетом, как самого дорогого гостя, встречали в доме рабочего человека и, воспитывая детей, в свою очередь, завещали им уважение к труду и любовь к Родине. Есть хорошая песня: «С чего начинается Родина?» Она начинается с того заветного уголка, где ты родился, вырос и стал человеком. Для меня это родительский дом и сад, одинокая скамеечка, чернеющая на горе в часы заката, стена бора, окаймляющего пруд, вода в котором при восходе солнца кажется розовой, плотной, маслянистой.
Глава 2. Мой дед
Свой рассказ я начну с деда, которого хороню помню, которого любила. Дед был потомственным рабочим. Его отец, рабочий старейшего Уральского завода, привел сына на завод, когда тому едва исполнилось десять лет. Был сначала дед учеником, потом подручным мастера, а потом и сам стал мастером, проработав на заводе почти полвека. Были у деда, как говорится, «золотые руки», это-то и губило его, по мнению бабки. За выполненную на стороне работу полагалось отблагодарить, деду подносили стаканчик, и постепенно он пристрастился к водочке. Выпив, начинал куражиться, а то, сидя на лежанке, откинув и в старости красивую голову, дребезжащим тенорком пел: «Цвели цветики, да поблекли-и-и…»
Бабка маленькая, сухонькая, властная с колючим взглядом зеленоватых глаз не любила в нем этой страсти к пению, особенно не любила, когда он начинал «складывать» песни и враждебно говорила:
– Ну, завел свой граммофон! На-ка, вот, подшей валенки!
Но как ни любил дед импровизировать, а в песне не укладывалась вся его жизнь, о которой ему хотелось поведать людям. А как рассказать о ней простыми обыкновенными словами, когда и расписаться-то он не умел и ставил вместо подписи крестик? Это непреодолимое желание рассказать о себе людям терзало его и мучило, и он точно вспружиненный вскакивал с лежанки и говорил нам:
– Девки! Да хоть вы опишите мою жизнь! Так мол и так, жил на свете Митрофан Егорович… Записывайте!
Полные готовности помочь деду, мы с сестрой вытаскивали из школьных сумок тетрадки, карандаши и начинали записывать.
– Так вот значит так, девки. Было мне годков пять от роду, как я впервые надел штаны…
– А в чем же ты ходил, дедушка? – отрываясь от письма, спрашивала я.
– А в долгой рубахе бегал! А тут как-то раз мать пошла на базар, видит на дороге запон лежит, фартук, значит, по-вашему. Она, конешно дело, его подняла, спросила: «Чей?» Хозяин не нашелся, она принесла его домой, да и сшила мне из него штаны. То-то я рад был им! А то на улице ребята уже задразнили меня: «Бесштанная сила» да «Бесштанная сила». Бывало, кричат: «Эй, бесштанная сила! Айда, играть в бабки!». Особливо старался суседский мальчишка Минька. Отец его скотом промышлял: купит на стороне корову подешевле, забьет ее и продает мясо на базаре, у него и ларек там был. Справно жили, не то, что мы, голодьба. У отца нас было семеро, до новины хлебушка никогда не хватало. Бывало лето больше на траве перебивались, огородишко, конечно дело, поддерживал. А какой скусный хлебушек-то был! Замесит мать квашню из мучки первого помола, вынет из печи караваи, они лежат розовые, румяные с присыпанной мукой корочкой, отдыхают. А дух-то какой от них в избе стоит! Маленько погодя, мать отрежет нам, ребятам, по бо-ль-шому куску, ломтю: «Ешьте на здоровье!» А мы круто посолим хлебушко солью да в огород, к луковой грядке, нащиплем зеленого пера, вот наш и обед. И ничего, здоровые были… А Минька тот, хоть и на мясе да на всяких разносолах вырос, чахлый был. Помню, однажды сели мы с ним играть в карты, лет по десяти нам уже было. Уговор промеж нас был такой: кто проиграет – получай теребачку. Ну, Минька и проиграл, подставил мне голову, а я раз за волосья! Дернул, а в руке у меня клок волос Минькиных так и остался… Глянул он на этот клок, да как заревет благим матом. Матка его выскочила, тетка Наталья… Мне бы деру дать, а я сижу, как ошалелый: уж больно легко волосы-то выдрались… Как зачала она меня за волосья таскать: «Ах ты, варнак! Ах ты, ушкуйник этакий! Я на тебя, разбойника, найду управу!». Еле-еле я вырвался. Моим-то волосьям ничего не сделалось, вон и сейчас они у меня, слава Богу, а тогда и вовсе шапкой стояли, из кольца в кольцо вились… А у Миньки волосенки были реденькие, чахленькие. Плешь долго у него не зарастала, и Минька все прятал ее, напуская волосы с макушки.
Дед замолкал, клонил голову на грудь и храпел.
В следующий раз, выпив, дедушка вновь начинал вспоминать свою «распроклятую» жизнь, снова тоска томила его, хотелось высказаться, поведать людям, какой горькой была его жизнь, и снова с тоской просил нас: «Девки! Да хоть вы опишите мою жизнь!». В такие минуты мне казалось, что дедушка в душе был писателем, и кто знает, умей он писать и сложись его жизнь иначе, он, может быть, и стал бы им. А сейчас он был беспомощен и потому обращался к нам.
Мы открывали новую тетрадку (прежняя куда-то к этому времени уже запропастилась!), и дед снова диктовал нам про запон, из которого мать сшила ему первые штаны, про теребачку. Конечно, у деда нашлось бы что рассказать и кроме этих эпизодов, жизнь он прожил долгую, и немало в ней было интересного, но дед справедливо считал, что жизнеописание должно вестись с «измальства», а поскольку первая тетрадка утеряна, то начинай сначала. Так мы и не сдвинулись дальше «запона» и «теребачки».
Вообще-то дед много интересного рассказывал о своей жизни. Увлеченные, мы могли целыми вечерами слушать его рассказы. И даже пытались записывать их. Но странное дело, живые рассказы деда на бумаге теряли всю свою прелесть, становились похожими на классные вымученные сочинения. Вся беда была в том, что мы не знали, как записывать, не умели передать тот сочный, яркий колорит, которым отличалась устная речь деда. Это было очень обидно.
Отец, который не выпил в жизни и рюмки вина даже в гостях, не мог видеть дедушку пьяным. (А может быть, он потому и не пил, что на примере дедушки видел, как неприятен и непригляден бывает человек в пьяном кураже). Так вот, когда дед приползал домой чуть не на четвереньках (благо винная лавка или «казенка», как ее именовали в просторечии, была близко), отец сгребал нас в охапку и уносил наверх, где были наши комнаты (внизу мы только обедали), а затем уходил вниз к дедушке и трогательно ухаживал за ним. Отец потому уводил нас наверх, что боялся, как бы не коснулось нашего уха какое-нибудь бранное слово, срывавшееся с уст пьяного деда. Вообще нас оберегали от брани. Но однажды бабушка Васса Симоновна провинилась. Рассказывала она нам русскую народную сказку об Ивашечке и Бабе Яге. И повествуя о том, как Баба Яга каталась на косточках собственной дочери, думая, что это косточки изжаренного Ивашечки, бабушка злорадно приговаривала:
– Поваляйся, курва! Покатайся, курва!
И в этот момент в комнату вошел отец и буквально остолбенел:
– Ты все-таки думай, кому рассказываешь! – сказал он резко, чего никогда не позволял себе в отношении матери.
– Да, ведь я, Вася, как в народе сказывают, – виновато оправдывалась бабушка.
А нам с сестрой очень понравилось это слово, было в нем что-то круглое, ласковое. И мы иногда в ссорах шепотком обменивались им: «Курва!», «Ты сама курва!». Слово «дура» нам казалось куда более неприличным.
Когда я вышла замуж, мой муж, тоже студент университета, продолжал оберегать мой слух от неприличных слов. Если мы шли с ним отдавать в починку мои туфли, он не разрешал мне подходить на рынке к сапожному ряду:
– Ты что, не знаешь выражения «ругается как сапожник»?
Неудивительно, что я не знала и не понимала значения многих ругательств. Однажды, мои подружки по университету, филологички, посетовали на то, как много непристойных слов им приходится слышать на семинарах по фольклору.
– Представляешь, читаем тексты, где, то и дело встречается слово на букву «б…»
– А что это за слово?
– Не придуряйся! Как будто ты не знаешь!
Но я и верно не знала. На всякий случай решила осведомиться у мужа.
– Но, но! Смотри у меня, – грозно прикрикнул на меня муж. Пристыженная, я уткнулась в книжку. А теперь этим словом запросто обмениваются между собой девицы.
Пристрастие деда к водочке чуть было не кончилось для него трагически. Пьяный он свалился в подпол волостного правления, куда отправился выяснять отношения с «начальством». Дело было поздно вечером, никакого начальства на месте уже не было. Была лишь одна сторожиха, да и та куда-то вышла, оставив крышку подполья открытой. Дед сделал в темноте шаг, другой и… полетел вниз. Услышав его стоны и брань, сторожиха кинулась звать людей. Они вытащили деда наверх и отволокли домой.
На деда было страшно смотреть: лицо его было в кровоподтеках, левая рука сломана, а на правой – от кисти до локтя зияла ссадина. Сломанную руку фельдшер уложил в гипс, а вот с правой рукой дело обстояло похуже: рука распухла, посинела, началась гангрена или, как раньше говорили, «антонов огонь». Срочно деда повезли в земскую больницу в Очер.
– Резать! – сказал доктор, ощупывая пальцами почерневшую отекшую руку деда. – Готовьте к операции! – распорядился он.
Услышав слово «операция», дед подпрыгнул:
– Не дамся! Лучше дома подохну! – и направился к дверям кабинета.
Как ни уговаривал его отец послушаться доктора, дед стоял на своем. Привезли его еле живого. Кто-то посоветовал ставить на больную руку компрессы с «кобяком». Я до сих пор не знаю, что это был за «кобяк». Думаю, что это было искаженное слово «коньяк». С большим трудом достали этот спасительный «кобяк» (не следует забывать, что дело было в году семнадцатом) и стали делать компрессы. И что поразительно, рана, до того наполненная гноем, стала очищаться, кожа на руке – бледнеть, отек спадать. Спала и температура: градусник теперь не показывал уже за 39–40 градусов, как было еще неделю тому назад, а температура была почти нормальной. Дед радовался выздоровлению, а еще больше тому, что отстоял руку, и говорил удовлетворенно:
– То-то же! А то – резать! Оттяпали бы мне руку, и живи калекой. Одной-то рукой и узла не завяжешь…
Эпизод с падением в подпол, чуть было не закончившийся столь трагически, имел еще одно последствие: дед бросил пить. То есть не то, чтобы совсем отказался от случая пропустить рюмочку, но никогда больше не напивался.
– Вот так-то дураков и надо учить! – с удовлетворением говорила бабушка Васса Симоновна, немало претерпевшая от пристрастия мужа к водочке.
– Молчи, старуха! Ты в этом деле ничего не понимаешь! Вот Анюта меня понимает…
И верно. Мама, зная, что свекор иной раз и хотел бы перед обедом пропустить рюмочку, но стесняется, сама ставила перед ним эту рюмочку, и дед был очень признателен ей за это. Вообще, он маму любил и уважал, считая, что сыну Василию повезло с женой, а им со старухой с невесткой.
Выпив за обедом рюмочку и плотно поев щей и каши, дед склонял голову на грудь и погружался в сон. На носу его повисала светлая капля. Мы, дети, глядя на деда, начинали хихикать, подталкивать друг друга локтями. Отец молча, неодобрительно оглянув нас, вставал из-за стола и, подойдя к деду, вытирал ему нос своим платком. Так же, молча, он садился за стол и продолжал есть. Получив этот молчаливый урок уважения к старости, мы пристыжено углублялись в свои тарелки, не смея поднять глаз на отца.
Очнувшись от сна, дед оторопело оглядывал сидящих за столом и говорил, разглаживая усы:
– Кажись, вздремнул маненько…
– Ничего, батя. Иди, приляг…
Отец брал старика под руку и отводил в спаленку на кровать.
Дед, как и большинство рабочих Павловского завода, имел земельный надел. Где-нибудь за семь-восемь километров от поселка сеялась полоска ржи, овса, ячменя, а то и гречихи. Не забывались и посевы гороха, который куда как хорош был в горошнице или в гороховом киселе с льняным маслом. А чтобы иметь это масло сеялся и лен. Его дергали, вязали в снопы, сушили, колотили, отделяя головки с семенами, из которых на маслобойке жали масло. Пройдя через добрый десяток операций, расстилался лен на полянке холстами для отбелки.
Вообще хозяйство было натуральным. Во дворе стояли лошадь, корова (иногда две), были куры, гуси, не говоря уже о поросенке, который откармливался и резался к Рождеству.
Семья деда росла. Один за другим рождались дети, подрастали, рабочих рук становилось все больше, но росли и расходы по семье. И дед решил построить кирпичный завод, чтобы был в доме какой-никакой «прибыток». Но кирпичный завод это, пожалуй, слишком громко сказано. Дедушкиным заводом был просто-напросто сарай – дощатое строение на окраине поселка, где у деда был участок под картофелем. Такие участки под дополнительные огороды волость нарезала всем рабочим.
Участок деда располагался на высоком увале, где оказалась великолепная глина для выделки кирпича. Это-то обстоятельство и натолкнуло деда на мысль построить на картофельном поле кирпичный завод и снабжать кирпичом всю округу.
Сказано – сделано. Кирпич деда скоро прославился: он был прочен, не крошился, был легким и звонким после обжига. Со всех окрестных деревень к деду потянулись мужички на подводах:
– Митрофан Егорович! Сделай милость, отпусти сотенки две, печь надо перекласть, баба грозится, пироги не буду затевать, пока не переложишь.
И дед отпускал. Более того, насколько я, будучи ребенком, уловила из разговоров взрослых, и церковь в поселке была сложена из дедова кирпича, а позднее и школа, что красуется на Одуе за околицей.
После революции, как я уже упоминала, церковь попытались, было, снести, но это оказалось нелегким делом. Сколько ни колотили ломами, кайлами, удалось свалить только колокольню.
Управлялся дед на «заводе» своим семейством, никакой наемной рабочей силы не было. Сыновья копали глину, подвозили воду, девки месили эту глину босыми ногами, а сам дед формировал кирпич на примитивном станочке и обжигал его. Для обжига были вырыты в увале три пещеры, выложенные кирпичом. И вот после того, как «сырец», сушившийся на полках в сарае был, по мнению деда, готов для обжига, его перетаскивали на тачках к печам, и дед колдовал над ним, переходя от печи к печи и поддерживая огонь в них до нужной температуры.
Мы, дети, любили в эти дни навещать деда. Кругом простиралось картофельное поле. Накопав кошель крупной розовой картошки (ну, и родилась она на этом глинистом увале!), мы подбегали к деду, радуясь встрече с ним. Он тоже был рад нам. В вывернутом наружу мехом полушубке, в валенках, в шапке (ночи к осени становились холодными, а обжиг дед проводил главным образом ночью) дед напоминал нам колдуна из сказок. Мы с пристрастием наблюдали, как он зарывал принесенную нами картошку в горячую золу какой-нибудь из печей, и с нетерпением ждали, когда же она испечется. Какая же вкусная была эта картошка из дедовой печи: белая, рассыпчатая, с серебряными блестками на изломе.
Со временем дело деда расширилось. Дочери уже не месили глину ногами, их труд заменила глиномешалка: железная цилиндрической формы бочка, внутри которой крутились лопасти, приводимые в движение лошадью, уныло ходившей по кругу. Да и рабочих рук прибавилось. Дочери повыходили замуж, зятевья тоже включились в дело.
Но с началом первой мировой войны дело заглохло. Сначала один зять, а потом и второй были призваны в действующую армию. Силы деда стали слабеть, и скоро он совсем прекратил производство кирпича. Но слава о его кирпиче еще долго жила окрест, и по-прежнему, деда одолевали просьбами продать сотенку, другую. Теперь дед продавал уже тот кирпич, которым были выложены печи для обжига. Он особенно ценился мужичками: был на удивление звонкий и аж синий от опалившего его огня.
Бабушке жаль было этого кирпича:
– Хватит тебе его транжирить! Ведь задаром отдаешь! Потом хватимся, и свою печь перекласть будет нечем!
Она была права. Как-то вздумал дед переложить печь. А перекласть ее ему было запросто. Он то поворачивал ее целиком к окнам на улицу, то вдруг повернет ее передом во двор, совсем как в сказке. Печник он был отменный. Так вот, вздумал дед переложить печь, а кирпича-то и нет. Почесал дед в затылке, взял тачку и отправился поковыряться в старых печных завалах. Наскреб-таки. Поставил печь на сей раз поперек избы, разгородив ее, таким образом, на две половины. В одной оказалась большая кухня, в другой – спаленка, где можно было ему и старухе спокойно отдохнуть, никому не мешая.
Когда мне в эвакуации пришлось перекладывать эту печь (за давностью лет она стала плохо греть, да и свод в ней рушился), я слезно вымолила у председателя артели кирпича. Он сжалился над солдаткой, дал кирпич, но он оказался предрянным, так и крошился в руках. Я еле привезла его к дому на двух попутных подводах от завода, что был в десяти километрах от поселка. Не раз вспоминала я дедушкин кирпич.
В последние годы дедушка жил в полном смысле слова «на покое». Дети повырастали, твердо стали на ноги, надобность продолжать работу на казенном заводе отпала, и хотя дед за свой почти полувековой труд «пензии» не выслужил, все равно он не нуждался. Живя со старшим сыном Василием, нашим отцом, он охотно поддерживал все его новшества в хозяйстве, вроде распашки земли на болоте под огород или введения строгого рациона при кормлении домашнего скота. Одобрительно он отнесся и к затее сына организовать при доме слесарную мастерскую, где изготавливались бы молотилки, столь необходимые в сельском хозяйстве.
Вообще, он гордился своим старшим сыном. Гордился тем, что тот закончил учительскую семинарию, был инспектором земских училищ и уважаемым человеком не только в поселке, но и во всем земстве.









































