Текст книги "Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга 2. Основана на снах, музыке и воспоминаниях"
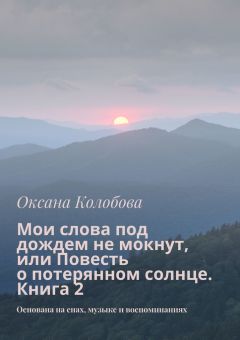
Автор книги: Оксана Колобова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Никаких, в общем-то. Но если я собралась уходить, как-никак, ей нужно об этом знать.
– Да. Я думаю, ты права.
– Чем ты займешься?
– Пожалуй, постираю одежду и поиграю со своей кошкой. Еще как-то давно хотел посмотреть «Пекановый пирог» с Джимом Керри. Никак руки не доходили.
– Да уж… Смотреть фильм с Джимом Керри в свои последние дни – это, конечно, что-то новенькое.
– А что еще делать? Подвиги? Миру уже все равно.
– И то верно. У тебя появилась новая кошка?
– Ага. Совсем недавно.
– Как назвал?
– Пока никак.
– Надо придумать ей имя. Помирать безымянными могут только солдаты.
Я подумала – еще надо подстричь ногти и обязательно приготовить сэндвич с луком и огурцом. И – о, боги, – полить ее чертову рассаду.
– Пусть она будет просто «Кошечка». Ничего в голову не приходит…
– Кошечка так Кошечка. Тоже неплохо.
3
Шепот прошлого
Мне было жалко птиц. Без них небо выглядело безжизненным, будто бы оно было не небом, а картонным плакатом, нарисованным рукой бога – в общем-то, все так и было, только в последнее время это стало заметно чуть больше. Мне казалось, что теперь мир вертелся и жил на автопилоте – небо без солнце и птиц существовать не могло.
В своей одинокой кровати я спать уже не могла и на оставшиеся мне дни перебралась к ней в комнату. Жить там, где она жила, дышала, творила и часами со мной говорила – так мне становилось намного лучше. Это действовало на меня как ромашковый чай – вроде и горько, но плакать хотелось все меньше и меньше. Время от времени звонил Остап. Я ставила телефон на базу, включала громкую связь и говорила с ним из кровати или из-за стола, пока не надоест. Иногда, когда говорить становилось уже не о чем, мы возвращались к своим делам, прерываясь на вдруг пришедшие в голову комментарии и истории из детства – по какой-то причине их вспоминалось все больше и больше. Мне часто приходилось слышать, как он жует, курит, ходит по квартире, а и иногда играет с кошкой по кличке «Кошечка». Со временем я могла различать, в какой части квартиры он находился в моментах и как она вообще выглядела – люди дальтоники тоже как-то цвета понимают. Вот и я так же понимала. Но не знала наверняка. Розовый напоминает что-то нежное и уютное. Желтое – что-то оптимистичное. Синий – цвет свободы и полета мысли. Так, по звукам, его рассказам или каким-то другим мелочам у меня в голове формировалась картинка, которую мне потом предстояло забыть.
Так начался первый день. За окном и в душе было все то же – грязно и мутно, будто у меня в душе кто-то полоскал свои мыльные пододеяльники. И те были чьи-то чужие – ее пододеяльника я бы точно среди них не нашла. Часы тянулись медленно. Они, как жвачка, которую долго мусолишь во рту, со временем теряли свой вкус и затвердевали, становясь чем-то незыблемо-вечным. Кроме прошлого в голову ничего идти не хотело, и я чувствовала себя так, словно подвожу прожитому некую черту – хотя, то чертой не совсем являлось – все-таки, ничего еще не закончено, и вряд ли когда-то будет. Сны не снились и спала я как-то поверхностно. Часто просыпалась от ощущения взгляда. Глаза смотрели на меня пристально и без единой мысли, как если бы просто выполняли свою главную функцию – смотреть. Я тут же открывала глаза и искала эти глаза по стенам, и потолку, а потом, нигде не найдя, долго рассматривала в окне серое небо, выполняя ту же привычную нам функцию. Если бы только была возможность прожить оставшиеся дни вслепую! – завязать глаза и на время погрузиться в искусственную тьму, пока не придет время погрузиться в нее настоящую.
Когда я была ребенком, я часто вставала с солнцем. Оно светило мне в лицо и падало на руки. Я пыталась его схватить, накрыв сверху раскрытой ладонью, а потом сжимала ее в кулак. Солнечные блики гнулись и искажались, как бы приминаясь моей рукой – тогда мне казалось, что мне и вправду удавалось его на время украсть – но стоило мне убрать руку, как оно снова висело на небе. Тогда я и поняла – солнце ни у кого украсть не получится. Но больше мне нравилось то, как мои руки просвечивали на солнце. Я не знала, что это было – свойства наших организмов или просто игра света, но контуры моих пальцев становились красными, а сами ладони оранжевыми. Тогда мне казалось, что солнце сканировало меня на манер рентгена и делилось со мной собою. Из этого выходило, что у каждого из нас было по куску солнца. Но без самого солнца они были бесполезны. С детского возраста, прислоняясь к солнцу руками чуть ли не каждое утро, я накопила в себе много таких кусков, но теперь не знала что с ними делать и как мне быть с самой собой. Так и получалось, что солнце высвечивало предметы и дарило нам то, что было у него самого. А ночь все это у нас отбирало, оставляя нас голышом в поле или на берегу. Ночь заставляла нас смотреть внутрь себя, а не вокруг. Однако, смотреть вокруг было куда безопаснее…
Я лежала на кровати и смотрела на свои руки. Со вчерашнего вечера они оставались непривычно холодными, словно их раздели догола и пустили во двор в мороз. На них я могла видеть отголоски всего, что со мной случалось, но так и застряло где-то, до куда дотянуться уже не представлялось возможным. Уходя, солнце забрало с собой все, что когда-либо подарило. Я лежала под одеялом и смотрела вокруг. Я думала – не она ли теперь за мной наблюдала? Должно быть, она теперь обо всем знала – и о Остапе, и о наших словах, и о его новой кошечке по кличке «Кошечка». Хотела бы я, чтобы она об этом знала? – это уже совсем другой вопрос. В тот день, примерно в два часа дня, мне удалось вспомнить запах из школьного туалета. Я не знала, запомню ли я его теперь, но знала одно – он нашел меня сам. Я вспомнила женщину-зеленый-костюм, вспомнила ряды умывальников и блестящие лужи под ними, вспомнила твердые накрахмаленные полотенца, отдающие туалетным мылом, ополаскивателем и отчего-то – хлоркой. Еще я вспомнила девчонку младше меня всего на год. У нее всегда были до жути тонкие, но длинные косы. Что же сталось с ними теперь? Я вспомнила один из дней, когда мы с ней сидели на унитазах рядом друг с другом, практически касаясь коленями и локтями. Я вспомнила, как мы закрывали глаза и давили на глазные яблоки. Так мы оказывались во тьме, разбавленной яркими вспышками красок. Они рассыпались в глазах, как искры от оголившегося провода, и лопались, как салюты в честь Девятого Мая. Девочку звали Настей. Настя называла эти видения Жар-птицами. Она вылавливала меня в коридоре и говорила только одно: «Пошли смотреть на Жар-птицу». И я шла за ней, будто у меня не было другого выбора. Но выбор есть и был всегда. И я всегда выбирала сидеть с ней на унитазах и давить на глазные яблоки. Настя называла эти вспышки Жар-птицами. А сейчас мне хочется сравнить их с обложкой Radiohead. Сейчас мне кажется, что видели мы не Жар-птицу, а космос, запертый глубоко-глубоко внутри нас. Иногда мне могло привидеться чье-то лицо или фрагменты рук. И теперь я была уверена – если я закрою глаза и со всей силы надавлю на свои веки, в моем личном космосе не окажется ничего, кроме черных волос и неровно подстриженной челки.
Я закрыла глаза и слегка надавила на глазные яблоки. Меня окутала темнота. Спустя время ее вытеснил оранжевый свет, словно солнце все еще было с нами и просвечивало сквозь тонкую кожу век – наверное, это и были те куски потерянного солнца, что все еще во мне оставались. Их, как и татуировку Остапа, было уже ничем не вытравить, не убрать. Солнечный свет остался татуировкой на обратной стороне моих век – это я знала как свои пять пальцев. Свет, идущий откуда-то изнутри, медленно погружал меня в себя – так на дно тянет привязанная к ноге гиря. Образы не отличались четкостью – референсы22
Вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой.
[Закрыть] рук сменялись расплывчатыми фигурами, перетекающими в чье-то усатое лицо, потом – в неразборчивый каллиграфический текст. Скрюченные буквы ломались и накладывались друг на друга слоями, уплывая от меня куда-то в сторону, откуда я уже не могла за ними наблюдать. На секунду мне показалось, что я вижу перед собой ветви деревьев. Они двигались, словно живые руки, принадлежащие тому, кого на земле еще или уже не было – словом, то были руки без имени и владельца.
Солнечные лучи прыгали меж ветвей и изредка поблескивали у меня в глазах. Теперь мне было ясно – качались не ветви, а я сама. Оранжевое тепло согрело мне руки. Лучи касались моих век и бежали вверх-вниз от лица к шее. Вверх-вниз качалась и я. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой взаправдашние ветви и запутавшиеся среди них солнечные блики. Крохотные качельки, на которых я качалась, поднимали меня высоко вверх, так что я могла дотянуться до облака и украсть у него пару солнечных лучей. Их я рассовывала по карманам и продолжала качаться. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Я больше не помнила себя и своего прошлого. Я больше никого не помнила. Вернулась ли я в самое начало или вышла за границы времен? – я не знала. Но теперь у меня появился другой смысл – качаться на крохотных качелях и воровать у неба его солнечные лучи. Вдруг я поняла – я сама была крохотной. Я стала маленьким человечком. Ветви, что били меня по рукам и ногам, росли из гигантского терновника. Он простирался высоко-высоко за моей спиной. Остановив ход качелей, я ухватилась за ближайшую ветку и сорвала с нее первый попавшийся плод. Он был слегка недозревший и раскусился с трудом, оставив на языке горько-вяжущий вкус. Я выплюнула косточку на ладонь и стала рассматривать ее на солнце. Примеряя ее то так, то сяк, как ракурс для фотографии, в какой-то момент я полностью загородила ей солнце…
Остап позвонил в полночь. Я готовила сэндвичи с огурцом и луком. Нарезала батон, подогрела его в тостере и промазала получившиеся куски майонезом и хреном. Огурец очистила от кожуры и порезала ломтиками, лук – на ломтики потоньше. На улице шел дождь. Я ела сэндвичи, периодически запивая их кофе. Рассада на подоконнике грустно кивала мне головами. В этой глухой тишине, в которой каждый звук звучал резко и как бы не вовремя, звонок Остапа застал меня врасплох. Я положила недоеденный сэндвич обратно в тарелку и поплелась к телефону. Единственно горевшая лампочка проводила мой постепенно остывающий след. Темнота встретила меня его голосом.
– Привет.
– Привет.
– Как поживаешь?
– Неплохо. А ты?
– Как-то погано. Сикось-накось.
Я стояла по середине ее комнаты и рассматривала засветившуюся «базу» в ожидании пространного монолога с описанием его «поганого» дня. Выслушивать Остапа у меня, мягко говоря, не нашлось сил. А полезешь в карман – наткнешься на угасающие куски солнца. Я вышла из ее темноты и пошла обратно на кухню. На тарелке лежал одинокий сэндвич. Доедать его уже не хотелось. В голову пришло выражение «След простыл» – кому надо, чтобы он простывал? И почему это происходило? След мог простыть только в двух случаях: если сам хозяин болел, – и не важно чем – менингитом или душевной тоской, – и если он бежал настолько быстро, что они простывали от ледяных порывов ветра. Я дышала ему в трубку. В темноте мне ничего не мерещилось. Мне казалось, что она стала пуста как бочка, в которую вот уже которое лето никто не наливает воды.
– Весь день пролежал в кровати и думал.
– О чем?
– Обо всем. Неужели не знаешь, как это бывает?
Не помню, что я ему тогда сказала – кажется, просто что-то промычала. Сэндвич не вызывал у меня желания его доесть. После звонка захотелось выбросить его в мусорку. Под лампочкой крутилась маленькая мошка. Я подумала – и пусть крутиться дальше. Вдруг это та самая мошка, которую мне пришлось раздавить в том кафе? Вдруг это она, только в теле другой мошки? Пришла посмотреть на то, как мир медленно подъезжает к остановке «конец всему»? Иначе и быть не могло. Остап на проводе громко молчал.
– И о чем ты думал?
– В основном о том, чего не сделал. Я не говорил с отцом почти пятнадцать лет. В феврале было бы ровно пятнадцать лет. Но февраль не настанет.
– Не хочешь позвонить ему?
– А смысл? Смысл начинать что-то перед тем, как все это потеряет свой смысл?
– Его и так никогда не было.
– Кого?
– Смысла.
Говоря это, я вспомнила тыквенный суп и то, как она наматывала чайную заварку на кромки чашки. Вспомнила ряды несвязных друг с другом кадров. Вспомнила музыку и то, о чем тогда думала – эту музыку я точно не вспомню. Но я все-таки ее вспомнила. Кафе «Смысл» где-то все еще продолжало существовать, но туда я больше не попаду – это было известно мне еще до сегодняшнего дня. Это кафе еще где-то существовало. И в этом где-то об его окна все еще бились птицы.
– Смысл есть.
– Да? И какой?
– Не знаю. О нем не обязательно знать. Можно просто думать – он где-то рядом.
Я рассматривала предметы перед собой. На холодильнике висел ее рисунок. На столе – кофе и огрызок сэндвича. Рассада. Лампочка. Мошка. За окном ни луны, ни тучки – сплошная темень. Фонарь во дворе отчего-то перегорел. Менять в нем лампочку, видно, никому не хотелось. Да и зачем?… Все скоро исчезнет: и лампочки ваши, и фонари. Там уж до них никому дела не будет.
– И что с того? Есть смысл и есть. Только нам от него ни холодно, ни жарко.
Он чиркнул зажигалкой. Наверное, той самой, которой прикуривал мне в машине.
– Не хочешь встретиться?
– Ты думаешь, это правильно?
– Что именно?
– Начинать что-то перед тем, как все это потеряет свой смысл?
Остап замолчал. Из трубки не послышалось ни звука. Он, кажется, даже не затянулся, а так и сидел с сигаретой в руках, как гипсовое изваяние, приросшее ногами к земле, а сигаретой – к рукам. Может, все статуи в музеях и театрах были людьми, замершими от чьей-то неосторожной фразы или слова? Может, у них не получилось умереть и они стали этими случайными фразами и словами? Я представила, как спустя пару часов к Остапу в квартиру заходит человек в белом халате и начинает поливать его краской. Он выполняет работу профессионально и без лишних эмоций. Его лицо – непробиваемый камень. Остап смотрит в стену. Краска стекает полосами по его груди и спине… Я была уверена – в тот миг сигарета в его руке ни за что бы не дрогнула.
Он сбросил звонок. Я знала – утром опять позвонит. Кофе с сэндвичем я оставила на столе до утра, а сама зачем-то пошла в ее заброшенную комнату. Там я взяла сигарету и прикурила от спички. В кромешной темноте я осталась без рук и без ног. В темноте они были мне не нужны. Кроме самой темноты в темноте бы не нашлось ничего, что было бы для меня по-настоящему нужным. Я прошлась к окну и кружок ярко-оранжевого на кончике сигареты заплясал вместе с моей рукой. На подоконнике все так же стояла ее подставка в виде листочка. Я подумала о боге и о том, что он, наверное, как и я, совсем не сомкнет глаз этой беззвездной и безлунной ночью. Вездесущая темнота порождала гнетущее беспокойство, завязавшееся узлом где-то поперек сердца, ну а беспокойство в свою очередь – желание курить и никуда не смотреть.
Я подошла к ее столу и взяла в руки диск, найденный мной день или два дня назад – дни перемешивались между собой; стрелки часов хаотично прыгали по циферблату. Не исключено, что в таком хаосе можно потеряться во времени и не успеть. Я накинула на себя ее ветровку, схватила ключи, и вышла из дома, прижимая к себе безымянный диск без картинки и подписи. В тамбуре не горел свет. У соседей напротив тоже было темно – не исключено, что люди постепенно начали пропадать. В разрисованном лифте было спокойно. Выжженные огнем кнопки смотрели на меня глазницами когда-то погибших людей. Они наблюдали за мной, и все время перебивая друг друга, пытались рассказать мне свои печальные истории. Они говорили мне о пропаже луны и солнца, о лестницах, словах и судьбе всего того, что пока оставалось живым.
На улице становилось все холоднее. Земля остывала. В машине было чуть теплее, но раздеваться я все-равно не стала. Заведя машину, я стала ждать готовности магнитолы, а сама тем временем пыталась отогреть заледеневшие руки. Безрезультатно – карманы оставались холодными. В них, видимо, где-то прятались дырки – иначе как объяснить то, что украденные куски солнца куда-то пропали? Когда магнитола все-таки зажглась сине-зеленым, я судорожно засунула в нее диск и стала ждать. Спустя пару секунд диск начал проигрываться. Вначале шла долгая дорожка из шорохов и потрескиваний, будто бы на диске была записана игра какой-нибудь древней пластинки, а может – и запись чьей-то давней записи. За помехами последовала недолгая тишина, после чего началась сама музыка. С более нежных и плавных нот она нарастала до тяжелых и тревожных. Они чередовались между собой, словно прыгая друг через друга на манер «чехарды», и создавали необычное для ушей сочетание сентиментализма и острой драмы. Мелодия, безусловно, была прекрасна, но определенно точно в ней что-то было не так. На моем клубке образовывался нарост необъяснимого беспокойства – что именно заставляло мое внутреннее так содрогаться? Музыка петляла; то возрастала, то опять убывала, то возвращалось к привычному ритму.
На третьей минуте прослушивания мелодия показалась мне знакомой, но я никак не могла вспомнить, где я ранее могла ее слышать. Я включила верхний свет и остановила проигрывание записи, вмиг ощутив себя доступной для всего того, что хотело бы меня отыскать. Но меня ничего не искало. Так, в машине и со включенным светом, одна на пустующей ночной дороге я чувствовала себя до ужаса глупо – это было все равно что подглядывать за кем-то в ночи, и вместо того чтобы выключить свет в спальне, просто повесить на окно занавеску. Я взяла в руки диск и покрутила его. На нем по-прежнему никаких опознавательных знаков. Что же она хотела мне этим сказать? А самое главное – где я только могла слышать эту музыку? Мне казалось, временами я почти достигала истины, а потом она пряталась от меня за занавеской. Я чувствовала, будто стою перед нужной дверью, а потом ухожу прочь, так и не узнав, что была близка.
Я нажала на «play» и откинулась на сидение. Музыка текла туда, куда ей было надо. Я позволяла ей затекать в мои уши. В какой-то момент тревога и холод ушли на второй план. И теперь для меня существовала только музыка. Либо я становилась ею, либо она присваивала себе мое имя – разобраться в этом мне было уже не под силу, но чувство было такое, будто что-то внутри меня пустило корень. Отчего-то я знала – перерубить его ни у кого не получится. Стоило мне закрыть глаза, как я опять качалась на каких-то крошечных качелях. За плечами – гигантский терновник. Я была этим терновником. Я была его ягодами. Я была этими качелями и собой одновременно. Я была всем и ничем. Я была солнцем и его отсутствием. Я была ветвями, которые кто-нибудь и когда-нибудь перерубит и пустит на топку. Я была миром. Мир был во мне. Это была змея, кусающая саму себя за хвост. Но чем среди всего этого была музыка?…
Диск крутился в дисководе еще бесчисленное количество раз, прежде чем на небе пробилась светлинка – пробилась и тут же окрасилась в серый. В моей голове музыка растягивалась и принимала знак вечности. Мелодия заканчивалась и тут же начиналась. Я не могла уловить ее конец и начало. Что же Ия хотела мне донести? И мне ли диск предназначался? Тогда почему на нем не было названия? Не значило ли это того, что у той музыки его и вовсе не было? Ну а может, названием было все то, что происходило со мной и с миром? – поэтому она не потрудилась его написать, думая, что я сама обо всем догадаюсь? Тут я остановила проигрыш аудиодорожки и выключила свет. На небе я нашла полосы от самолетов. Они напомнили мне царапины от кошачьих когтей. Надо же, мир продолжал жить и вертеться – правда, сгорбившись и слегка устало, но все же продолжал. Я думала о ней, о боге и смотрела на эти полосы как на спасательный круг, лавирующий по волнам где-то рядом с горизонтом – ты его видишь, но дотянуться не сможешь.
Просидев так минут с двадцать, мне захотелось сходить в туалет. Я вытащила диск и сунула его в пустой пластиковый квадрат. Потом, вспоминая что-то недавно забытое и давящее на мозги, я замерла и оглядела салон. По пяткам снизу вверх карабкалась та же лихорадка – я могла узнать ее из тысячи. Это была моя лихорадка. Ощутив ее рядом с собой, я испытала острое облегчение. Сердце размякло; клубок начал разматываться. Я откинулась на кресло и стала смотреть в окно. Полный мочевой пузырь ощущался как что-то необходимое. Я вспомнила, как фотографировала ее в этой машине, потом – как фотографировала себя и небо. Воспоминания о дедовом фотоаппарате привели меня к тому, что я так упорно в себе искала – фотографии, которые она проявила перед своим уходом. Я включила верховой свет и полезла в бардачок. В нем все лежало все в том же порядке – пустой квадратик для карт, очки, пластиковые коробочки дисков и сигареты. Тогда я решила заглянуть под сидения, попутно вспоминая наш разговор в машине. Она говорила – я бы хотела проявить их перед смертью или что-то типа того. Выходит, она обо всем знала заранее, и теперь хочет, чтобы я узнала об этом сама. Вот только вот толку от этого уже не было никакого – если Земля сходит с орбиты, ее уже ничем не остановить. Под креслами были только бычки и скатанные в комочки ошметки пыли. Я полезла по карманам. Как бы ты хотела умереть? Я бы хотела упасть с лестницы или что-то вроде того. Что-то особенное, знаешь. Как прыжок с парашютом и… бац! – всмятку – парашют не раскрылся. Но я с парашютом не прыгаю, так что лестница вполне себе. На крайняк разбиться на мотоцикле. Или проглотить ядовитую бабочку. В карманах, пришитых к креслам, я нашла небольшой сверток размером волейбольный мяч. Черный пакет был замотан синей клейкой лентой. Под рукой не оказалось ничего, что могло бы помочь мне разрезать упаковку. Я смотрела на пакет секунд шесть, после чего решила пойти домой и открыть его уже там.
Все повторилось по той же схеме – ключ зажигания, лихорадка, подъезд, тревожный и голосящий на разный манер лифт, пустующая квартира, темнота. Цепочку разрывало лишь одно несовпадение – два пропущенных. Один от Остапа, второй от неизвестного номера. В мрачном сумраке на телефоне изредка помигивала маленькая звездочка – не так ярко, как ночью. Я посмотрела на время, выведенное на экране крупным шрифтом – четыре утра с небольшим. Я положила сверток и взяла телефон, собираясь набрать Остапу еще раз, после чего мой взгляд зацепился за незнакомый номер. Недолго думая, я нажала на кнопку «вызов» и присела на ее кровать в чем была – в ветровке, рубашке поло и джинсах. С того конца не доносилось ни звука – ни шорохов, ни голоса, ни тем более гудков. Я решила проверить, набрался ли номер. На экранчике было написано – «идет вызов» и длинное многоточие, уползающее куда-то за пределы дисплея. Вскоре я сбросила звонок и набрала Остапу. Его голос звучал как обычно – видимо, он так и не ложился.
– Алло.
– Что хотел?
– Ничего.
– Но все-равно позвонил?
– Получается, так.
– Я кое-что нашла у нее в машине.
– И что там?
– Я еще не открывала.
– Это посылка какая-то?
– Нет, просто сверток. Небольшой сверток, замотанный в черный пакет.
– Думаешь, тебе стоит его открывать?
– Думаю, что стоит. Повисишь?
– Угу.
Я положила трубку на кровать, включила громкую связь и стала рыться на ее столе в поисках колюще-режущего. В глаза бросились только ножницы.
– Где ты была?
– В машине сидела.
– С двенадцати?
– Ага.
– Понятно. Ты видела…?
– Что?
– Луна с неба пропала.
– Может, за облаками прячется?
– Сама же знаешь, что это не так.
Я запнулась лишь на секунду, а после, воспрянув, стала как ни в чем не бывало резать скотч. Резался он с трудом – видно, ножницы были чем-то затуплены.
– Пропала и пропала. Сам же знаешь – не мудрено. Удивляться нечему.
Остап громко выдохнул в трубку. Я избавила послание от обертки и уставилась на его содержимое. Сквозь полиэтиленовый пакет было видно следующее: прищепки; волосы, обмотанные резинкой; фотографии, разложенные на две стопки и колода каких-то карт.
– Ну что там?
– Фотографии, прищепки, колода карт и волосы.
– Волосы?
– Она обрезала себе волосы. Незадолго до того, как…
Договаривать было бессмысленно – и мы оба об этом знали. Я замерла, не зная, что первым взять в руки. На секунду мне показалось, будто Остап на другом конце провода слегка отодвинулся или же наоборот присел – так, чтобы не обессилить и случайно не упасть – последующие его слова звучали сдавленно и будто откуда-то, словно он был в том пакете вместе с картами, фотографиями и прищепками. Я разрезала пакет и взяла в руки ее волосы. В моих руках было ее прошлое – трогать его было удивительно. При виде осязаемых воспоминаний клубок сжался до вишневой косточки и начал подавать мне знаки. Я знала – он очень скучал. Я тоже, мой милый, я тоже. Слезы капали на ковер и мне на руки, чудом не задев все остальное. Я плакала молча, беззвучно – так получалось, и так, как мне казалось, было вернее и нужнее всего. Слезы разбивались о ковер россыпью мелких точек. В них я видела пропавшие с крыши библиотеки звезды. По ковру, обходя эти самые звезды и взявшись за руки, ходили далекие мы из прошлого. Сколько не пытайся, за ноги их никак не ухватишь – больно быстро ускользают туда, откуда пришли, напомнив мне о себе лишь на жалкую долю секунды. И глаза, что я все это время чувствовала на себе, принадлежали не ей и не богу – то были наши глаза из прошлого, что так уверенно и бесстрашно смотрели в бездну нашего будущего.
Я взяла в руки катушку фотопленки и развернула ее у себя на коленях. За окном было серо и уныло, будто кто-то повесился на люстре, прикрученной где-то в середине небес – и тут мне подумалось, что «гнездом» для этой люстры по-любому бы служила дыра, образовавшаяся на месте пропажи луны или солнца. Я взяла в руки зажигалку и стала высвечивать ее огнем фотографии – увы, уличного света не хватало даже на то, чтобы рассмотреть собственные руки.
В первой стопке, судя по всему, находились более ранние фотографии. По порядку: новогодний снимок с «Голубым огоньком» за спиной; изображение двух подростков – высокая белокурая девчонка и мальчик, держащий ее за мизинец; фотография высокого усатого мужчины за рулем темно-красной машины; вид из окна, захватывающий собой того мальчишку, деревья и кусок балконного ряда; напоследок – портрет темно-серой птицы, замотанной то ли в простынь, то ли в одеяло. Я передохнула, раздумывая, стоит ли мне продолжать. Из трубки слышалось надсадное сопение Остапа, потом – скрип табуретки.
– Эй, ты там не уснул?
– Нет.
То ли мне показалось, то ли он действительно придвинулся к телефону чуть ближе. Так или иначе, я знала еще кое-что – он этих призраков тоже видел и так же пытался хватать их за лодыжки. А они проходили сквозь него и шли по своим делам, повторяя милые сердцу сюжеты прошлого. Сюжеты и лодыжки были все те же, а Остап – уже нет. Уже не тот.
Я вздохнула и подумала – продолжи я дальше, я бы тут же сошла с ума. Поэтому я продолжила, пытаясь собрать мысли в кучу в этой душной от мыслей и его шумного дыхания, комнате. Мне хотелось прервать звонок – да так, чтобы больше не позвонил. Шутка ли? – потеряв одних призраков, тут же начинаешь искать других. Потом и тех где-то теряешь. Спрашивается, на кой фиг все это было? Сбросить звонок я не нашла в себе сил. О том, что они ушли от меня к кому-то другому, я знала уже давно. Кажется, их не стало при первой же встрече с богом, а может, и в том кафе…?
Следующие фотографии имели изображение мужчины возрастом в промежутке от шестидесяти до семидесяти лет. Вот он за столом; вот, изображая замешательство, сам с собой играет в шахматы; вот стоит и гладит овцу, позади него – море иссеро-белых спин; ну а вот – он у окна, с посохом в руке и в кепке «Янкиз». Мне почудилось, будто снимки кажутся мне знакомыми – но где и когда мне пришлось с ними знакомиться, вспомнить так и не получилось.
– Ну что там?
– Да ничего особенного.
– Правда?
– Ага.
Я промокнула лицо рукавом куртки и посмотрела в сторону телефона, словно где-то там должно было быть его лицо.
– Ты как?
– Да ничего.
– Честно?
– Ага.
Я собрала предметы в пакет и взяла сигарету. Из динамика послышался вздох.
– Ты думаешь, мир хочется вот так заканчиваться?
– Да черт его знает. Наверное, его это не совсем касается.
– Думаешь, ему грустно?
– Думаю, да.
Он помолчал. Я опять закурила, и не зная куда деть руки, пустила их в волосы, как бы делая небольшой массаж. Волосы определенно следовало помыть. Сквозь расстояние я чувствовала, что он готовит какие-то слова. Я не могла разобраться в себе – хотела ли я их слышать или же все-таки нет. Он вздохнул и закурил тоже – я это слышала. Синяя зажигалка. Синяя, как небо, которого нам теперь не видать.
– Как думаешь, если бы ничего этого не случилось, у нас бы с тобой что-нибудь получилось?
– Что-нибудь – это что?
– Мы могли бы жить вместе.
– Я думаю, тебе просто одиноко.
– А тебе разве нет?
Я подумала – все в этом мире одиноки. Жизнь в одиноком мире не одинокой стать не может. Мы росли и умрем одинокими. Так было задумано кем-то свыше еще задолго до нашего появления. Пепел сыпался на джинсы и я размазывала его пальцами. Сейчас не время переживать об уборке и прочих вещах, что имеют место только в этом мире. На данный момент – стирка джинс и Остап.
– Всем одиноко.
– И что? Ты не ответишь?
– На эту фигню – нет.
– По-твоему это фигня?
Я промолчала, надеясь, что он заговорит о чем-то другом.
– Я тебя понял.
– Думаешь, это правильно – заменять человека другим человеком и делать вид, что ничего не случилось?
– Разве я делаю вид, что ничего не случилось?
– Послушай, у меня нет ни сил, ни желания говорить об этом сейчас.
– Нет, ты уж скажи. Скажи все как есть.
– Говорить о том, что было бы в перспективе – самое отстойное занятие в мире.
– Но я же тебе нравлюсь?
Мы оба молчали. Я чувствовала вокруг себя шаги прошлого. Когда прошлое приходит само собой, без скучаний, напоминаний и приглашений, это могло значить только одно – скоро для всех нас все закончится. Попытка сохранить настоящее станет временной отсрочкой, идущей в упаковке с надписью «твои надежды не оправдаются».
– Чего ты добиваешься?
– Сам не знаю.
– Хочешь сказать, что если ты услышишь ответ, у тебя получится заснуть?
– Тут уж от ответа зависит.
– Я так не думаю.
– И какой будет ответ?
– Я сброшу или ты сам трубку положишь?
– Это все?
– Почему наши телефонные разговоры всегда заканчиваются одним и тем же?
– Потому что в голове у меня одно и то же. Сейчас. И все последние дни.
Я потерла переносицу и постаралась вообразить себе его лицо. Грустные глаза, на дне которых можно увидеть и самого себя, и все то, свидетелем чего они были и будут. Я представила их светло-серый оттенок, похожий на небо в тот ранний час. Представила, как мнется морщинами его лицо. Оно – бумажный лист, местами порванный ручкой и чьей-то мыслью. Вдоль и поперек лист был исписан словами. Среди них каких-то два имени, идущих поверх друг друга, далее – «тревога», «апатия», «страх» и отчего-то – «невыглаженный». Меня постигла мысль – если выгладить знаки вопроса, они станут восклицательными. У него был один такой между ребер, и того уж ничем не выгладить – ни утюгом, ни теплым словом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































