Текст книги "Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга 2. Основана на снах, музыке и воспоминаниях"
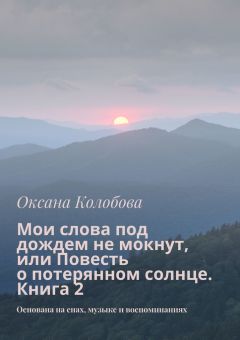
Автор книги: Оксана Колобова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
5
Время, которое где-то ждут
Я решила позвонить ему в полночь. Дождь без прежнего вероломства расхаживал по тротуарам. В бороздах скапливалась вода; лужи становились все больше и больше – за пару минут прогулки можно было запросто промочить ноги. Было темно. Фонари опять не горели – на всю кухню приходилась лишь одна лампочка. Батареи давно не топили. Особенно холодно становилось ночью. Периодически я включала газовые конфорки и грела над огнем руки. Я набрала номер и стала вытягивать из телефона гудки – пииип, пииип, пипиип. Чашка горячего кофе нагревала пальцы и сворачивала на них кожу. Пип, пип, пип, пиип. Абонент не может ответить на ваш звонок. Все те же избитые фразы, которые повторялись вот уже на протяжении нескольких часов.
Каждый раз смотрясь в зеркала, я думала вот об этом – это была не она, а скорлупа, вынужденная огибать ее душу при жизни. Еще я думала – а моя скорлупа тоже где-то осядет? Наблюдать за теми видениями было ужасающе дико, ведь так смотрят на тех, кто уже давным-давно был мертв, но по каким-то причинам стоял в коридоре и пинал чьи-то ботинки — а это он или его скорлупа? В скорлупе нет чего-то такого, что делает человека человеком – тем, чем он являлся до всего этого. Так я и смотрела на нее – непонятно, презрительно, и как бы с неким отвращением – так в детстве я смотрела на разделанную тушку цыпленка. Цыпленка, безусловно, мне было жаль. Ее – нет. Себя, увы, мне было жаль больше всего на свете. Так или эдак, скоро все равно стану тушкой. И сказать мне будет по-прежнему нечего. Только сейчас в голове хоть какие-то слова, а далее – только тишь да гладь, провожающая черствость и отупение.
Грея над огнем руки, я безумно дорожила секундами. Их у меня осталось немного. Да и что с них взять? Они от нас берут что хотят, а мы от них, так, что придется – ничего, то есть. Огонь горел синим и красным. Растеряв все свои полномочия, небо мрачнело. И казалось, то было совсем изрешечено – краденные звезды, луна и солнце оставляли отверстия. Не из них лился этот бесконечный дождь? – пожалуй, это было так.
Телефон молчал. Вместе с ним молчала квартира. Спать идти не хотелось – казалось, что пока я сплю, может что-то произойти. Может, из неба вдруг попадают кнопки и оно свалился на нас гигантским пуховым одеялом? Все же я бы предпочла не знать о том, что произойдет в скором времени. Я бы хотела уснуть и ничего больше не знать – ни слов, ни цветов, ни вопросов, ни самой себя со своим бесконечным грузом прошлого.
Но когда я смотрела на нее в зеркале, я думала только об усатом мужчине. И еще – о палящем солнце, овечьих тушках, медленно переживающих изобилие зелени. Еще мне представлялось широкое окно и гвоздь над дверью – на нем раньше висела икона, но теперь не висит. Я воображала, как Ия ест печенье и пьет чай, сидя за столом со своими стариками. Я представляла черную джинсовку, кепку «Янкиз» и шахматы, еще – жука между страниц книжки по овцеводству. Думая о ней, я думала о майонезе и грязных футболках, потом – напрямую к Остапу. А он все не звонил. Телефон недоступен. Все в мире вдруг стало простым, доступным и уязвимым, а тут вдруг – занят, недоступен, недосягаем. Как? Я тоже чувствовала себя доступной. Мне казалось, что это призраки устраивали мне холод, беспрестанно кружа вокруг меня хороводы.
От кофе на голодный желудок сильно сводило брюшную полость. Он хотел есть, а я не хотела. С течением времени я все больше ощущала беспомощность каждодневных ритуалов – завтрак, обед, ужин, душ, походы в туалет каждые полчаса, приготовление еды. Со временем все то казалось мне если не жалким, то бесполезным уж точно. В чем был смысл, если каждый из нас должен был умереть? – а если и не умереть, то деться куда-то туда, где нет горячей воды, бутербродов и сигарет. А не будет сигарет – значит пятиминутные перерывы больше не стоят так много. Вот же жалость, да? Будет нечем заполнять временные дыры. Нет времени – нет временных дыр. А если нет временных дыр, значит, заплатки к ним не нужны. Не нужны заплатки – сигареты тоже уже ни к чему. Вместо того, чтобы пить кофе или без толку затыкать голод едой, я беспрестанно думала. Мысли были самые разные. Некоторые из них вы можете наблюдать здесь.
Я до сих пор не пойму, как мне удалось заснуть, свернувшись на неудобном табурете, в окружении мрака, холода, и кроме того, на пустой желудок. Эти сны накрывали меня с головой, воруя у моей несчастной жизни оставшиеся часы и минуты. Бороться с ними не получалось – почему-то в ту пору они имели надо мной колоссальную власть. И то ли от избытка мыслительной деятельности, то ли от жизненного застоя, те приходили ко мне яркими иллюстрациями, отснятыми на чей-то старенький фотоаппарат.
Во сне я опять находилась в спальной комнате детского сада. Стены были небрежно, будто вслепую, выкрашены светло-персиковой краской. На нижнем отрезке стены глазу были видны все шероховатости – так выглядит ореховое мороженое, покрытое сверху глазурью. Верхний отрезок стены был заполнен побелкой. К ней вечно тянулись чьи-то наглые пальцы, и мои в том числе. Я любила вымазывать в этой побелке ладони, чтобы позже приложить их к чье-то одежде или обивке дивана – мне нравилась мысль о том, что я оставляю повсюду свои следы. Их, безусловно, оставлял каждый, но мел, знаете ли, и рассмотреть легче, и отстирать трудней. А мне хотелось значить для мира больше, чем для него значили все остальные – мне хотелось стать для него трудновыводимым пятном – таким, каким была моя отпечатанная на ковре ладонь. Два оттенка разделяла неширокая полоса нейтрального цвета. Эта неровная полоса обозначала нашим стенам горизонт. И думая об этом сейчас, я думаю о том, что она обозначала и мой горизонт – то, где заканчивается что-то одно, и начинается что-то другое.
Я лежала под одеялом и долго гладила свою промежность – так мне становилось и легче, и спокойнее – мои следы разнесут себя сами. Я не знала, занимаются ли этим мои приятельницы, да и особого значения я этому тоже не придавала – так, ерунда, – думалось мне. Но в тот раз в спальне я была не одна. Окна были занавешены шторами. В щели меж кусков ткани совались назойливые солнечные лучи – их хотелось ловить и рассовывать по карманам. Пока ребята спали, я беспрестанно касалась себя, как вдруг в комнату вошла воспитательница. Звонко цокая каблучками, она тихонько прикрыла за собой дверь и прошла к моей одиночной койке. Я запрокинула голову и посмотрела на нее вверх тормашками. Ее лицо-перевертыш смотрело на меня спокойно и без вопроса. Следуя какому-то внутреннему чувству, я натянула колготки и встала. Она молча взяла меня за руку, и размеренно цокая каблучками, повела к выходу. Ее сухая теплая ладонь лежала в моей руке настолько легко и воздушно, что запросто можно было подумать – я точно держала в руке что-то иное. Проводя меня до двери, женщина-зеленый-костюм куда-то удалилась, и мне не оставалось ничего другого, кроме как выйти за дверь.
Переступив порог, я попала в неизвестную мне ретро-забегаловку. Столики круглые, на тонких ножках; стены стилизованы под громадные шахматные доски; картины были самые разные, начиная от чьих-то размытых профилей, акварельных зарисовок яблок и бананов и заканчивая статными портретами известных шахматистов. А над баром были прибиты буквы – «Ладья». Последняя буква отставала и стояла слегка поодаль. Кроме двух подростков и пары дедов, сидящих за соседними столиками, больше в кафе никого не было. Внутри играла классическая музыка. Случайно подслушав разговор тех дедов, я пришла к выводу, что то был Чайковский. Сев за столик неподалеку, я решила просто наблюдать за постояльцами. Официантов за стойкой не было. Меню на столике тоже.
Двое юношей играли в шахматы. Первый был черноволос и хорош собой. Второй же напомнил мне конопатого мальчонку из мультика «Веселая карусель» – того, который рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой. Юноши изредка перебрасывались словами и междометиями. В отличие от дедушек, полноценной беседы они не вели. Те, поедая порции консервированного гороха, сидели в клетчатых рубашках и без умолку о чем-то болтали. Первый был лыс, свеж, и кажется, отчего-то горд собой. А второй имел вид безучастного человека и приличную шевелюру никак не уложенных белых волос. Я аккуратно наблюдала за ними из-под ресниц, стараясь не нарушить их неторопливой старческой беседы. Несмотря на прочие звуки, в забегаловке было необычайно тихо. И тишина эта была по-особому вызывающа – такая тишина обитает в ночных подъездах, в метро перед последним поездом и на кладбищах. Она вызывала чувство, будто бы ты кругом и всюду был один. И даже если поблизости были люди, все кругом напоминало плохо продуманный сон, с чьих-то слов переписанный на бумагу. Кажись, повернешься не в ту секунду и увидишь пространственные проплешины.
Чем дольше я просиживала в том кафе, тем более музыка казалась мне знакомой. Она, подражая профессиональному кукловоду, выдергивала из моего клубка по ниточке. Дед с объемной копной волос изредка постукивал по столу ногтями. Я впилась в эти ногти глазами, чувствуя, как с каждым постукиванием во мне что-то бренчало и сотрясалось, переворачиваясь и выворачиваясь наизнанку. Рядом с их полуопустошнными тарелками стояло по два стакана янтарного виски. Дедули цедили его через зубы, причмокивая и с интересом разглядывая довольные лица друг друга. Мальчишки переставляли фигуры и иногда касались друг друга локтями. Я трясла ногой, еле удерживая себя от того, чтобы не начать издавать какой-нибудь звук.
Из панорамного окна, как платок из чьего-то кармана, высовывалась ярко-оранжевая громадина-солнце. Где-то внутри себя я туда-сюда перекатывала один и тот же вопрос – сколько карманов может потребоваться, чтобы вместить в себя все его жгучие лучи? Ответ нашел себя сам в лобных складках лысого старика. Понадобится ровно столько карманов, сколько их было во всей планете. Ни больше, ни меньше. Именно затем нам и были нужны карманы. Уж точно не для мелочи, проездных, катышков табака, платков и окурков, которые можно было как-нибудь потом докурить. Солнце обжигало мне веки, но сил оторвать от него глаз я в себе не нашла – они будто приклеились к нему, как бы приклеивалась к зрачкам картинка, на которую долго смотришь на солнце. Оно зашло в забегаловку пятым гостем и замерло янтарными бликами в барном стекле.
Голоса стариков доносились до меня чем-то жидким и несуществующим, словно те были продуктом моей головы. Они ощущались не на физическом уровне, а на чем-то таком, что нельзя ни потрогать, ни понять и и уж точно ни объяснить кому-то другому. Они плыли вокруг меня, а потом куда-то девались, уходя вместе с солнечными лучами куда-то далеко-далеко – туда, где по-видимому, им было самое место. Но при этом они все еще оставались здесь. Так и я про себя думала – я вроде бы была здесь, но в то же время была и где-то еще – где? Я пыталась высмотреть смысл их диалога в сияющих бутылках хереса. Жидкие слова плыли вокруг меня чем-то замедленным. Я попыталась открыть рот и вдруг поняла, что у меня не получится издать ни единого звука.
– Во сколько закат?
– У меня часы остановились.
– Значит, ни во сколько?
– Да почему это? Когда-нибудь время придет…
– Само? Вот так возьмет и придет?
– Да. Почему бы и нет? Придет на своих двоих и прикажет нам всем заткнуться.
– Я думаю, что мы не заткнемся.
– А что тогда?
– Закричим пуще прежнего.
– О чем?
– О том, что так никогда и не смогли сказать.
– А поздно не будет?
– Поздно бывает только ночью.
Старички бренчали кубиками льда под характерный звук переставления шахматных фигур и заставляли того плясать, мешая виски с кусками солнца, фотографиями со стен и всякими лицами, что попадут под обзор стекла. Я думала – в нем для меня место бы тоже нашлось. Интересно, где бы его, напротив, никогда бы для меня не нашлось? Где я не могла быть? И где я никогда не смогу оказаться? В ту секунду, глядя на их стаканы и танцующий лед, потом – на мальчишек и их тонкие кисти, я ощущала, что могу быть в любом месте планеты. Я везде, но в то же время нигде. И если бы меня взялись искать прямо сейчас, а я бы продолжила сидеть здесь, за столиком, меня бы все-равно никогда не нашли. Старики причмокивали и глядели точно друг другу в лицо, будто передавали друг другу мысленные послания. Наконец, один из них взял в руки газету и закрыл ею добрую половину своего лица, оставив моим глазам только сморщенные руки.
– Слышишь?
– Что?
– Музыка шепчет.
Я смотрела на них. Они смотрели друг на друга в упор: один – взбалтывая в стакане солнце, второй – поверх газеты и прищурив покрасневшие глаза. Держу пари, я бы не выдержала и секунды молчаливых гляделок с такими глазами – воспаленные, залитые кровью и безумием, они были на грани слезы. Темноволосый юноша отвлекся от игры и тихо шепнул товарищу, слегка ухватив того за рукав:
– Лех, смотри, вылитый Чайковский с портрета.
– С какого-такого?
– Неужто не помнишь? Из кабинета музыки…
Наконец, из тех глаз брызнули слезы. Пальцы, принадлежащие тому телу, скользнули по столу и принялись отстукивать сбитые такты. Пойманное в стакан солнце качалось в руке и отпечатывалось на усталом лице владельца. Юноши, затаив дыхание, впитывали глазами увиденное.
– Я ничего не слышу.
– Что?
– Я ничего не слышу. Что она шепчет?
– Конец всему.
Просыпаясь, я услышала звон стекла и какой-то монотонный гул. Я предположила – вероятно, то по столу скатилась шахматная фигурка. На кухне все оставалось прежним. Над плитой горела лампочка. Рядом стоял недопитый и уже остывший кофе. На улице и
в квартире было холодно. Дождь не шел. Радио молчало. Я размяла шею и плечи, после чего провела по лицу рукой, и наткнувшись на что-то липкое, оглядела ладонь на свету. В детстве перепадами давления я не страдала, как, в общем-то, и сейчас, потому кровь из носа никогда меня не беспокоила. В детстве мне этого не хватало – как-никак, одна из уважительных причин прогуливать уроки. Посмотревшись в дверцу микроволновки, я достала из шкафа моток одноразовых полотенец. Так оно и оказалось. Из ноздрей ко рту следовали уже поприсохшие кровавые борозды.
Думая о своем далеком детстве и о крови, с которой мне периодически приходилось в нем сталкиваться, я размачивала те полотенца под краном. Как раз в тот момент мне и позвонили. Рингтон телефона показался мне каким-то другим – то ли спросонья, то ли просто из-за того, что мне давненько не приходилось его слышать. Пока я выбрасывала использованные полотенца в мусорное ведро, мелодия пошла по второму кругу. Я взяла телефон в руку и приняла звонок, не посмотрев на дисплей.
– Алло.
– Привет.
– Где ты пропадал?
– Спал.
– Решил отоспаться напоследок?
– Да сам не понял как уснул. Видимо, очень устал за эти дни.
Голос и вправду звучал устало. Так, будто для каждого слова он преодолевал усилие. Я помолчала. Рассказывать о своих снах не хотелось. Я коснулась носа. Кровь, кажется, продолжала идти. Даже удивительно – моя первая кровь из носа. Первая и последняя. Я налила в чайник воды и поставила его на подставку. Остап молчал и чем-то шуршал. Я была и не против – и все-таки, уж лучше рядом пусть хоть кто-нибудь будет. Чайник закипал и все мои душевные тучи потихоньку рассеивались. Кому есть дело до того, что будет завтра?
– У тебя когда-нибудь шла кровь из носа?
– А что за вопрос?
– Да просто.
– Бывало, как же. Еще в школьные годы. Помню, экзаменационный бланк кровью забрызгал.
– И как оно?
– Да так, ничего хорошего. А что?
– Просто хотелось узнать каково это.
– Кровь из носа?
– Ага.
– Я слышал, что многие падают в обморок при виде крови.
– Да я тоже слышала. Хотя, вроде ничего необычного – просто жидкость, которая течет внутри нас. Бояться крови – это все равно что бояться ручейков, текущих с гор и ущелий. Одним словом – ерунда.
– Видимо, для тех людей кровь это нечто иное – не просто ручеек или жидкость, текущая внутри тела. Что-то большее, понимаешь? Кровь сигнализирует о том, что с нашим телом что-то не так. Ну а если с телом что-то не так – возникают вопросы. Вдруг оно на стадии саморазрушения?
– То есть, это что-то вроде инстинкта самосохранения?
– Ну да.
– А ты как думаешь? Кровь – это всего лишь ручейки, или что-то большее?
– А что мешает считать ручейки чем-то большим? Если так подумать, внутри нас такие же большие миры. Почти такие же большие, в котором мы живем. Умерев, они никуда не уходят. Миры беспрестанно сменяют друг друга, реки – тоже. В нас и в других мирах они свои. Каждый мир ничем не хуже другого. Это просто данность. Мы же ведь должны где-то быть. Не быть нигде мы не можем – это противоестественно. В этом смысле, мы никогда не будем сидеть без дела, если ты понимаешь. Жизнь всегда будет продолжаться. Она будет идти, а мы рука об руку будем идти рядом с ней. Потому и пустоты в мире не существует. Если она и есть, то она такой же мир. Ты же не можешь представить, что тебя больше нет, так?
– Ну да.
– Значит, ты никуда не денешься. Хотя, все-таки, наверное, денешься, вот только… вовсе исчезнуть у тебя не получится…
Он зевнул. Чайник закипел и тут же выключился. Я думала – все в мире как-то резко и странно дошло до автоматизма. Я сжимала руку, хотя этого не хотела. Чайник сам по себе закипал и выключал голубую подсветку. За летом следовала осень, за осенью зима, за зимой – весна. Люди умирали и заново рождались на свет. Как оказалось, из этого адского круга выход ни для кого не был придуман – и это было все равно что возвести четыре стены и забыть про дверь. Стоя у столешницы, я надеялась только на одно – на то, что когда-нибудь я забуду про свой мир и он навеки останется здесь, заброшенный и одинокий. В других мирах будут гореть окна, а в моем мире все покроется пылью. Ее рассада, диски и кассеты больше меня не потревожат. Они – проблема этих четырех стен, но никак не мои. Дверь была заперта изнутри. Ключ где-то потерян. В этом и был выход – забыть и больше не вспоминать. Что мне было делать с той памятью? Каждый день мусолить одно и то же? Смысл у этого всего был небольшой, если он вообще был. В ту секунду мне страшно захотелось стать ничьей. Раз уж в этом мире все друг другу принадлежало, у меня был лишь один выход – покинуть его. Я не хотела быть частью лета, вечного дождя и тех дырок в небе за неимением луны, звезд и солнца. Я не хотела принадлежать себе. Я больше не хотела знать слова «принадлежать».
– Так о чем это я…
– Кровь из носа.
– Ах, да, точно! Кровь – это проявление твоего мира. Можешь считать, что таким образом он напоминает тебе о себе. Может быть, хочет донести до тебя какое-то послание.
– А мой мир умрет вместе со мной?
– Твой мир будет жить и будет ждать тебя там, где ты его оставишь.
Я положила в чашку две ложки кофе и залила их водой, в конце не забыв про сливки. Предыдущий кофе пришлось вылить в раковину. Я задумалась – мыть ли мне посуду? Пожалуй, завтра утром это не будет иметь ровно никакого значения. С другой стороны, если мне придется вернуться сюда еще раз, не думаю что мне станет приятно при виде немытой посуды. Может, пройдут столетия, может, миллионы столетий – по крайней мере, время здесь не будет иметь значения. И наверняка все останется на своих местах. Подумаешь, пыли будет чуть больше и еще чуть больше – паутины на люстре. Но это ничего. Я погладила стену и села на стул, обхватив кружку двумя руками.
– Ты там?
– Да… я здесь.
Думая о своем мире, мне хотелось думать о слове «необратимость». Я всегда буду здесь. Где бы я ни была и что бы ни происходило – я всегда буду здесь. Здесь живут ее письма, отрезанные волосы, фотографии, подставка под благовония в форме листочка, кассеты с «Криминальным чтивом» и «Кошмаром на улице вязов». Здесь должна быть и я. Здесь и было мое место. То, где я должна быть, и уйти куда-то на время, оказаться в конечном итоге. Мечтая о собственном ретрофутуризме, я и не догадывалась о том, что все это время он был тут, рядом – и это было все равно что искать собственные очки, когда они были у меня на носу. Очков я не носила, но зато я жила, пила кофе, говорила с Остапом по телефону и спустя какие-то тринадцать часов покину родное место. Я не знала, нужен ли будет паспорт, снилс, сменные трусы и сигареты, но что-то внутри мне подсказывало – я смогу обойтись и без них.
– О чем ты мечтаешь прямо сейчас?
– Увидеть голубое небо и птиц. Знаешь, как спокойными летними вечерами, когда тебя ничего не волнует и не должно. И небо такое голубо-желтое, а птицы сидят на проводах. Ты тоже сидишь где-нибудь, на балконе или на лавочке. И кажется, будто этот момент уже когда-то закончился и тебе ни за что его не ухватить, не догнать. Чувство, будто не успев закончится, это небо и эти птицы заведомо не твои. И момент этот тоже уже не твой. Кажется, что как бы ты ни пытался этот момент запомнить, он проскользнет мимо твоей памяти и окажется в кармане у кого-то другого, если вообще окажется. Может, он вообще ничей. Может, небо и птицы принадлежат сами себе, но никак ни кому-то. А потом ты этот момент все равно вспоминаешь. И ярче, чем все остальные.
Я помолчала, воображая не наше небо и не наших птиц – свободных и взбалмошных, летящих туда, куда им заблагорассудится. Я хотела быть птицей, а она мной наверняка нет. Я подошла к окну. Улица была темна, а чужие окна горели, словно предрассветное зарево. Ничего не произошло. Ничего не случилось. Заоконные силуэты тел двигались, словно пьяные – они курили, зашторивали занавески, танцевали или целовали родную макушку. Мне не верилось, что жизнь в пределах этих окон все еще продолжалась, и где-то там, в не моих стенах, люди продолжали свои размеренные вдохи и выдохи. Мне хотелось плакать навзрыд и громко – так, чтобы к концу во мне не осталось ни одного слова. Было больно где-то внутри. Это внутреннее хотелось убить и ни за что никому не показывать. Хотела бы я ни о чем не знать? – хотела бы. Хотела бы я чтобы они об этом узнали – нет. Пускай себе живут и танцуют. Этого у них не отнять.
– Сегодня мне приснился сон.
– Какой?
– Будто мы с тобой качались на качелях, а рядом висела табличка «окрашено». Мы качались настолько высоко, что могли докоснуться до солнца. Помню, что наши штаны настолько крепко прилипли к краске, что мы не могли подняться, потому беспрестанно качались, занося ноги высоко-высоко в небо. Кругом было никого. Только мы с тобой и гигантское дерево за нашими спинами.
Я ничего не ответила, хотя хотелось рассказать все и сразу: и о снах, и о ее звонке, и о том, что в зеркале я теперь видела не только себя. Хотелось, но не получалось. Видно, я слишком устала от слов. Я сделала глоток кофе и растянулась на стуле в ожидании его последующих слов. Я и подумать не могла, что перед концом света кофе мне захочется больше всего. Да и что я только могла поделать? Все, что бы я ни сделала, вмиг тут же бы обнулилось, став бесполезным дерьмом вроде волос под мышками. Думая об этом, я воображала себе уложенный геометрически идеальными плитами тротуар и маленькие росточки, пробивающиеся сквозь щели. Тут по ним проходят чьи-то тяжелые армейки и без сожаления втаптывают их в плиты. Спустя месяц росточки вырастают по новой, – опять же, до первых армейских ботинок. Цикл длится до осени, осенью и зимой ростки прекращают расти. С весны и до лета их бесполезные, совершенно ничего не значащие превращения снова вступают в силу. Так и выходило, что каждый из нас был на что-то запрограммирован, – будь то строить муравейники или просто поворачивать голову к свету, как делают подсолнухи или ромашки. Однако, все это не имело ровно никакого смысла – человек съест семечки, сорвет букет ромашек, а потом и домик заодно может разрушить, залив его водой или так, палкой… Можно лежать, а можно без конца куда-то ходить. Можно есть макароны, а можно совсем ничего не есть. Можно о чем-то изредка думать, а можно никогда и ни о чем не думать. Все это было одно и о том же самом. Не зная, о чем говорить дальше, я решила задать Остапу один из самых глупых вопросов в мире.
– У тебя был смысл жизни?
– Когда-нибудь, наверное, был.
– Наверное?
– Ну, знаешь, тяжело назвать повод продолжать жить каким-то смыслом.
– Хочешь сказать, что ты всегда жил просто так?
– Вроде того. Но в остальном были какие-то вещи, что радовали меня. Что-то, что могло удерживать меня на плаву – люди или какие-то мелочи. Но это всегда от меня уходило. Оно и должно уходить. Ничто не стоит на месте. Осень, зима или лето. Весна… Понимаешь? А под конец, когда теряешь слишком много того, что так или иначе хотел удержать, смысл жизни тоже уходит. Или, говоря простым языком, становится для тебя ничем. И это больше не смысл. Это – курс жизни, который ты принимаешь. Со временем все упрощается. Уж не знаю, то ли жизнь действительно становится проще, то ли мы устаем ее усложнять… Мне вроде бы понятно для чего поют птицы и для чего светит солнце. Но что из этого? Живем мы и живем. Солнце светит, а птицы поют. Только вот, что дальше? Завел кошку. Она умерла. Я завел вторую. Зачем? Сам толком не понимаю. Поживем, немного подышим, попотеем, повыделяем в пространство всякой гадости… Зачем мы это делаем? Ты думала об этом хоть раз?
– Но ты же любишь и солнце, и птиц?
– Конечно. Это чуть ли не единственное, что можно любить просто так.
– Это и есть ответ на твой вопрос. Жить. Смотреть на птиц и на солнце. Что-то же должно быть. В мире. Он для чего-то же дан. Значит пусть так и будет. Смотреть на солнце и птичек. Потихонечку жить. Потихонечку потеть и выделять всякую гадость в пространство.
– Чтобы потом все закончилось?
Я пожала плечами, совсем позабыв о том, что он этого никак не увидит. Потребность в том, чтобы увидеть его или вообще кого бы то ни было, уменьшалась с каждым часом и каждым выпитым кофе. Толку?…
– Видимо так.
Мы помолчали. В какой-то момент я вдруг вспомнила, что завтра все кончится. В три часа дня нас уже здесь не будет. А где мы будем? Я серьезно задумалась над тем, что не сделала за свою жизнь ничего важного. Все, что я делала, на деле оказалось ничтожной попыткой имитировать жизнь – глядите, здесь повсюду мои следы. Да и черт с ним. И с вами. И с ними. И со всем этим. С солнцем и птицами. Да. К черту. В голове заиграли «Radiohead», а потом звук его голоса все собой перекрыл.
– А вообще, мне иногда кажется, что я слишком мал для каких-то там смыслов. Я зачастую сравниваю себя с малюсеньким клочком бумаги, на котором и букву-то написать дело не из легких. Пока у других там какие-то слова или даже наборы из слов, у меня там половина буквы и многоточие. Странно, да?
– Пожалуй.
Я хотела о чем-то подумать, но никак не получалось. Но следом я все-таки подумала – лучше уж так. Ничего не менялось. Разве что людей в окнах становилось меньше – наверное, многим из них нужно было рано вставать на работу. А дождь все шел. Он все никак не мог устать сам от себя.
– А у тебя смысл был?
– Да. Их было слишком много. Они были, когда я их таковыми не считала. Потом их не стало. В этой жизни я слишком мало ценила.
– Жалеешь?
– Сейчас – да. Лучше спроси меня об этом завтра.
Пока Остап думал над моими словами, я тихонько завывала себе под нос. I am a moth. Who just wants to share your light. I’m just an insect. Trying to get out of the night.33
Я – мотылек, который хочет лететь на твой свет. Я – просто насекомое, пытающееся улететь из сумрака.
[Закрыть] Что же, в конечном итоге, мне было нужно? Куда стремился мой клубок? А куда – мои руки и ноги? Куда нам всем нужно бежать? Почему мы все тяготеем к свету? Что будет, когда его вдруг не станет?
– Скучаешь по кому-то?
– Разве что сама по себе.
– Что это значит?
– Говорят: смысл жизни – это поиск самого себя. Конец все ближе, а я себя так и не отыскала. Раньше я думала, что знаю о себе все, что мне нужно. Но теперь бы я не была так уверена. Мне кажется, я не знаю о себе ровным счетом ничего. Ну, например, какая я – хорошая? А может, плохая? Я что-то из себя представляю или же все-таки нет? Моя жизнь что-то значит или она – сущая ерунда?
– Мне кажется мы все никакие. Вроде бы что-то стоим, а в общим и целом – нет. Да и с солнцем такая же история. Вроде и светит, вроде и жизни бы без него не было… С другой стороны – нет его, да и ладно. Нет нас – тоже ладно… С этим всем очень легко примириться. Это как отсутствие горячей воды. Тяжело только поначалу, потом же – привыкание. Шаришь?
– А как привыкнуть к тому, что тебя больше нет?
– Но ты же не будешь этого понимать. Нет и нет. Значит фиг бы с ним. В мире все очень умно устроено. Мир не знает что такое печаль. Печаль – выдумка наших мозгов. То ли от скуки, то ли еще от чего-то, так или иначе, мы привыкли делить все на черное и белое, на хорошее и плохое. Если есть хорошее, значит должно быть и плохое. Мы всегда сомневаемся и ставим все под вопрос. И счастье тоже. Мир дал нам счастье, а мы его скомкали и написали сверху «несчастье». Нас нет – и это не хорошо, и не плохо. Это обычно. Но я не верю в то, что когда-нибудь нас может не быть. Мне хочется думать, что все останется так, как есть. Мне так проще.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































