Текст книги "Шутовской хоровод. Эти опавшие листья"
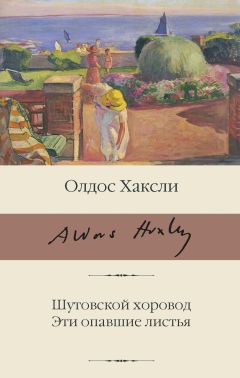
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава 13
Несмотря на такси, несмотря на проглоченный наспех обед, они опоздали. Концерт начался.
– Ничего, – сказал Гамбрил. – К менуэту мы успеем. Самое интересное начинается только тогда.
– Зелен виноград, – сказала Эмили, прикладывая ухо к двери. – Это какая-то небесная гармония, по-моему.
Они стояли снаружи, как нищие, униженно ожидающие у дверей пиршественной залы, – стояли и слушали обрывки музыки, дразняще доносившиеся изнутри. Наконец взрыв аплодисментов показал, что первая часть кончилась; двери распахнулись. Они алчно устремились в зал. Квартет Склописа и добавочный альт раскланивались с эстрады. Зазвучал нестройный щебет настраиваемых инструментов, потом все стихло. Склопис кивнул и привел в движение свой смычок. Начался менуэт моцартовского квинтета G-minor: мелодия развертывалась фраза за фразой, кратко и решительно, по временам прерываемая бурным аккордом sforzando, пугающим в своем резком и неожиданном пафосе.
Менуэт… Вся цивилизация, сказал бы мистер Меркаптан, заключена в этом прелестном слове, в этом нежном, изящном танце. Дамы и утонченные кавалеры, только что блиставшие остроумием и галантностью на софах, где обитает дух Кребильона, грациозно двигались в такт воздушному узору звуков. «Как они танцевали бы, – спрашивал себя Гамбрил, – под страстные рыдания того, другого, под звуки его мрачного и гневного спора с судьбой?»
Как чиста страсть, как искренна, прозрачна, ровна и безыскусна скорбь того largo, что следует за менуэтом! Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Чиста и непорочна, чиста и неподдельна, без примесей. «Не страстная, благодаренье Богу; только чувственная и сентиментальная». Во имя уховертки. Аминь. Чистая, чистая. Когда-то страстные почитатели пытались насиловать статуи богов; виноваты в этом бывали обычно скульпторы. А как восхитительно может страдать художник! И перед лицом полного Зала Альберта, с какими удачными жестами и мимикой! Но блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Инструменты сходились и вновь расходились. Длинные серебряные нити легко повисали в воздухе над журчанием вод; посреди заглушенных рыданий – вопль. Фонтаны взметают свои архитектурно-стройные колонны, и из бассейна в бассейн струятся воды; из бассейна в бассейн, и с каждым падением все выше и выше взметается струя, и вслед за последним падением огромная колонна подымается к солнцу, и из воды музыка превращается, модулируя, в радугу. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога, и не только узрят, но и сделают Бога зримым для всех.
Кровь стучит в ушах. Стук, стук, стук. Медленный бой барабана во тьме стучит в ушах того, кто лежит без сна в бреду, в невыносимых мученьях. Стучит непрерывно в ушах, в самой душе. Тело и душа нераздельны, и кровь мучительно стучит в сознании. Грустные думы бродят в уме. Чистый дрожащий огонек спускается во тьму, остается во тьме, примиряясь с мраком несчастий. Он примиряется, но кровь по-прежнему стучит в ушах. Кровь по-прежнему мучительно стучит, хотя душа покорилась. И тогда внезапно она делает усилие, стряхивает с себя бред слишком сильных страданий и радостей, приказывает телу танцевать. Вступление к последней части приходит к напряженному и трепетному концу. Миг ожидания, а затем ряд восходящих и быстро сбегающих вниз трохеев, один крохотный шаг за другим, и в трехдольном ритме начинается танец. Непочтительный, непоследовательный, выпадающий из тона всего, что было раньше. Но мощь человека – в его способности быть непоследовательным. Кругом голод, мор и война, а он воздвигает соборы; он раб, но в голове у него бродят непоследовательные, неподобающие мысли свободного человека. Дух в рабстве у бреда и стучащей крови, под властью мрачного тирана – страдания. Но без всякой последовательности он решает танцевать в трехдольном ритме: прыжок – вверх, топот быстрых ног – вниз.
Квинтет D-minor кончился; раздается громкий треск аплодисментов. Энтузиасты вскакивают с мест и кричат «браво!». А пять человек на эстраде поднимаются и раскланиваются. Сам великий Склопис принимает свою долю хлопков с усталой снисходительностью; усталость в его заплывших глазках, усталость в его разочарованной улыбке. Он заслужил это, он знает; но на своем веку он получил столько аплодисментов, имел столько хорошеньких женщин. У него римский нос и огромный лоб; артистическая грива бронзового цвета скрывает полное отсутствие затылка. У Гарофало, второй скрипки, смуглое лицо, глаза как бусинки и огромный живот. Выпуклые отражения электрических лампочек скользят взад и вперед по его полированной лысой голове, когда он кланяется, снова и снова, на военный лад. Пеперкук, ростом в два метра, извивается в изысканных поклонах. Лицо и волосы у него одинакового серовато-коричневого цвета; он не улыбается, вид у него монолитный и мрачный. Менее внушителен Кнедлер, который улыбается, и потеет, и обнимает свою виолончель, и прижимает руку к сердцу, и кланяется почти до земли, точно вся эта овация устроена ему одному. А бедненький мистер Дженкинс, добавочный альт, скрылся на задний план; чувствуя, что герой дня сегодня Склопис, а он сам человек посторонний и не имеет никакого права на все эти изъявления восторга, он почти не кланяется, только улыбается, неопределенно и нервно, и изредка дергается всем корпусом, чтобы показать, что он совсем не надменный или неблагодарный, как вы могли бы подумать, но что при данных обстоятельствах – положение несколько затруднительное – это трудно объяснить…
– Странно, – сказал Гамбрил, – что такие курьезные существа могли произвести то, что мы только что слышали.
Заплывшие глазки Склописа остановились на Эмили, раскрасневшейся и горячо аплодирующей. Он подарил ей, ей одной, усталую улыбку. Завтра, подумал он, к нему придет письмо, подписанное «Ваша Поклонница из третьего ряда». На вид она была лакомый кусочек. Он снова улыбнулся, чтобы подбодрить ее. Эмили – увы! – даже не заметила этого. Она аплодировала музыке.
– Вам понравилось? – спросил Гамбрил, когда они вышли на пустынную Бонд-стрит.
– Понравилось? – Эмили выразительно рассмеялась. – Нет, не понравилось, – сказала она. – Это не то слово. Понравиться может мороженое. Я стала счастливой. В музыке было несчастие, но она сделала меня счастливой.
Гамбрил подозвал кеб и дал адрес своей квартирки на Грет-Рассел-стрит.
– Счастливой, – повторил он, когда они уселись бок о бок в темном экипаже. Он тоже был счастлив.
– Куда мы едем? – спросила она.
– Ко мне, – сказал Гамбрил, – там нам будет спокойно. – Он боялся, как бы она не отказалась ехать к нему – после вчерашнего. Но она не сказала ни слова.
– Некоторые думают, что счастливым можно быть только тогда, когда делаешь шум, – сказала она после небольшой паузы. – А по-моему, счастье слишком хрупко и меланхолично для шума. Счастье, оно меланхолично, как прекраснейший пейзаж, как те деревья, и трава, и облака, и солнце сегодня.
– Со стороны, – сказал Гамбрил, – оно кажется даже скучным.
Они, спотыкаясь, поднялись по темной лестнице к нему в квартиру. Гамбрил зажег две свечи и поставил чайник на газовую горелку. Они сидели вместе на диване, попивая чай. В ярком, мягком свете свечей она казалась иной, более прекрасной. Шелк ее платья казался удивительно ярким и блестящим, как лепестки тюльпана, и по ее лицу, по ее обнаженным рукам и шее свет, казалось, рассыпал тончайшую золотистую пыльцу. На стене позади них тени бежали к потолку, огромные и густо-черные.
– Как все это нереально, – прошептал Гамбрил. – Неправдоподобно. Эта далекая тайная комната. Этот свет и эти тени из другой эпохи. И вы, пришедшая ниоткуда, со мной, пришедшим из прошлого, бесконечно далекого от вашего прошлого, и мы сидим вместе, вместе – и оба счастливы. И что удивительней всего, безрассудно счастливы. Это нереально, нереально.
– Но почему? – сказала Эмили. – Почему? Это есть, здесь и сейчас. Это реально.
– Все это может исчезнуть в любую минуту, – сказал он.
Эмили грустно улыбнулась.
– Это исчезнет, когда придет время, – сказала она. – Вполне естественно, без всякой магии; исчезнет так же, как исчезает и меняется все. Но сейчас это – здесь.
Они отдались очарованию. Свечи горели, два блестящих огненных глаза, не мигая, минута за минутой. Но для них больше не было минут. Эмили прижалась к нему, полулежа на его согнутой руке, положив голову ему на плечо. Он терся щекой о ее волосы; иногда, очень осторожно, он целовал ее лоб или ее закрытые глаза.
– Если бы я знала вас в те годы… – вздохнула она. – Но тогда я была глупенькой маленькой дурочкой. Я не заметила бы, что вы не такой, как все… Я буду очень ревновать, – снова заговорила Эмили после нового бесконечного молчания. – Пускай не будет никого больше, никогда, ничьей даже тени.
– Никого больше никогда не будет, – сказал Гамбрил.
Эмили улыбнулась и, открыв глаза, посмотрела на него.
– Да, здесь не будет, – сказала она, – в этой реальной нереальной комнате. Пока длится эта вечность. Но будут другие комнаты, такие же реальные, как эта.
– Не такие реальные, не такие реальные. – Он нагнулся к ее лицу. Она снова закрыла глаза, и ее ресницы внезапно затрепетали под легким поцелуем.
Для них больше не было минут. Но время шло, время истекало темным потоком, безостановочно, словно из какой-то глубокой таинственной раны в теле Вселенной, кровоточащей и кровоточащей без конца. Одна из свечей сгорела до основания, и длинное дымное пламя трепетно колебалось. От дрожащего света было больно глазам; тени неуверенно извивались и метались по стенам. Эмили посмотрела на него.
– Который час? – сказала она.
Гамбрил взглянул на часы. Был почти час ночи.
– Слишком поздно, чтобы вам возвращаться, – сказал он.
– Слишком поздно? – Эмили вскочила. Да, очарование нарушено, оно уходит, как тонкий слой льда под тяжелым грузом, как паутина от порыва ветра. Они посмотрели друг на друга. – Что же мне делать? – спросила она.
– Оставайтесь здесь, – ответил Гамбрил голосом, исходившим откуда-то издалека.
Она долго сидела молча, глядя полузакрытыми глазами на умирающее пламя свечи. Гамбрил следил за ней в напряженном, мучительном ожидании. Неужели лед подломится, паутина разорвется, окончательно и навсегда? Очарование можно еще продолжить, вечность можно возобновить. Он чувствовал, как бьется сердце у него в груди; он затаил дыхание. Будет ужасно, если она сейчас уйдет; это будет похоже на смерть. Пламя свечи заколебалось еще сильней, то подпрыгивая длинным, тонким, дымным языком, то снова почти угасая. Эмили встала и задула свечу. Другая свеча по-прежнему горела, спокойно и ровно.
– Мне можно остаться? – спросила она. – Вы мне позволите?
Он понял смысл ее вопроса и кивнул.
– Разумеется, – сказал он.
– Разумеется? Разве это что-нибудь само собой разумеющееся?
– Раз я так говорю. – Он улыбнулся ей. Вечность возобновилась, очарование продолжалось. Теперь не нужно больше думать ни о чем, кроме этой минуты. Прошлое забыто, будущее уничтожено. Есть только эта тайная комната и свет свечи и нереальное, немыслимое счастье быть вдвоем. Теперь, когда миновала опасность разочарования, счастье будет длиться без конца. Он встал с кушетки, прошел через комнату, он взял ее руки и поцеловал их.
– Мы сейчас ляжем спать? – спросила она.
Гамбрил кивнул.
– Ничего, если я потушу свечу? – И, не дожидаясь ответа, Эмили повернулась, дунула, и комната погрузилась во мрак.
Он услышал шорох: она раздевалась. Поспешно стащил он с себя костюм, снял с дивана покрывало. Постель была постлана, он открыл ее и забрался под одеяло. Тусклый зеленоватый свет газового фонаря проникал с улицы между раздвинутыми занавесками, слабо освещая дальний конец комнаты. В этой смягченной светом темноте он различал силуэт Эмили, стоявшей совсем неподвижно, словно в нерешимости на краю какой-то незримой пропасти.
– Эмили, – прошептал он.
– Иду, – ответила Эмили. Несколько секунд она продолжала стоять неподвижно, потом перешагнула через край. Она молча прошла через комнату и села на кончик низкого дивана. Гамбрил лежал совсем тихо, ожидая в зачарованной, вне времени, тьме. Эмили подняла колени, скользнула под одеяло, потом вытянулась рядом с ним, касаясь его на этой узкой постели. Гамбрил почувствовал, что она дрожит; мелкая дрожь, потом невольный резкий толчок, и снова дрожь и резкий толчок.
– Вам холодно, – сказал он и, просунув руку под ее плечи, привлек к себе безвольную и несопротивляющуюся Эмили. Она лежала, прижавшись к нему. Постепенно дрожь прекратилась. Совсем тихо, совсем тихо в зачарованном спокойствии. Прошлое забыто, будущее уничтожено; есть только это темное бесконечное мгновение. Пьянящее, как наркоз, счастливое оцепенение овладело его сознанием; теплая, блаженная немота охватила его. И все же, несмотря на оцепенение, он знал, с тревожной, пугающей уверенностью, что скоро наступит конец. Как человек накануне казни, он смотрел вперед сквозь бесконечное настоящее: он предвидел конец вечности. А потом? Все было неясно и неверно.
Очень осторожно он начал ласкать ее плечо, ее длинную тонкую руку, легко и медленно поглаживая кончиками пальцев ее гладкую кожу; медленно, начиная от шеи, через плечо, задерживаясь у локтя, к ее пальцам. Снова и снова: он изучал ее руку. Теперь ее форма стала достоянием кончиков его пальцев; его пальцы знали ее, как они знали музыкальную пьесу, как они знали двенадцатую сонату Моцарта, например. И темы, толпящиеся одна за другой в начале первой части, разыгрывались, воздушно поблескивая, в его уме; они стали частью очарования.
Сквозь шелк ее рубашки он изучил изгиб ее бедер, ее гладкую прямую спину и линию ее позвоночника. Он спустился ниже, прикоснулся к ее ногам, к ее коленям. Сквозь рубашку он изучил ее теплое тело, легко и медленно лаская. Он знал ее. Его пальцы – он это чувствовал – могут воспроизвести ее тело, теплую, изогнутую статую во тьме. Он не желал ее: желать – это значит разбить очарование. Он погружался все глубже и глубже в темное счастливое оцепенение. Она заснула в его объятиях; скоро заснул и он.
Глава 14
Миссис Вивиш спустилась по лестнице на Кинг-стрит и, остановившись на тротуаре, посмотрела в нерешительности сначала направо, потом налево. Маленькие и шумные такси катились на белых колесах, длиннорылые лимузины со вздохом проносились мимо. В воздухе пахло прибитой дождем пылью, а вокруг миссис Вивиш, кроме того, – ее духами, тончайшим итальянским жасмином. По противоположной теневой стороне улицы важно шагали два молодых человека, по-видимому очень гордые своими серыми цилиндрами.
Сегодня утром жизнь казалась миссис Вивиш довольно-таки унылой, несмотря на хорошую погоду. Она взглянула на часы: час дня. Скоро придется завтракать. Но где и с кем? На сегодня не было назначено решительного ничего. Весь мир лежал перед ней, она совершенно свободна весь день. Вчера, когда она отказывалась от всех этих настойчивых приглашений, перспектива свободного дня представлялась ей очень заманчивой. Свобода, никаких сложностей, никаких общений; пустой первобытный мир, в котором можно делать все, что угодно.
Но сегодня, когда это осуществилось, свобода была ей ненавистна. Выйти на улицу в час дня и очутиться в безвоздушном пространстве – как это глупо, как это печально. Перед ней открывалась перспектива непомерной скуки. Необозримая плоская равнина с бесконечно отодвигающимся горизонтом, всегда неизменным. Она еще раз посмотрела направо и еще раз посмотрела налево. В конце концов она решила идти налево. Медленно, шагая, как всегда, по лезвию ножа между двух пропастей, она пошла налево. Она вдруг вспомнила такой же сияющий летний день в 1917 году, когда она шла по этой же улице, медленно, так же, как сейчас, по солнечной стороне, с Тони Лембом. Весь тот день, вся та ночь были сплошным долгим прощанием. На следующее утро он уезжал на фронт. Меньше чем через неделю он был убит. «Никогда больше, никогда больше»: было время, когда ей достаточно было один или два раза произнести вполголоса эти два слова, чтобы разрыдаться. «Никогда больше, никогда больше». Она тихонько повторила эти слова. Но слезы не выступали на глазах. Скорбь не убивает, любовь не убивает; но время убивает все, убивает желание, убивает грусть, убивает под конец и душу, что испытывала их; иссушает и расслабляет тело, пока оно еще живо, разъедает его, как щелок, а под конец убивает и его. «Никогда больше, никогда больше». Вместо того чтобы плакать, она рассмеялась, рассмеялась вслух. Птицегрудый старый джентльмен, проходивший мимо, покручивая пальцами кончики белых генеральских усов, обернулся в крайнем удивлении. Может быть, она смеется над ним?
– Никогда больше, – пробормотала миссис Вивиш.
– Простите? – осведомился воинственный джентльмен густым портвейно-сигарным голосом.
Миссис Вивиш уставилась на него в таком изумлении, что старый джентльмен был совсем сбит с толку.
– Тысяча извинений, дорогая леди. Я думал, вы обращаетесь… Гм, а-гм. – Он снова надел шляпу, распрямил плечи и бодро зашагал дальше, левой, правой, бережно неся перед собой свою птичью грудь. Бедняжка, подумал он, и такая молодая! Говорит сама с собой. Должно быть, винтика не хватает, должно быть, в уме повредилась. Или, может быть, употребляет наркотики. Вот это скорей: похоже на то. В наше время многие этим страдают. Порочные молодые женщины. Лесбиянки, наркоманки, нимфоманки, алкоголички – порочны до мозга костей, эти современные молодые женщины. В клуб он пришел в великолепном настроении.
«Никогда больше, никогда, никогда больше». – Миссис Вивиш пожалела, что она разучилась плакать.
Перед ней открылся Сент-Джемс-сквер. Романтически гарцевала среди деревьев статуя. Деревья навели миссис Вивиш на мысль: что, если поехать на весь день за город, взять машину и ехать, ехать, неизвестно куда? На вершину какого-нибудь холма. Бокс-Хилл, Лейт-Хилл, Холмбери-Хилл, Айвинго-Бикон – все равно какой холм, лишь бы там можно было сидеть и смотреть на поля. Это, пожалуй, еще не самый худший способ использовать свою свободу.
«Но и не самый лучший», – подумала она.
Миссис Вивиш повернула к северному концу площади и дошла до ее северо-западного угла, когда с неподдельной радостью и с чувством глубочайшего облегчения она увидела знакомую фигуру, сбегающую со ступеней Лондонской библиотеки.
– Теодор! – окликнула она слабым, но проникновенным голосом умирающей. – Гамбрил! – Она взмахнула зонтиком.
Гамбрил остановился, посмотрел по сторонам и, улыбаясь, пошел ей навстречу.
– Как приятно, – сказал он, – и в то же время как прискорбно.
– Почему прискорбно? – спросила миссис Вивиш. – Разве встретить меня – это дурной знак?
– Прискорбно, – объявил Гамбрил, – потому что я должен попасть на поезд и не могу воспользоваться этой встречей.
– Ах нет, Теодор, – сказала миссис Вивиш, – ни на какой поезд вы не попадете. Вы пойдете завтракать со мной. Так предписало провидение. Не скажете же вы провидению «нет».
– Придется. – И Гамбрил покачал головой. – Я уже сказал «да» кой-кому еще.
– Кому именно?
– Ах! – сказал Гамбрил скромно и в то же время дерзко-таинственно.
– А куда вас повезет ваш пресловутый поезд?
– Опять-таки: ах! – ответил Гамбрил.
– Какой вы нестерпимо скучный и глупый! – объявила миссис Вивиш. – Можно подумать, что вы шестнадцатилетний школьник, который идет в первый раз на свидание с продавщицей. В ваши годы, Гамбрил! – Она покачала головой, улыбнулась страдальчески и презрительно. – А кто она? И где вы подцепили это жалкое существо?
– Она вовсе не жалкая, – запротестовал Гамбрил.
– Но безусловно, из тех, кого можно подцепить. Да? – Банановая кожура лежала как растерзанная морская звезда в водостоке прямо перед ними. Миссис Вивиш сделала шаг вперед, осторожно подцепила кожуру острием зонтика и преподнесла своему собеседнику.
– Merci, – поклонился Гамбрил.
Миссис Вивиш бросила кожуру обратно в водосток.
– Как бы то ни было, – сказала она, – молодая леди может подождать, пока мы позавтракаем.
Гамбрил покачал головой.
– Я условился, – сказал он. Письмо Эмили лежало у него в кармане. Она сняла очаровательный коттедж под самым Робертсбриджем, в Суссексе. Да, самый очаровательный, какой только можно себе представить. На все лето. Он может приехать к ней погостить. Он протелеграфировал, что выедет сегодня же с двухчасовым с вокзала Чаринг-Кросс.
Миссис Вивиш взяла его под руку.
– Идемте, – сказала она. – Тут в пассаже между Джермин-стрит и Пиккадилли есть почтовое отделение. Вы можете послать оттуда ваши глубочайшие сожаления. Немного выдержки приносит в таких делах только пользу. Зато с каким восторгом вас встретят завтра!
Гамбрил позволил миссис Вивиш увести себя.
– Вы – невыносимая женщина, – сказал он, смеясь.
– Это вместо благодарности за то, что я приглашаю вас завтракать!
– О, я благодарен, – сказал Гамбрил. – И поражен.
Он взглянул на нее. Миссис Вивиш улыбнулась и несколько секунд пристально смотрела на него светлым беззаботным взглядом. Она ничего не сказала.
– И все-таки, – не унимался Гамбрил, – к двум я должен быть на вокзале, знаете.
– Но мы завтракаем у Веррея.
Гамбрил покачал головой.
Они были на углу Джермин-стрит. Миссис Вивиш остановилась и изложила свой ультиматум, особенно внушительный потому, что он был произнесен слабеющим голосом человека, в последний раз в жизни произносящего in articulo[84]84
Членораздельно (лат.).
[Закрыть] нечто крайне важное и окончательное.
– Мы завтракаем у Веррея, Теодор, или я никогда, никогда больше не буду с вами разговаривать.
– Войдите в мое положение, Майра, – взмолился он.
Почему он не сказал ей, что у него деловое свидание…
И нужно ему было делать эти дурацкие намеки – да еще таким тоном!
– Не имею никакого желания, – сказала миссис Вивиш.
Гамбрил сделал жест, выражавший отчаяние, и смолк. Ему представилась Эмили среди ее родной тишины, Эмили, окруженная цветами, в коттедже слишком даже коттеджистом, увитом жимолостью, мелкими розами и мальвами – хотя, немного подумав, он сообразил, что все эти цветы, пожалуй, еще не распустились, – в белом муслиновом платье, извлекающая из коттеджного пианино наиболее легкие пассажи ариетты. Чуточку нелепая, пожалуй, когда о ней думаешь вот так; но чудесная, но очаровательная, но чистая сердцем и безупречная в своей светлой, прозрачной цельности, совершенная, как кристалл идеально правильной формы. Она будет ждать его; они будут гулять по веселым лугам – или, может быть, там будет наемная двуколка, запряженная толстым пони, напоминающим бочку на ножках, – они будут искать цветы в лесах, и, может быть, он даже припомнит, какого рода шум производит горлинка; а если даже не припомнит, он все равно может сказать, что припомнил. «Это горлинка, Эмили. Слышите? Вот она поет: твидли-видли, видльди-ди».
– Я жду, – сказала миссис Вивиш. – Терпеливо жду.
Гамбрил посмотрел и увидел на ее лице улыбку трагической маски. Собственно говоря, подумал он, Эмили будет там и завтра. Глупо ссориться с Майрой из-за такого, в сущности говоря, пустяка. Глупо ссориться с кем бы то ни было из-за чего бы то ни было; а с Майрой, из-за такой чепухи, тем более глупо. В этом белом платье с черными волнистыми арабесками она выглядит, подумал он, очаровательней, чем всегда. Было время, когда в прошлом… Прошлое влечет за собой настоящее… Нет; что ни говори, она прекрасный собеседник.
– Что же, – сказал он, решительно вздыхая, – идемте, я пошлю телеграмму.
Миссис Вивиш ничего не ответила, и, перейдя через Джермин-стрит, они направились к почте через узкий пассаж вдоль голой стены похожего на амбар реновского Сент-Джемса.
– Я объясню несчастным случаем, – сказал Гамбрил, когда они вошли; и, подойдя к окошечку телеграфа, он написал: «Несчастный случай по дороге на вокзал ничего серьезного но слегка нездоров приеду тем же поездом завтра». Он написал адрес и передал бланк.
– Слегка – что? – спросила телеграфистка, прочитывая телеграмму и тыкая в каждое слово по очереди тупым концом своего карандаша.
– Слегка нездоров, – сказал Гамбрил, и ему вдруг стало очень стыдно. «Слегка нездоров» – нет, знаете, это уж слишком. Он возьмет телеграмму назад, он все-таки поедет.
– Готово? – спросила миссис Вивиш, отходя от другого окошка, где она покупала марки.
Гамбрил просунул в окошечко флорин.
– Слегка нездоров, – сказал он, хохоча во всю глотку, и направился к выходу, тяжело опираясь на палку и прихрамывая. – Несчастный случай, – объяснил он.
– Что означает эта клоунада? – осведомилась миссис Вивиш.
– А как по-вашему? – Гамбрил доковылял до двери и, распахнув ее перед миссис Вивиш, остановился. Он снимал с себя всякую ответственность. Это было дело рук клоуна, а тот, бедняга, был non compos[85]85
Невменяем (лат.).
[Закрыть], не в своем уме, и не мог отвечать за свои поступки. Он заковылял вслед за ней в сторону Пиккадилли.
– Giudicato guaribile in cinque giorni[86]86
По заключению (врача), выздоровеет через пять дней (ит.).
[Закрыть], – рассмеялась миссис Вивиш. – Как мило об этом пишут в итальянских газетах. Изменница, ревнивый любовник, удар кинжалом, colpo di rivoltella[87]87
Выстрел из револьвера (ит.).
[Закрыть], или попросту англосаксонский фонарь под глазом – и все это, по мнению дежурного хирурга в Misericordia, может пройти в пять дней. А вы, милый Гамбрил, вы через пять дней выздоровеете?
– Çа dépend[88]88
Это зависит (от обстоятельств) (фр.).
[Закрыть], – сказал Гамбрил. – Могут быть осложнения.
Миссис Вивиш помахала зонтиком; перед ними к тротуару подкатило такси.
– А пока что, – сказала она, – не можете же вы идти пешком.
У Веррея они позавтракали омарами с белым вином.
– После рыбного ужина, – весело процитировал Гамбрил из времен Реставрации[89]89
Реставрация – здесь имеется в виду период с 1661 по 1688 г., когда в Англии царствовали Стюарты, лишенные трона Кромвелем во время первой английской революции. Этот период характеризуется падением нравов английского общества (безудержная роскошь, кутежи, разврат).
[Закрыть], – после рыбного ужина человек скачет как блоха. – В продолжение всего завтрака он неподражаемо дурачился. Призрак двуколки катился по веселым лугам Робертсбриджа. Но можно снять с себя ответственность; клоуна нельзя привлечь к ответу. И к тому же, когда будущее и прошлое уничтожены, когда имеет значение только вот этот миг – все равно, зачарованный он или нет, – когда нет ни причин, ни мотивов, когда не нужно думать о последствиях – какая может быть тогда ответственность, даже у неклоунов? Он выпил много рейнвейна и, когда часы пробили два и поезд начал, пыхтя, выезжать с вокзала Чаринг-Кросс, не удержался и предложил выпить за виконта Ласселя. После этого он принялся рассказывать миссис Вивиш о своих приключениях в облике Цельного Человека.
– Если бы вы только меня видели! – сказал он, описывая бороду.
– Я была бы поражена в самое сердце.
– Если так, вы меня увидите, – сказал Гамбрил. – Ах, какой Дон Джованни! La ci darem la mano, La mi dirai di si, Vieni, non é lontano, Partiam, ben mio, da qui[90]90
Дай мне руку, Скажи мне да, Идем, здесь недалеко, Отправимся, милая, отсюда (ит.) – из оперы «Дон Жуан» Моцарта.
[Закрыть]. И они идут, они идут. Без колебаний. Ни vorrei e non vorrei, ни mi trema un poco il соr[91]91
Хочу и не хочу, сердце мое трепещет (ит.).
[Закрыть]. Прямым сообщением.
– Felice, io so, sarei[92]92
Счастлива, я знаю, буду (ит.) – оттуда же.
[Закрыть], – вполголоса еле слышно пропела миссис Вивиш со своего далекого смертного одра.
Ах, счастье, счастье; немного скучное, как мудро сказал некто, когда на него смотришь со стороны. Оно в дуэтах у пианино в коттедже, в собирании, рука об руку, растений для hortus siccus[93]93
Буквально – сухой сад (лат.); синоним гербария.
[Закрыть]. Оно в спокойствии и тишине.
– Да, но история молодой женщины, вышедшей замуж четыре года назад, – воскликнул Гамбрил в клоунском восторге, – и оставшейся до сего дня невинной девушкой, – какая находка для моих мемуаров! – В зачарованной темноте он изучил ее юное тело. Он посмотрел на свои пальцы: они знали ее красоту. Он забарабанил по скатерти первые аккорды двенадцатой сонаты Моцарта. – И даже спев свой дуэт с Дон Жуаном, – продолжал он, – она осталась девушкой. Есть целомудренные наслаждения, сублимированная чувственность. В этом сладострастии больше остроты, – и жестом владельца ресторана, выхваляющего специальность фирмы, он поцеловал кончики пальцев, – чем во всех более грубых блаженствах.
– О чем это вы? – спросила миссис Вивиш.
Гамбрил допил стакан.
– Я говорю эзотерически, – сказал он, – для собственного удовольствия, не для вашего.
– Вы лучше расскажите еще что-нибудь о бороде, – предложила миссис Вивиш. – Мне она страшно понравилась.
– Ладно, – сказал Гамбрил, – попробуем сохранять последовательность в бесчестии.
Они долго сидели, покуривая папиросы; было уже половина четвертого, когда миссис Вивиш выразила желание уйти.
– Почти пора пить чай, – сказала она, взглянув на часы. – Одна чертовская еда за другой. И ни одного нового кушанья. И с каждым годом все больше надоедают старые. Омар, например, – как обожала я когда-то омаров! А сегодня – по правде говоря, Теодор, только ваши разговоры помогли мне доесть омара.
Гамбрил приложил руку к сердцу и поклонился. Им вдруг овладело глубокое уныние.
– Или ви́на: когда-то «Орвието» казалось мне божественным напитком. А этой весной, когда я была в Италии, оказалось, что это всего лишь грязноватая разновидность скверного «Вуврэ». Или те мягкие конфеты, которые они зовут «фиат»; раньше я объедалась ими до тошноты. А на этот раз в Риме меня затошнило прежде, чем я доела первую конфету. – Миссис Вивиш покачала головой. – Одно разочарование за другим.
Они вышли темным пассажем на улицу.
– Мы едем домой, – сказала миссис Вивиш. – Сегодня у меня нет сил делать что-нибудь еще. – Посыльному из ресторана, открывавшему дверцу такси, она дала адрес своего дома в Сент-Джемс. – Неужели нельзя вернуть прежнюю остроту ощущений? – утомленно спросила она, когда они медленно ехали по запруженной Риджент-стрит.
– Если гнаться за ней, то нельзя, – сказал Гамбрил, в котором клоун исчез окончательно. – Если сидеть неподвижно, она, может быть, вернется сама… Тогда услышишь слабый звук приближающихся сквозь тишину шагов.
– И не только с кушаньями так, – сказала миссис Вивиш, сидевшая, закрыв глаза, в своем углу.
– Охотно верю.
– Со всем на свете так. Все теперь не такое, как раньше. И чувствуешь, что никогда не будет таким.
– Никогда, – каркнул Гамбрил.
– Никогда больше, – отозвалась миссис Вивиш. – Никогда больше. – Но слезы так и не подступали к глазам. – Вы знали когда-нибудь Тони Лемба? – спросила она.
– Нет, – ответил Гамбрил из своего угла. – А что?
Миссис Вивиш не ответила. В самом деле, что можно сказать о нем? Ей представились его очень ясные синие глаза и золотистые русые волосы, которые были светлее коричневого лица. Коричневое лицо и шея, красно-коричневые руки; а вся остальная кожа была у него белая как молоко.
– Я была очень привязана к нему, – сказала она наконец. – Вот и все. Он был убит в тысяча девятьсот семнадцатом, как раз в это время. Кажется, это было так давно, не правда ли?
– Разве? – Гамбрил пожал плечами. – Не знаю. Прошлое уничтожено. Vivamus, mea Lesbia[94]94
Будем жить, моя Лесбия (лат.).
[Закрыть]. Если бы у меня было не такое подавленное настроение, я обнял бы вас. Это было бы некоторым возмещением за мое… – он постукал концом трости по своей ноге, – за мой несчастный случай.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































