Текст книги "Шутовской хоровод. Эти опавшие листья"
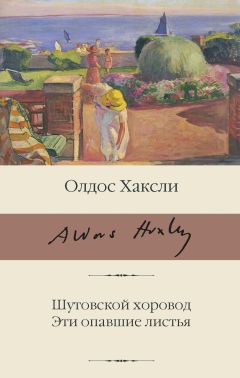
Автор книги: Олдос Хаксли
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Вы тоже подавлены?
– Никогда не нужно пить за завтраком, – сказал Гамбрил. – Тогда весь день будет испорчен. Кроме того, никогда не нужно думать о прошлом или заглядывать в будущее. Таковы сокровища древней мудрости. Но, может быть, после чашки чая… – он нагнулся вперед, чтобы рассмотреть цифры на счетчике, потому что машина остановилась, – …после глотка возбуждающего таннина… – он распахнул дверцу, – …мы почувствуем себя лучше.
Миссис Вивиш мученически улыбнулась.
– Для меня, – сказала она, выходя на тротуар, – даже таннин потерял свою силу.
Гостиная миссис Вивиш была отделана со вкусом и модернистично. Мебель была обита тканями, изготовленными по эскизам Дюфи, – скаковые лошади и розы, группы крошечных теннисистов посреди огромных цветов; рисунок – серый и цвета охры на белом фоне. Было два абажура работы Балла. На бледных, усыпанных розами стенах висели три портрета хозяйки дома, написанные тремя различными художниками и абсолютно непохожие один на другой, традиционные натюрморты с апельсинами и лимонами и довольно отталкивающее современное ню, написанное зеленой краской двух оттенков.
– А как наскучила мне эта комната и вся эта противная мазня! – воскликнула, входя, миссис Вивиш. Она сняла шляпу и, остановившись перед зеркалом, висевшим над камином, пригладила свои медные волосы.
– Вы бы сняли загородный коттедж, – сказал Гамбрил, – купили бы пони и двуколку и катались по веселым лугам в поисках цветов. После чая вы открывали бы тамошнее пианино, – и в соответствии со своими словами Гамбрил сел за бютнеровский рояль, – и играли бы, играли бы. – Очень медленно, с пародийной выразительностью, он сыграл начальную тему ариетты. Кончив, он повернулся к миссис Вивиш: – Тогда вам не было бы скучно.
– Вы так думаете? – спросила миссис Вивиш. – А с кем вы предлагаете мне разделить мой коттедж?
– С тем, кто вам нравится, – сказал Гамбрил. Его пальцы повисли, точно размышляя над клавишами.
– Но мне не нравится никто, – крикнула миссис Вивиш со своего смертного одра. Вот: правда сказана. Она похожа на шутку. Тони умер пять лет назад. Эти ясные синие глаза – да, никогда больше. Все сгнило, превратилось в ничто.
– А вы попробуйте, – сказал Гамбрил, руки которого начали овладевать двенадцатой сонатой. – Попробуйте.
– Я и пробую, – сказала миссис Вивиш. Опершись локтями о камин, положив подбородок на сложенные руки, она пристально смотрела на свое отражение в зеркале. Бледно-голубые глаза смотрели не мигая в бледно-голубые глаза. Красный рот и его отражение обменивались болезненными улыбками. Она пробовала; теперь ей противно было подумать, как часто она пробовала; она пробовала полюбить кого-нибудь, все равно кого, так же сильно, как Тони. Она пробовала восстановить, возродить. А на деле ничего не получалось, кроме отвращения. – Мне это не удавалось, – сказала она после паузы.
Музыкальная тема перешла из F-мажор в D-минор; быстрыми анапестами она поднялась до одной длительной ноты, потом снова спустилась, снова поднялась, потом была промодулирована в С-минор, потом через пассаж дрожащих нот перешла в А-мажор, в доминантное D, в доминантное С, в С-минор и, наконец, в новую четкую тему в мажоре.
– Тогда мне вас жаль, – сказал Гамбрил, давая своим пальцам играть самим по себе. Кроме того, ему было жаль жертв этих безнадежных попыток миссис Вивиш. Ей, может быть, не удавалось полюбить их – зато они, бедняги, обычно любили ее слишком мучительно… Слишком… Он вспомнил холодные, влажные пятна на подушке, в темноте. Те безнадежные, сердитые слезы. – Вы когда-то едва не убили меня, – сказал он.
– Только время убивает, – сказала миссис Вивиш, продолжая глядеть в свои бледно-голубые глаза. – Я никогда никого не делала счастливым, – добавила она после паузы. Никогда никого, подумала она, кроме Тони, но Тони убили, прострелили ему череп. Даже ясные глаза сгнили, как всякая падаль. Она тоже была счастлива тогда. Никогда больше.
Вошла горничная с подносом.
– А! Таннин! – в восторге воскликнул Гамбрил и прервал свою игру. – Единственная надежда на спасение. – Он налил две чашки и, взяв одну из них, подошел к камину и остановился позади миссис Вивиш, медленно прихлебывая бледный напиток и глядя через ее плечо на отражения их обоих в зеркале. – La ci darem, – промурлыкал он. – Эх, будь у меня моя борода! – Он погладил подбородок и кончиком указательного пальца взъерошил свисающие концы усов. – Вы пришли бы, дрожа, как Церлина, под ее золотую сень.
Миссис Вивиш улыбнулась.
– Большего я и не требую, – сказала она. – Это самая благая участь. Felice, io so, sarei: Batti, batti, о bel Mazetto[95]95
Счастливой, я знаю, буду; Бей же, бей, прекрасный Мазетто (ит.) – из оперы «Дон Жуан» Моцарта, ария Церлины.
[Закрыть]. Завидна участь Церлины!
Служанка снова вошла, без предупреждения.
– Там джентльмен, – сказала она, – говорит, что его фамилия Шируотер, он хотел бы…
– Скажите ему, что меня нет дома, – сказала миссис Вивиш не оборачиваясь.
Наступило молчание. Подняв брови, Гамбрил смотрел через плечо миссис Вивиш на ее отражение. Ее глаза были спокойны и лишены выражения, она не улыбалась и не хмурилась. Гамбрил продолжал смотреть вопросительно. Под конец он расхохотался.
Глава 15
Играли последнюю заокеанскую новинку – «Что он Гекубе?»[96]96
Слова Гамлета об актере: «Что он Гекубе? И что она ему?»
[Закрыть]. Сладко, сладко и пронзительно, саксофон пронизывал вас до самых кишок состраданием и нежностью, пронизывал, как небесное откровение, пронизывал, как паточная ангельская стрела пронзает трепетный и экстатический бок святой Терезы. Более зрело и закругленно, с более благодушной и менее мучительной чувственностью, виолончель мечтала о тех магометанских экстазах, что длятся под зелеными пальмами рая по шестьсот лет без перерыва. В эту насыщенную атмосферу скрипка открывала доступ освежающим порывам свежего воздуха, прохладного и тонкого, как запах непросохшей юбки. А рояль барабанил и тараторил, не обращая внимания на излияния остальных инструментов, отбивал такт, деловито напоминая всем участникам, что это кабаре, куда приходят танцевать фокстрот, а не церковь в стиле барокко, где святые женского пола предаются экстазам, не мягкая, блаженная долина возлежащих гурий.
При каждом повторении припева четыре негра, составлявшие оркестр, или по крайней мере трое из них, которые играли только руками – ибо саксофонист на этом месте гудел с удвоенной сладостью, украшая пассаж журчащим контрапунктическим монологом, от которого сосало под ложечкой и пронзенное сердце переполнялось восторгом, – разражались меланхоличной воющей песней:
Что он Гекубе?
Ровно ничего.
Вот почему не будет свадьбы в среду утром
В старом Бенгале.
– Какая непередаваемая печаль, – сказал Гамбрил, двигаясь в сложных фигурах танца. – Вечная страсть, вечная скорбь. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots[97]97
Безнадежные песни – самые прекрасные, и я знаю бессмертные (песни), которые одно сплошное рыдание (фр.) – стихи Мюссе.
[Закрыть]. Румтидль-ум-тум, пом-пом. Аминь. Что он Гекубе? Ровно ничего. Ничего, заметьте. Ничего, ничего.
– Ничего, – повторила миссис Вивиш. – Это мне так знакомо. – Она вздохнула.
– Я ничто для вас, – сказал Гамбрил, искусно лавируя между стеной и Харибдой какой-то пары, занятой опасным экспериментом с новым па. – Вы ничто для меня. К счастью. И тем не менее вот мы здесь, два тела с одной душой, двуспинный зверь, неделимый центавр, и фокстротируем, фокстротируем. – Они фокстротировали.
– Что он Гекубе? – Осклабленные негры повторили вопрос, повторили ответ тоном неутешного горя. Саксофон завывал на грани муки. Пары вращались, меняли темп, одно па сменялось другим с привычной точностью, словно танцующие исполняли какой-то древний обряд, полный глубокого смысла. Некоторые были в маскарадных костюмах, потому что сегодня в кабаре был вечер-гала. Молодые женщины, одетые прекраснозадыми флорентинскими пажами, гондольерами в голубых штанах, тореадорами в черных штанах, вращались по залу, как луны, в объятиях то арабов, то белых Пьеро, то – чаще – некостюмированных партнеров. Лица, отраженные в зеркалах, принадлежали к тому сорту лиц, которые полагается узнавать с первого взгляда: кабаре было «артистическое».
– Что он Гекубе?
Миссис Вивиш пробормотала ответ почти благоговейно, точно молясь всемогущему и вездесущему Ничто.
– Обожаю этот мотив, – сказала она, – этот божественный мотив. Он наполняет пространство, он движется, он дергается, он расшевеливает все внутри, он убивает время, он создает такое чувство, точно вы и в самом деле живой. Божественный мотив, божественный мотив, – с чувством повторила она и закрыла глаза, стараясь отдаться мотиву, плыть по его волнам, стараясь ускользнуть от вездесущего Ничто.
– Какой восхитительный тореадор, – сказал Гамбрил, с любовным вниманием следя за ряженой в черных штанах.
Миссис Вивиш открыла глаза. От Ничто не спасешься.
– Это та, что с Пайерсом Коттоном? У вас не очень тонкий вкус, милый Теодор.
– Чудовище с зелеными глазами![98]98
Отсылка к «Отелло» У. Шекспира, где ревность сравнивается с чудовищем с зелеными глазами.
[Закрыть]
Миссис Вивиш рассмеялась.
– Когда на меня наводили последний лоск в Париже, – сказала она, – Mademoiselle заставляла нас заниматься фехтованием. C’est un exercice très gracieux. Et puis, – и миссис Вивиш передразнила воодушевленную серьезность классной дамы, – et puis, ca développe le bassin[99]99
Это очень изящная гимнастика. И к тому же это развивает таз (фр.).
[Закрыть]. У вашей тореадорши, Гамбрил, вид такой, точно она была чемпионом по фехтованию. Quel bassin![100]100
Какой таз! (фр.)
[Закрыть]
– Ш-ш, – сказал Гамбрил. Они были бок о бок с тореадором и ее кавалером.
Пайерс Коттон повернул в их сторону свой длинный собачий нос.
– Как поживаете? – спросил он сквозь музыку.
Они кивнули.
– А вы?
– Ах, я пишу такую книгу, – крикнул Пайерс Коттон, – такую блестящую, блестящую, сверкающую книгу. – Танец уносил их в разные стороны. – Как улыбка фальшивых зубов, – прокричал он сквозь открывшийся между ними провал и скрылся в толпе.
– Что он Гекубе? – слезливо пропели развеселые негры свой вопрос, скорбно отягченный заранее известным ответом.
Ничто, вездесущее Ничто, душа мира, духовный оформитель всякой материи. Ничто в облике лунобедрого тореадора в черных штанишках. Ничто – человек с собачьим носом. Ничто – четыре негра. Ничто в форме божественного мотива. Ничто – лица, лица, которые полагается узнавать с первого взгляда, лица, отраженные зеркалами зала. Ничто – этот Гамбрил, чья рука обнимает ее за талию, чьи ноги переступают между ее ногами. Ровно ничего.
Вот почему не будет свадьбы. Не будет свадьбы в церкви Святого Георга на Ганновер-сквер – о, отчаянная попытка! – с Ничто Вивишем, этим милым мальчиком, этим милым абсолютным Ничто, занятым теперь охотой на слонов, охотой на лихорадку и хищников среди карликов тикки-тикки. Вот почему не будет свадьбы в среду утром. Ибо умер Лисидас, не успевши расцвесть[101]101
Цитата из элегии Мильтона «Лисидас».
[Закрыть]. Ибо легкие соломенные волосы (даже пряди не осталось), коричневое лицо, красно-коричневые руки и гладкое отроческое тело, молочно-белое, молочно-теплое – от всего этого теперь не осталось ничего, ровно ничего – ничто все эти пять лет, – и сияющие синие глаза такое же ничто, как все.
– Каждый раз одни и те же люди, – пожаловалась миссис Вивиш, оглядывая публику в зале. – Все те же знакомые лица. Никогда ничего нового. Где же молодое поколение, Гамбрил? Мы стареем, Теодор. Миллионы людей моложе нас. Где они?
– Я за них не отвечаю, – сказал Гамбрил. – Я не отвечаю даже за себя. – Ему представилась комнатка в коттедже, под крышей, с окном у самого пола и покатым потолком, о который вечно стукаешься головой; и при свете свечей наивные глаза Эмили, ее строгий и счастливый рот; и в темноте изгиб ее упругого тела под его пальцами.
– Почему они не приходят и не поют, чтобы их накормили ужином? – продолжала миссис Вивиш обиженно. – Это их святая обязанность – развлекать нас.
– Может быть, они развлекают сами себя, – надоумил Гамбрил.
– Тогда уж лучше делали бы это при нас.
– Что он Гекубе?
– Ровно ничего, – паясничая, пропел Гамбрил. Комнатка в коттедже не имела к нему никакого отношения. Он вдохнул легкий запах итальянского жасмина миссис Вивиш, на мгновение приложил щеку к ее гладким волосам. – Ровно ничего. – Счастливый клоун!
Где-то там, в старом Бенгале, под зелеными райскими пальмами, среди впавших в экстаз мистагогов и святых, стонущих от божественных ласк, музыка прекратилась. Четыре негра вытерли лоснящиеся лица. Пары распались. Гамбрил и миссис Вивиш сели и закурили.
Глава 16
Негры ушли с эстрады в конце зала. Занавес, подхваченный с обеих сторон над эстрадой, опустился, отрезав ее от остального зала – «создав два мира», – как изящным намеком выразился по этому поводу Гамбрил, – «там, где раньше был только один; причем один из этих двух миров – лучший мир», – излишне философически добавил он, – «потому что он – нереальный». Настала театральная тишина, минута ожидания. Потом занавес поднялся.
На узкой постели, может быть, на катафалке – труп женщины. Перед ним на коленях стоит муж. В ногах доктор, убирающий свои инструменты. В украшенной лентами розовой колыбели лежит чудовищный младенец.
Муж. Маргарита! Маргарита!
Доктор. Она умерла.
Муж. Маргарита!
Доктор. От заражения крови, говорят вам.
Муж. Зачем я не умер тоже!
Доктор. Завтра вы будете рассуждать иначе.
Муж. Завтра! Но я не хочу жить до завтра.
Доктор. Завтра вы захотите жить.
Муж. Маргарита! Маргарита! Жди меня там: мы встретимся в долине блаженства!
Доктор. Вы надолго переживете ее.
Муж. Смилуйся над нами, Христос!
Доктор. Вы бы лучше подумали о ребенке.
Муж (вставая с колен и угрожающе наклоняясь над колыбелью). Это и есть Чудовище?
Доктор. Ребенок как ребенок, не хуже других.
Муж. Чудовище, зачатое в ночь непорочного наслаждения, да пройдет твоя жизнь без любви, нечистой и унизительной!
Доктор. Чудовище, зачатое в мраке и похоти, да будет тебе твоя собственная нечистота казаться небесной!
Муж. Убийца, всю жизнь умирай медленной смертью!
Доктор. Ребенка надо покормить.
Муж. Покормить? Чем?
Доктор. Молоком.
Муж. Ее молоко застыло в грудях.
Доктор. Но есть коровы.
Муж. Да, туберкулезные, короткорогие. (Зовет.) Приведите сюда Короткорожку!
Голоса (за сценой). Короткорожка! Короткорожка! (Затихая.) Коротко…
Доктор. В тысяча девятьсот двадцать первом году двадцать семь тысяч девятьсот тринадцать женщин умерло от родов.
Муж. Но ни одна из них не принадлежала к моему гарему.
Доктор. Каждая из них была чьей-нибудь женой.
Муж. Без сомнения. Но те, кого мы не знаем, всего лишь статисты в человеческой комедии. А мы – герои.
Доктор. Не в глазах зрителей.
Муж. Что мне до зрителей? О, Маргарита! Маргарита!..
Доктор. Двадцать семь тысяч девятьсот четырнадцатая.
Муж. Единственная!
Доктор. А вот и корова.
Дурачок приводит Короткорожку.
Муж. Ах, милая Короткорожка! (Он гладит животное.) Ее исследовали на прошлой неделе, так ведь?
Дурачок. Так, сэр.
Муж. И нашли туберкулез. Так?
Дурачок. Даже в вымени, с вашего позволения.
Муж. Великолепно! Подоите корову, сэр, в этот грязный таз.
Дурачок. Слушаюсь, сэр. (Доит корову.)
Муж. Ее молоко – ее молоко уже остыло. Все, что в ней было женского, застыло и свернулось в ее грудях. О Господи! Какой млечный чудотворец заставил его снова течь?
Дурачок. Таз полон, сэр.
Муж. Тогда уведите корову.
Дурачок. Идем, Короткорожка; идем со мной, Короткорожка. (Уходит с коровой.)
Муж (наливает молоко в рожок с длинной трубкой). Вот тебе, Чудовище, пей за свое здоровье. (Дает рожок ребенку.)
Занавес.
– Немного тяжеловато, пожалуй, – сказал Гамбрил, когда занавес опустился.
– Но мне понравилась корова. – Миссис Вивиш открыла свой портсигар: он был пуст. Гамбрил предложил ей папиросу. Она покачала головой. – Мне вовсе не хочется курить, – сказала она.
– Да, корова была в духе лучших традиций феерии, – согласился Гамбрил. Ах! Как давно он не был на рождественской феерии. Со времен Дана Лено[102]102
Джордж Голвин (1860–1904), по сцене Дан Лено – известный английский комический актер.
[Закрыть]. Все маленькие кузены, дядюшки и тетушки с отцовской и материнской стороны, целые десятки родственников – каждый год они занимали добрую половину ряда в партере Друрилейнского театра. Липко-сладкие булочки переходили из рук в руки, циркулировали шоколадки; взрослые пили чай. А феерия шла и шла, великолепие сменялось великолепием под сияющей аркой сцены. Часы за часами; и взрослым всегда хотелось уйти до арлекинады. А дети наедались шоколадом до тошноты или испытывали такую потребность немедленно выйти, что их приходилось выводить, и по дороге натыкались на все ноги, и от каждого толчка потребность становилась еще более мучительной – посреди выступления трансформатора. И тогда был Дан Лено, неподражаемый Дан Лено, теперь мертвый, как бедный Йорик, такой же череп, как череп любого другого человека. И мама, вспомнил он, иногда смеялась до того, что слезы катились у нее по щекам. Она умела радоваться безудержно, от всего сердца.
– Поскорей бы они начинали вторую сцену, – сказала миссис Вивиш. – Ничто так не раздражает меня, как антракты.
– Большая часть нашей жизни – это антракт, – сказал Гамбрил. В этом состоянии смешливой подавленности он был склонен изрекать сентенции.
– Ах, пожалуйста, без афоризмов, – запротестовала миссис Вивиш. Впрочем, подумала она, разве сама она не ждет все эти годы, чтобы поднялся занавес, ждет, в каком-то неописуемом томлении духа, когда поднимется занавес, скрывший от нее, десять столетий назад, синие глаза, золотисто-русые волосы и загорелое лицо? – Слава Богу, – сказала она очень серьезно, словно испуская дух, – вот и вторая сцена!
Занавес поднялся. В пустой комнате стояло Чудовище, превратившееся теперь из младенца в худощавого и сутулого юношу с кривыми ногами. В глубине сцены большое окно, выходящее на улицу, мимо него идут прохожие.
Чудовище (соло). Молодые девушки в Спарте, говорят, боролись нагие с нагими спартанскими юношами. Солнце ласкало их кожу, пока они не становились бронзовыми и прозрачными, как янтарь или фляга с оливковым маслом. У них были твердые груди и плоские животы. Они были чисты чистотой прекрасных животных. Их мысли были непорочны, их умы спокойны. Я харкаю кровью, а иногда чувствую у себя во рту что-то вязкое, мягкое и тошнотворное, как слизняк, – это значит, я выхаркал кусок легкого. В детстве я страдал рахитом, и мои кости искривились и стали старыми и ломкими. Всю жизнь я жил в этом огромном городе, где купола и шпили окутаны зловонным туманом, скрывающим солнце. Серые и скользкие лохмотья легких, которыми я харкаю, черны от копоти, которую я вдыхал все эти годы. Теперь я достиг совершеннолетия. Долгожданный двадцать первый год сделал меня полноправным гражданином этой великой империи, благородные пэры которой – владельцы «Зеркала большого света», «Новостей дня» и «Вечерней почты». Где-то должны быть другие города, построенные людьми для того, чтобы жить. Где-то в прошлом, в будущем, бесконечно далеко… Но, может быть, единственные планы улучшения улиц, приносящие хоть какую-нибудь пользу, – это планы, зарождающиеся в уме тех, кто живет на этих улицах; любовные планы по большей части. А! Вот и она!
Входит юная леди. Она стоит за окном, не обращая внимания на Чудовище; по-видимому, она кого-то ждет.
Она подобна ветке цветущей груши. Когда она улыбается, точно звезды загораются в небе. Ее волосы подобны спелой пшенице, ее щеки подобны плодам земным. Ее руки и ноги прекрасны, как душа святой Екатерины Сиенской. А ее глаза, ее глаза не затуманены мыслью, они прозрачно-чисты, как вода из горных ключей.
Юная леди. Если я подожду до летней распродажи, ярд крепдешина подешевеет по крайней мере на два шиллинга, а на шесть рубашек это выйдет целое состояние. Но весь вопрос в том, удастся ли мне проходить с мая до конца июля в своем старом белье.
Чудовище. Если бы я знал ее, я познал бы весь мир.
Юная леди. Мои рубашки такие мещанские. А если Роджер вдруг…
Чудовище. Или, вернее, я мог бы не познавать его, потому что у меня был бы мой собственный мир.
Юная леди. Если… если он это сделает – мне будет ужасно стыдно за мои рубашки… они как у прислуги…
Чудовище. Когда любишь, приемлешь весь мир: любовь положит конец скепсису.
Юная леди. Он уже как-то раз…
Чудовище. Осмелюсь ли я, осмелюсь ли сказать ей, как она прекрасна?
Юная леди. В общем, пожалуй, лучше купить теперь, хотя это выйдет дороже.
Чудовище (с мужеством отчаяния, словно атакуя батарею, подходит к окну). Прекрасная! Прекрасная!
Юная леди (смотрит на него). Ха-ха-ха!
Чудовище. Я люблю вас, цветущая ветка груши; я люблю вас, золотая пшеница; я люблю вас, прекрасный земной плод; я люблю вас, тело, подобное мыслям святой.
Юная леди (хохочет вдвое громче). Ха-ха-ха!
Чудовище (берет ее за руку). Не будьте жестокой! (Им овладевает сильный приступ кашля, который трясет его, терзает, сгибает в три погибели. Платок, который он подносит к губам, залит кровью.)
Юная леди. Вы отвратительны! (Она подбирает платье, не желая прикасаться к Чудовищу.)
Чудовище. Но клянусь вам, я люблю вас, я… (Кашель снова прерывает его.)
Юная леди. Пожалуйста, уйдите. (Другим голосом.) А, Роджер! (Она идет навстречу появившемуся на улице курносому юнцу с курчавыми волосами и лицом кучера.)
Роджер. Я оставил мотоциклетку на углу.
Юная леди. Что ж, едем.
Роджер (показывает на Чудовище). А это что такое?
Юная леди. О, ничего особенного.
Оба хохочут во все горло. Роджер уводит ее, фамильярно поглаживая по спине.
Чудовище (смотрит ей вслед). У меня под левым соском рана. После того как я ее увидел, ни одна женщина не кажется мне привлекательной. Я не могу…
– Боже! – прошептала миссис Вивиш. – До чего мне надоел этот молодой человек.
– Должен признаться, – ответил Гамбрил, – мне нравятся нравоучительные истории. Мне нравится приятная возвышенная туманность этих символических обобщенных фигур.
– Вы всегда были восхитительно простодушны, – сказала миссис Вивиш. – Но кто это там? Лишь бы только они не оставляли этого молодого человека одного на сцене!
Другая женская фигура появилась на улице за окном. Это Проститутка. Ее лицо, раскрашенное в несколько цветов – красный двух оттенков, белый, зеленый, голубой и черный, – представляет собой изысканнейший натюрморт.
Проститутка. Эй, мальчик!
Чудовище. Эй!
Проститутка. Ты один?
Чудовище. Да.
Проститутка. Хочешь, я зайду к тебе?
Чудовище. Заходи.
Проститутка. Скажем, тридцать монет?
Чудовище. Как вам угодно.
Проститутка. Тогда – за дело!
Она влезает в окно, и они оба выходят в дверь слева от зрителей. Занавес на мгновение опускается, потом подымается снова. Чудовище и Проститутка выходят из левой двери на сцену.
Чудовище (вынимает чековую книжку и вечное перо). Тридцать шиллингов…
Проститутка. Нет уж, спасибо. Только не чек. Не нужно мне чеков. Почем я знаю, может, у тебя там ничего нет, и мне откажутся заплатить в банке? Нет уж, знаете, гони монету.
Чудовище. Но у меня с собой нет ни гроша.
Проститутка. А мне какое дело, чека я не возьму. Обжегшись на молоке, дуешь на лимонад, знаете.
Чудовище. Сказано вам, нет у меня денег.
Проститутка. А я тебе говорю, пока я не получу денег, я отсюда не уйду. Изволь-ка поторопиться, а то я устрою скандал.
Чудовище. Но это же глупо. Чек не фальшивый…
Проститутка. А я его не возьму. Вот и все!
Чудовище. Что ж, берите тогда мои часы. Они стоят больше тридцати шиллингов. (Вытаскивает золотые карманные часы.)
Проститутка. Благодарю покорно, чтобы меня арестовали в первом комиссионном магазине! Нет, гони монету, сказано тебе.
Чудовище. Откуда я, по-вашему, достану денег, когда ночь на дворе?
Проститутка. А я почем знаю! Доставай, и все тут; да поживей.
Чудовище. Войдите в мое положение…
Проститутка. Прислуга у тебя в доме есть?
Чудовище. Да.
Проститутка. Что ж, поди займи у нее.
Чудовище. Но это позорно, это унизительно.
Проститутка. Ладно, я сейчас такой шум подыму, что ахнешь. Подойду вот к окошку и буду орать, пока все соседи проснутся и прибежит полиция. Занимай тогда деньги у фараона.
Чудовище. Почему вы не хотите взять мой чек? Клянусь вам, он не фальшивый. У меня на счету денег гораздо больше.
Проститутка. А, заткнись! Нечего мне зубы заговаривать. Гони монету, или я подыму скандал. Раз, два, три… (Широко раскрывает рот, готовясь кричать.)
Чудовище. Погодите минутку (выходит).
Проститутка. В хорошенькое время мы живем, нечего сказать, когда всякий сопляк так и норовит надуть бедную девушку! Мерзкие, вонючие паршивцы! Я бы им всем глотки перервала!
Чудовище (возвращается). Вот вам. (Протягивает ей деньги.)
Проститутка (осматривает их на свет). Спасибо, миленький. В другой раз, когда будет скучно одному…
Чудовище. Нет, нет!
Проститутка. Где ты их достал?
Чудовище. Разбудил кухарку.
Проститутка (разражается хохотом). Ну, пока, мальчик. (Уходит.)
Чудовище (соло). А где-то есть любовь, подобная музыке. Любовь гармоничная и стройная; слияние двух душ, двух тел. Где-то бессмысленный грубый акт облекается значением, обогащается, приобретает смысл. Наслаждение, подобное вальсу Диабелли – бессмысленный мотив, превращенный гением в тридцать три баснословных вариации. Где-то…
– Ох, не могу! – вздохнула миссис Вивиш.
– Очаровательно! – возразил Гамбрил.
…любовь, подобная покрывалам из шелковистого пламени; подобная пейзажу, озаренному солнцем, на фоне темно-лиловых туч; подобная разрешению космической проблемы; подобная вере…
– Какая ерунда! – сказала миссис Вивиш.
…Где-то, где-то. Но в моей крови бактерии сифилиса…
– Нет уж, знаете! – Миссис Вивиш покачала головой. – Это слишком по-медицински!
…пробирающиеся в мозг, пробирающиеся в рот, проникающие в кости. Неутомимо.
Чудовище бросилось на пол, и занавес опустился.
– Давно бы так! – объявила миссис Вивиш.
– Очаровательно, – не сдавался Гамбрил. – Очаровательно, очаровательно!
Возле двери раздался шум. Миссис Вивиш обернулась посмотреть, что там творится.
– И в довершение всего, – сказала она, – вот вам скандалист Колмэн с каким-то неизвестным пьянчужкой.
– Неужели мы опоздали? – кричал Колмэн. – Неужели мы опоздали на прелестный, похабный фарс?
– Прелестный, похабный! – в пьяном восторге повторил его спутник, разражаясь безудержным смехом. Это был совсем молодой темноволосый мальчик; его античное лицо искажала пьяная гримаса.
Колмэн приветствовал всех своих знакомых, крича каждому какую-нибудь веселую непристойность.
– И Хамбрил-Гамбрил, – воскликнул он, заметив наконец сидевших в первом ряду Гамбрила и миссис Вивиш. – И Гетайра-Майра![103]103
Гетайра – греческое произношение слова «гетера».
[Закрыть] – Он проложил себе дорогу сквозь толпу; его юный ученик нетвердой походкой следовал за ним. – Вот они мы, – сказал он, останавливаясь перед столиком и загадочно и лукаво смотря на них блестящими голубыми глазами. – А где физиологус?
– Разве я сторож физиологусу? – спросил Гамбрил. – Он, вероятно, со своими железами и гормонами. Не говоря уже о его жене. – Он улыбнулся про себя.
– Где гормоны, там и гурманы, – сказал Колмэн, по обыкновению цепляясь за слово и отклоняясь куда-то в сторону. – Кстати, я слыхал, что в этой пьесе выведена прелестная проститутка.
– Вы опоздали, – сказала миссис Вивиш.
– Какое несчастье, – сказал Колмэн. – Мы опоздали на восхитительную шлюху, – обратился он к юноше.
Юноша только рассмеялся.
– Кстати, разрешите представить, – сказал Колмэн. – Вот это Данте, – и он показал на темноволосого юношу, – а я Вергилий. Мы совершаем круговое турне – или, вернее, спиральное турне по аду. Пока что мы дошли только до первого круга. Вот это, Алигьери, две грешных души, хотя и не Паоло и Франческа[104]104
Жертвы чистой, но незаконной любви.
[Закрыть], как вы могли бы подумать.
Юноша продолжал смеяться, блаженно, ничего не соображая.
– Когда же кончится антракт? – пожаловалась миссис Вивиш. – Я как раз говорила Теодору, что если я что-нибудь не люблю больше всего на свете, так это длинные антракты.
Кончится ли когда-нибудь антракт для нее самой?
– А если я что-нибудь не люблю больше всего на свете, – сказал юноша, впервые прерывая молчание и говоря с величайшей серьезностью, – так это… так это все на свете больше всего на свете…
– И в этом вы совершенно правы, – сказал Колмэн. – Совершенно правы.
– Знаю, – скромно ответил юноша.
Когда поднялся занавес, пожилое Чудовище, беззубое и безволосое, с черным пластырем на левой стороне носа, безобидно сидело за решеткой сумасшедшего дома.
Чудовище. Ослы, обезьяны и собаки! Так называл их Мильтон; а он-то уж знал. Впрочем, где-то, вероятно, есть и люди. Это доказывают вариации Диабелли. Купол Брунеллески больше, чем увеличенная во много раз грудь Клео де Мерод[105]105
Прославившаяся в 90-х годах XIX века красавица, аристократка, балерина брюссельского театра, отвергшая предложение стать женой короля.
[Закрыть]. Где-то есть люди, имеющие власть и живущие разумно. Подобно нашим мифическим грекам и римлянам. Живущие целомудренно. Образы богов – их портреты. Они пребывают под покровительством самих себя. (Чудовище влезает на стул и становится в позе статуи.) Юпитер, отец богов, человек, я сам себя благословляю, я поражаю громами свое собственное непослушание, я внимаю своим собственным молитвам, я изрекаю пророчества в ответ на свои собственные вопросы. Я уничтожаю экзему, сифилис, кровохарканье, рахит. При помощи любви я перестраиваю мир. Европа кладет конец нищете. Леда сметает с лица земли тиранию. Даная искореняет глупость. Произведя эти реформы в социальной клоаке, я карабкаюсь вверх, вверх, через лазейку для человека, из человеческой лазейки, за пределы человечества. Ибо человеческая лазейка, даже человеческая, темна; хотя и не так темна, как собачья лазейка, которой она была до того, как я за нее взялся. Вверх через лазейку, вверх к чистому небу. Вверх, вверх! (И Чудовище, приводя свои слова в исполнение, карабкается по перекладинам спинки стула и встает, проявляя чудеса акробатического искусства, на самой верхней перекладине.) Я начинаю видеть звезды иными глазами, и эти глаза – не мои глаза. Я был выше собаки, я стал выше человека. Я начинаю постигать форму и смысл вещей. Вверх, вверх я тянусь, я заглядываю ввысь, я достигаю вершины. (Балансирующее Чудовище тянется, смотрит вверх, стремится ввысь.) И я ловлю, и я ловлю! (При этих словах Чудовище тяжело падает стремглав на пол. Он лежит совершенно неподвижно. Через некоторое время дверь открывается, и входит Доктор, из первой сцены, с Санитаром.)
Санитар. Я слышал шум.
Доктор (который к этому времени стал древним стариком с бородой, как у рождественского деда). Похоже на то, что вы были правы. (Осматривает Чудовище.)
Санитар. Он вечно влезал на этот стул.
Доктор. Больше он не будет этого делать. У него сломана шея.
Санитар. Да что вы говорите?
Доктор. Да-да.
Санитар. Ну кто бы мог подумать!
Доктор. Прикажите отнести его в анатомический зал.
Санитар. Сейчас пошлю за носильщиками.
Все уходят.
Занавес.
– Ну, – сказала миссис Вивиш, – очень рада, что это кончилось.
Снова раздалась музыка, саксофон и виолончель, и резкий сквозняк скрипки, чтобы охладить их восторги, и ритмический стук рояля, чтобы напоминать им о деле. Гамбрил и миссис Вивиш скрылись в танцующей толпе, вращаясь, точно по привычке.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































