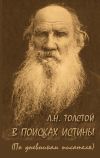Текст книги "Дневники русских писателей XIX века. Исследование"

Автор книги: Олег Егоров
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Данный критерий будет неявно присутствовать и в образных характеристиках 1860-х годов, но уже не как качество, свойственное данному человеку, а как недостающий элемент: «Кавелина можно определить следующими словами: это милый, способный, но взбалмошный юноша <…> Кавелину, подобно многим из наших передовых людей, кажется, что он подвизается единственно за истину, за право, за свободу, – а он подвизается в то же время, и чуть ли не больше всего, за свою популярность» (28.03.60); «<Граф Апраксин> умен, но, по обыкновению наших аристократов, очень легко образован <…> В этом человеке много элементов, из которых могло бы образоваться что-нибудь очень хорошее <…> но ему не достает твердых опор» (17.05.60).
В 1860-е годы под воздействием общественных движений, нарушивших стабильность жизни, привычный жизненный уклад, заметно меняется образ человека на страницах дневника Никитенко. Прежде всего, нарушается целостность человеческого образа. Автор показывает лишь фрагмент личности, причем преимущественно отрицательный. Правда, и раньше ряд характеристик был создан в отрицательном ключе. Тем не менее они обладали характером целостности. В их оценке отсутствовал пессимистический взгляд автора на человека и перспективы морального прогресса. В пореформенную эпоху негативистский подход приобретает характер устойчивой тенденции.
Не говоря уже о том, что образы людей, идейно и политически чуждых Никитенко, получают почти карикатурные формы (философ П.Л. Лавров, редактор «Русского слова» и «Дела» Г.Е. Благосветлов), деструктивная тенденция прослеживается и в оценке лиц, к которым Никитенко годами был вполне лоялен (историк С.М. Соловьев, запись от 2.05.64).
К концу жизненного пути у Никитенко возобладало совершенно парадоксальное понятие о человеке, которое постоянно сбивало его на негативные характеристики даже близких и высоко ценимых им людей: «Теперь я люблю только свой идеал нравственного величия, побуждающий меня уважать человечество и глубоко сожалеть о людях» (III, 330). Вот как, например, он пишет о своем сослуживце и приятеле, товарище министра просвещения И.Д. Делянове: «Делянов – один из лукавых армян: он притворяется добрым и умным <…> Собственно, он ни к чему не годен и не способен. Бывши попечителем Санкт-петербургского университета много лет, он решительно ничем не ознаменовал своего управления, кроме бегства из университетской залы во время акта <…>» (13.05.64). А вот характеристика П.И. Мельникова-Печерского: «Тут был и известный Мельников, плутоватое личико которого выглядывало из-за густых рыжеватых бакенбард. Он выбрасывал из своего рта множество анекдотов и фраз бойкого, но не совсем правдивого свойства» (4.12.65). В дневнике этого периода даже встречается характеристическая фраза, окрашенная цинизмом: «Знакомыми надобно обзаводиться, как мебелью» (9.09.63).
Особое место в образном мире дневника занимает личность автора. На первый взгляд, она должна была бы находиться в фокусе повествовательной структуры в силу своеобразия дневника как жанра. Однако роль и место авторского образа функционально не однозначны в разных образцах дневниковой прозы. Прежде всего они зависят от психологической установки, или типологии.
Как уже было сказано, Никитенко в своем дневнике подробнейшим образом излагает свое мировоззрение, что в значительной мере помогает понять его позицию по отношению к изображаемым событиям и степень его объективности. Как рационалист и аналитик Никитенко все подвергает суду разума, в том числе и свои собственные поступки. Но он всегда был чужд рефлексии и поэтому свой внутренний мир раскрывал до известных пределов, на уровне рассудка, а не чувств или высших эмоций. В дневнике мы встретим мало признаний, относящихся к личной жизни автора, к его семье, житейским, интимным переживаниям.
Образ автора строится по той же схеме, что и другие образы летописи. В ее основу положен некий абстрактный идеал, с которым Никитенко соизмеряет свое авторское я: «Идеалы, к которым я стремлюсь чуть ли не с детства в самообразовании и самоуправлении <…> делают то, что я кажусь самому себе крайне неудовлетворительным, и презрение, которое меня часто охватывает к человеку и человеческой судьбе, прежде всего тяжелым бременем обрушивается на меня» (III, 168–169).
Исходя из данного идеала, Никитенко лично для себя делает два вывода: 1) своеобразие судьбы ставит его в совершенно особое положение среди людей его круга и 2) побуждает перенести главную работу из внешней сферы во внутренний мир: «Ты иначе воспитался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руководим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое» (I, 317).
Однако внутренний мир Никитенко не раскрывает до конца из-за экстравертной установки своего сознания. Будучи рационалистом, он понимает его исключительно как сферу идей, т. е. ограниченно. Вот почему в дневнике так много места уделяется изложению собственного мировоззрения.
Благодаря обстоятельствам попавший в высшие бюрократические сферы, Никитенко никогда не ощущал так себя среди своих. За долгие годы пребывания в чиновничьих верхах он так и не сумел освободиться от комплекса «маленького человека» и постоянно упоминал об этом в дневнике: «Заседание в комитете по поводу устройства кантонистских школ. Члены – все сияющие и звездоносные генералы в мундирах. Я во фраке казался между ними вороною, залетевшею в стаю павлинов» (17.01.58); «Я вышел из рядов народа. Я плебей с ног до головы <…>» (23.04.60); «Заехал к Краевскому. У него сборище литераторов. Мне стало страшно. Все такие знаменитости или смотрят знаменитостями. Просто я попал в пантеон великих людей, и мне стало совестно, зачем я такой маленький» (9.11.61); «Празднование столетия Смольного монастыря <…> В зале против входа, в тени прекрасной зелени статуя Екатерины, а на всем пространстве зала были накрыты столы для завтрака. Все места были заняты женщинами, кроме одного, назначенного сановникам, между коими поместился и я, маленький и темненький человек <…>» (5.05.64).
Чувство социальной неполноценности, таившееся глубоко внутри и заявлявшее о себе в подобных мыслях, отразилось и в образной системе дневника. На переднем плане, в гуще событий, представлена социальная маска чиновника, действительного статского советника и академика, а на периферии, за событиями, порой выглядывает истинное лицо бывшего крепостного, который мучительно переживает свою социальную неполноценность и воспринимает мир глубоко эмоционально. Такая позиция выглядывания стала своеобразной особенностью образа автора в дневнике Никитенко.
Чтобы найти равновесие между двумя мирами – подавляющим своей беспощадностью внешним и хрупким и ранимым внутренним – Никитенко избирает позицию мыслителя-стоика. В стойкости и мужестве он видит высшее проявление нравственного достоинства человека: «Мужественное размышление о жизни, мужественное размышление о смерти» (9.11.62); «Сдержанность, мужество, самообладание. Не вызывай на бой судьбы, не рисуйся перед ней своею храбростью – это глупо, а покоряйся и терпи с достоинством мужа и человека и с уверенностью философа, что жизнь вовсе не заслуживает той важности, какую мы ей даем» (10.01.63).
Типология и жанр. Применительно к дневнику категория типологии имеет по крайней мере две особенности, которые свойственны только данному литературному жанру. Это прежде всего прямая зависимость от психологической установки автора (экстраверт – интроверт) и вытекающий из нее характер субъект-объектных отношений в подневных записях.
Типология дневника – это не то что, как, например, в художественной прозе, является устойчивой закономерностью при изображении человеческих характеров и событий, не способ обобщения жизненного материала, а сам предмет, т. е. не вопрос «как?», а вопрос «что?».
Поэтому в отличие от типологического многообразия художественных и иных жанров в дневниковой прозе возможны только две разновидности.
Как уже было неоднократно показано, Никитенко по психологическому складу был преимущественно экстраверт, и дневник он вел как летопись событий окружающей его жизни.
Для Никитенко все – объект, даже его духовный мир, который он чаще всего анализирует отстраненно, как скорее внешний, а не внутренний факт. Никитенко чужд рефлексии в смысле скрупулезного анализа душевной жизни, свойственный интроверту. И хотя в 1870-е годы записи интимного характера численно увеличиваются, в них отсутствует субъективизм, свойственный другой типологической разновидности жанра.
Для Никитенко обращение к собственному внутреннему миру носило характер отдыха от треволнений внешней, в основном служебной и общественной деятельности. Он всячески изгонял из своего сознания и дневника мысли, связанные с болезненностью, надломленностью душевного мира. Даже жалобы на телесные недуги носят преимущественно констатирующий характер. Болезнь и ее лечение стоят в одном ряду с другими фактами внешней и внутренней жизни; их описание не меняет ни манеры изложения, ни тональности записи. В дневнике отразилась рационально-волевая жизненная установка автора: «В нравственно-психологическом внутреннем мире человека одни только те явления заслуживают внимания, значение которых определяется разумным сознанием и воспринимается волею. Все прочее похоже на облака, гонимые и разгоняемые ветром, или на пену, мгновенно возникающую и исчезающую в волнах потока. Радость ли, горе ли приносят такие явления, они не заслуживают внимания мужественного человека или заслуживают настолько, насколько они представляют эстетический интерес, подобно явлениям внешней природы» (I, 226).
Типичность данной позиции нагляднее всего проявляется в описании такого субъективного явления, как переживание пасхальной службы. Интроверт обязательно передал бы в своем изложении тончайшие душевные движения и оттенки религиозного чувства в процессе божественной литургии. Никитенко же ограничился сугубо рациональным восприятием и описал это дорогое его сознанию событие как отстраненный факт: «Я люблю эту величественную драму-мистерию, темою которой служит отрадная, глубокая идея возрождения. Самая торжественность и пышность этой драмы, какими облекает ее наша церковь, вполне соответствует значению идеи <…> <Но> никто не одушевлен, не проникнут истиною, великою поэзиею этого священнодействия, в котором под изящными символами дух человеческий отыскивает и приветствует свою будущность, затерянную в бурных тревогах и превратностях существующего порядка вещей» (II, 116).
Органическая неспособность к изображению другого типа субъект-объектных отношений находит косвенное подтверждение в одной из последних записей 1841 года. Жалуясь на стесняющий характер общественной среды, Никитенко с чувством восклицает: «О, кровью сердца написал бы я историю моей внутренней жизни!» (I, 240). Но ничего подобного он так и не создал в силу изначальной предрасположенности и объективному способу изображения, рационалистического склада ума и незыблемости основ мировоззрения. Писать «кровью сердца» было не в природе его дарования.
Жанровое содержание дневника Никитенко оставалось стабильным на протяжении практически всех лет его ведения. Это дневник общественной жизни, в котором нашли отражение важнейшие события истории страны – в ее духовной, политической, литературной, административно-бюрократической сферах. Даже записи, которые, на первый взгляд, фиксировали факты личной жизни автора, были встроены в панораму социальных явлений. В них Никитенко не отделяет себя от общественного движения; напротив, он то и дело подчеркивает свою подчиненность, а порой и фатальную зависимость от общего потока событий: «Если я имел какие-нибудь успехи в жизни, то обязан за них не уму моему, не способностям, ни даже характеру или каким-нибудь предварительным соображениям и плану, а чистой случайности» (II, 379).
Однако в дневнике есть два вида записей, которые не вписываются в рамки господствующего жанрового содержания и образуют своеобразные жанровые окна, из которых проглядывает иной облик автора, отличный от методичного повествователя и аналитика.
К первому виду относятся мысли предельной степени субъективности, из которых становится ясно, что Никитенко порой сомневался во всесилии социальных детерминант в поведении и судьбе человека. Записи такого характера свидетельствуют о потребности автора проникнуть в глубины личности, снять с нее внешние наслоения и увидеть ядро человеческой натуры, ее природную сущность на собственном примере: «Самое важное в человеческой жизни – это уменье что-нибудь сделать. Это не ум, не доблесть, не гений, но это выше и ума, и доблести, и гения. Это то, чем люди бывают полезны и себе и другим. Без сомнения, уменье это развивается с детства и совершенствуется постоянным упражнением, навыком. Но первоначальная причина его лежит в той общей смышлености, которою всякое живое существо наделено для собственного самосохранения. Но я по какой-то странной игре немилости или каприза природы лишен этого драгоценного качества. Я ничего не умел и не умею сделать» (II, 558); «Существует ли какое-нибудь ограничение для человеческих поступков, кроме внешних условий природы и существующего порядка вещей? Другими словами: существует ли закон внутренний, закон совести, нравственный закон, который бы ограничивал наши поползновения к таким или другим деяниям? Были ошибки против правил благоразумия в моей жизни, были проступки, но преступлений или дурных дел не было» (III, 399).
Здесь намечается поворот к жанру интимного дневника.
Ко второму виду жанровых окон относятся записи предельной степени обобщенности. Они контрастно противоположны предыдущей группе, но также выражают стремление автора выйти за рамки господствующего жанрового содержания и подняться над рядовым социальным фактом путем типизации повторяющихся или сходных в своей сущности явлений. Эта группа записей по своей жанровой природе сродни записным книжкам, собраниям «частных мыслей», заметкам на память. В известной мере, здесь отразился научный склад ума Никитенко – теоретика литературы, привыкшего в своей учебной и ученой практике к обобщениям и систематизации: «<…> Общий закон для людей: быть средствами и орудиями для целого; один только великий человек свободен, и один только он достоин свободы. Он служил целому, как и все, но это служение не порабощает его. Он гражданин этого великого целого, а не раб» (I, 214); «Каждому человеку отпущена от природы известная мера сил и известный их образ. Но человек, стоящий на высшей ступени духа или которому достался большой запас сил, добирается рано или поздно до их сознания и полагает здесь основание своей нравственной конституции. Сознать свои силы и образ их – вот высшая задача мыслящего духа» (II, 315); «Нет такого дурака, который не в состоянии был бы найти что-нибудь смешное в самом умном и честнейшем человеке.
В каждом человеке, как бы он ни был умен, всегда бывает некоторая доля неблагоразумия, препятствующая успехам его предприятий и мешающая пользоваться успехами, уже достигнутыми» (III, 235).
Метод и стиль. При чтении дневника Никитенко бросается в глаза необыкновенная ясность изложения, четкость в группировке жизненного материала и строгая логика в выражении мысли. Многие записи представляют собой законченные высказывания, своеобразные повествовательные миниатюры. В этом сказались рационалистический склад ума автора и его профессиональный опыт.
Как правило, тот материал, который Никитенко отбирает для дневниковой записи, не просто излагается в виде простой суммы фактов и мыслей, а подвергается методичному анализу. Аналитизм является главным методом дневника Никитенко. В основе аналитического высказывания лежит форма силлогизма, порой перевернутая таким образом, что вывод стоит перед посылкой: «Напрасно наши ультраруссофилы восстают против Запада. Народы Запада много страдали, и страдали потому, что действовали. Мы страдали пассивно, зато ничего и не сделали. Народ погружен в глубокое варварство, интеллигенция развращена и испорчена, правительство бессильно для всякого добра» (III, 533).
В каждом общественном движении или административной мере Никитенко стремится выявить причинно-следственные отношения и выстроить цепочку логически связанных фактов. Даже те явления, которые вызывают у него отрицательную реакцию, исследуются в своих истоках и возможных последствиях: «Сильная наклонность в нынешнем молодом поколении к непослушанию и дерзости <…> Нет никакого сомнения, что это печальное явление – прямое следствие подавления в прошлом царствовании всякой мысли <…> Теперь все, особенно юношество, проникнуты каким-то озлоблением не только против всякого стеснения, но даже и против законного ограничения» (II, 168).
Как педагог, ученый и чиновник Никитенко стремится дать не только развернутую характеристику явлению, но и по возможности предложить систему средств к его желательному повороту и исходу. Наличие в дневниковых записях, наряду с оценкой событий, развернутой и логически обоснованной системы политико-управленческих рекомендаций усложняет метод и выводит дневник на границы полемико-публицистических жанров: «О настоящей конституции, может быть, нам рано еще думать; но если бы верховная власть искренно хотела бы обуздать произвол <…> то она должна была бы начать с самой себя. Это могло бы сделаться без особой формальности, двумя-тремя мерами. Во-первых, возвращение земским учреждениям самостоятельности <…> Во-вторых, решительным воспрещением министрам входить с своими докладами <…> непосредственно к государю <…> В-третьих, чтобы при решении подобных вопросов в Государственном Совете или сенате приглашались туда выборные эксперты <…>» (III, 173).
На отбор фактического материала в подневных записях решающее влияние оказали профессиональная принадлежность и чиновничья карьера Никитенко. Заполненность дня учебными и служебными обязанностями определила содержание записей, большинство из которых относятся к университету, академии, министерству, литературной жизни.
Вместе с тем стесненность кругом забот, связанных с поддержанием материального благополучия, всегда осознавалась Никитенко как вынужденная мера, не позволявшая ему в полном объеме заносить в свой журнал те мысли и события, которые выходили бы за рамки жестко регламентированного дня: «Время мое расхищено мелочными заботами канцелярской жизни. Как избежать этого?» (I, 131); «Все мое время расхищено служебными занятиями и заботами. Меня со всех сторон блокируют, как крепость» (I, 411).
Как уже было отмечено применительно к образу автора и типологии, семейно-бытовая сфера находится вне поля зрения автора. При отборе материала для дневной записи Никитенко руководствуется преимущественно тематическим принципом. Из всех возможных событий, встреч и размышлений он выбирает наиболее актуальную с точки зрения его профессионального интереса и интеллектуальной потребности тему. К той или иной теме он может возвращаться по нескольку десятков раз на протяжении многих лет. Вследствие этого в дневнике образуются большие тематические группы, которые легко запоминаются и при чтении создают эффект своеобразных сюжетов. К наиболее крупным тематическим блокам можно отнести следующие: высшая школа и образование, административная система и ее функционирование, общественная мысль, общественные движения, собственное мировоззрение.
Поскольку все темы-сюжеты скреплены ви́дением автора, его оценкой, а зачастую и личным участием в событиях, они создают целостную картину жизни, в которой господствующие тенденции и случайности искусно уравновешиваются. Мир дневника Никитенко – это мир отобранных, но закономерных явлений, в котором нет места хаотическому, беспорядочному движению.
Вопреки своему положению академика словесности, обязывающему соблюдать чистоту правил и норм русского языка, Никитенко в своей дневниковой практике придерживался более свободного взгляда на стиль. Деление жизни на официальную и частную побуждало его дифференцированно подходить и к способу организации словесного материала в двух разных сферах. Продолжая следовать профессиональным предписаниям в учебно-административно-академической области, он стремится выработать совершенно другой слог в сфере литературного быта: «Всякий должен говорить языком своего сердца и своего ума. Тот слог хорош, который делается сам, а не тот, который делают» (III, 189).
В летописи Никитенко стиль выполняет две функции – информативную и замещения. В соответствии с этим преобладают две речевые формы – повествовательная и публицистическая. Официальное положение не давало возможности Никитенко открыто выражать в печати свои мысли по злободневным социальным и литературным проблемам. Но желание высказаться со временем приобретало характер органической потребности. Где еще, как не в дневнике, можно было удовлетворить ее? Поэтому годами копившийся интеллектуальный и эмоциональный материал выплескивается на его страницы в необычной для солидного и благопристойного чиновника форме. Естественно, что основная масса публицистических высказываний приходится на период подготовки и проведения великих реформ, когда печатное слово стало средством идейно-политической борьбы партий и направлений. От спокойного повествования Никитенко переходит к острой полемике, его слово порой рассчитано на конкретного адресата и представляет собой скрытый либо явный диалог: «Полноте, и вы и я, кажется, настолько знаем людей, что не должны удивляться собственным нашим глупостям» (III, 171); «Честные, умные, просвещенные люди, здания новых порядков вы строите на песке. Вашим зданиям не достает фундамента <…> Вы выбьетесь из сил <…> Но следует ли из этого, что вы должны усесться и сидеть на ваших местах сложа руки? Боже сохрани! И вы и все немногие, верные истине и великому долгу <…> должны действовать и трудиться до конца» (III, 335).
Некоторые записи, группирующиеся в тематические циклы, представляют собой законченные публицистические статьи, как, например, высказывания о системе классического и реального образования. В них полемический запал уравновешивается позитивной программой аргументированных мер (записи 1871–1872 гг.).
Чем больше Никитенко удаляется от механизма выработки административных решений или гущи общественной жизни, тем острее становятся его публицистические тирады по жгучим проблемам современности. От спокойной манеры либерального чиновника и литератора он переходит к тону долженствования мудреца или искушенного политика: «Над людьми должны господствовать закон и страх, охраняющий закон. Все должны, хоть немного, чего-нибудь бояться: цари – революций, вельможи – немилостей, чиновники – своего начальства, богатый – воров, бедные – богатых, злоумышленники – судов и пр. <…> Только под влиянием и прикрытием страха спасается наибольшее количество добродетелей и люди не погружаются совсем с головою в омут безнравственности» (III, 149).
Помимо двух названных, в дневнике Никитенко представлена еще одна речевая форма, которая, хотя и не является продуктивной, с точки зрения научной специальности автора представляет собой немалый интерес. Это эстетически окрашенное слово.
Незначительность места, которое оно занимает, вызвано прежде всего характером жанрового содержания дневника. Но есть и еще одна причина такого расклада – своеобразие литературного дарования автора. Никитенко, хотя и делал опыты в художественной области, не имел сколько-нибудь значительного таланта, что и сказалось в его летописи, в особенности в описаниях.
Здесь проглядывает не то полная творческая беспомощность профессора изящной словесности, не то архаизм его художественного мышления. Во всяком случае, те немногие описания, которые имеются в его путевом дневнике, отдают сентиментальным примитивизмом: «Нам отвели премиленькую комнату в хорошеньком настоящем швейцарском шале <…> Немножко правее из-за зелени выглядывает прелестный домик, где пьют сыворотку» (II, 131); «Слева – отлогие берега, слегка холмистые, усеянные прелестными домиками и виноградниками <…> Мимо беспрестанно мелькали прелестные городки <…>» (II, 139); «Мы все пешком отправились к дому, который я теперь уже могу назвать вполне нашим. Домик оказался небольшой, но очень миленький, уютный, удобный. Мой кабинет чистенький, светлый – прелесть» (II, 201).
Встречающиеся в описаниях природы сравнения выглядят банальными и натянутыми: «Солнце льет свой свет на Юнгфрау, и она блестит радостно в своих снежных одеждах, как невеста, приготовляющаяся к венцу»; «Юнгфрау на минуту обнажила свои передние белоснежные члены и опять, как будто застыдясь, прикрыла их непроницаемым облаком» (II, 132); «На мгновение только проглянуло солнце, вспыхнула радуга и перекинулась через Альпы, как орденская лента через плечо кавалера» (II, 136–137).
Как сами путешествия были исключением из статично-однообразной жизни Никитенко, так и жанр описаний стилистически диссонировал с устойчивой речевой структурой текста дневника. Попытка Никитенко создать автономное стилевое образование внутри выработанной и отшлифованной формы была эстетически неудачной вследствие консервативности его языковой манеры.
Эволюция. Интенсивное развитие дневникового жанра в XIX в. естественно включало в себя существенные изменения различных его элементов. Несмотря на устойчивость эстетических и философских взглядов Никитенко, в решающей мере определивших структуру и содержание дневника, некоторые составляющие его летописи были подвержены этой тенденции. Главные направления эволюции уже были отмечены в ходе предыдущего анализа. Теперь остается лишь систематизировать их.
В эволюции дневника есть два рода изменений – универсальные и индивидуальные. Первые свойственны жанру в целом и накапливаются независимо от личности автора. Вторые присущи только данному литературному образцу.
Первым общезначимым изменением было функциональное. Переход от ранних дневников (1819–1824 гг.) к зрелым означал преодоление стадии психологической индивидуации в жизни автора. Внутренние изменения личности были спроецированы на литературную форму таким образом, что функция замещения психологических содержаний юношеского сознания преобразовалась в функцию отражения событий внешнего мира и душевной жизни, передаваемой отстраненно.
Следствием этого на первом этапе эволюции было изменение пространственно-временных форм протекания событий. Субъективно-психологическое время переходит в строго ограниченные рамки хронотопа с периодическими выходами в мир большого пространства и времени. На стадии активизации душевной жизни автора в поздних дневниках наблюдается сужение границ внешнего мира и анализ событий вне физических пределов, в форме переживания их как психических фактов.
К индивидуальным особенностям эволюции дневника Никитенко прежде всего относится изменение структуры образа человека. В последние 15 лет целостная характеристика все чаще заменяется односторонним подходом, в котором преобладают негативистские тенденции.
Другие жанровые элементы дневника – типология, метод, стиль, жанровое содержание – на протяжении 50 лет практически оставались неизменными. Это объясняется тем, что все они зависят от личностных характеристик автора и применительно к Никитенко служат выражением устойчивости мировоззрения, психологического типа и социального статуса автора.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?