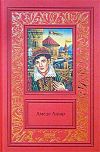Текст книги "Королевская гора и восемь рассказов"

Автор книги: Олег Глушкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Королевская гора и восемь рассказов
Олег Глушкин
© Олег Глушкин, 2016
ISBN 978-5-4483-1054-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Королевская гора
1
Сцена, сказочный и призрачный мир театра долго оставались неисполненной мечтой Аврутина. Но если внимательно посмотреть на его жизнь, то она представится не иначе как сменой ролей далеко не первого плана. И не просился он на эти роли, не искал их, но театр настигал его повсюду. Когда эта бацилла жажды актёрства вселилась в него, трудно сказать.
Он плохо помнит, как читал стихи в госпитале. После войны в этом госпитале долечивали тяжело раненых. Об этом часто вспоминала его мать. Рассказывала, как он вставал на стул, как без запинки выкрикивал: «казак на запад держит путь, казак не хочет отдохнуть». Ты был такой кукольный мальчик, необыкновенно красивый, с золотистыми кудрями, в матросском костюмчике, который я тебе сшила. Он не помнит этих подробностей. Остался приторный запах эфира, тянущиеся к нему руки раненых. У всех где-то были дети. Эта ласка, предназначенная им, доставалась маленькому Аврутину.
У него было странное имя Вилор, он узнал, что это означает Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Оказывается, так звали брата матери, погибшего на войне, в память о нем и дали это имя. В детстве он стеснялся имени, потому что воспитательница в детском саду сказала, что это цыганское имя. Много позже, когда начали клеймить Ленина, опять стало стыдно носить это имя. Но в детстве были и другие понятия и организатор театральной студии в школе, известный в прошлом артист, напротив, говорил, что это очень театральное имя. В театральный кружок долго не допускали. Мал ростом, картавит. Но готов был делать все – и убирать сцену, и таскать реквизит, и занавес поднимать. И вот случилось чудо – мальчик, игравший Хлестакова, уехал в другой город. Аврутин знал эту роль наизусть. Ему достали ботинки с толстенной подошвой, чтобы он был одного роста с девочкой, игравшей роль дочки городничего. Это была самая красивая девочка, во всей школе не было ее красивее, у нее уже обозначились груди, и глаза были такие влажные и призывные. И ему досталось счастье – по ходу спектакля касаться ее руки, ухаживать и даже обнимать ее. Хлестаков вошел в его кровь и плоть. Он часто ловил себя на том, что невольно рассказывал о себе небылицы, в которых представал личностью героической и возвышенной.
В тот год в школе после очередного медосмотра было решено всех остричь наголо. Он совершено напрасно рассказал об этом матери. Конечно, и сам он расставаться со своими кудрями не хотел, но мать возмутилась и восприняла все слишком нервно. Она примчалась в школу, когда парикмахер уже справился с половиной класса. Аврутин не слышал, что она говорила директору, как сумела того убедить. Во всяком случае, золотисто рыжие кудри сына остались нетронутыми. На следующий день Аврутин осознал, что значит быть не таким как все. Даже дружески настроенные к нему одноклассники старались толкнуть, ущипнуть, унизить. После уроков, он узнал об этом от девочки, которая играла дочь городничего, ему хотели устроить темную, затащить на пустырь, начинающийся за школьным двором и там избить. Ему удалось выскользнуть из класса раньше других и убежать домой. Дома он дал волю слезам, мать тщетно пыталась его успокоить, мать не понимала, что стала виновницей его слез. Пусть попробуют обидеть тебя! – говорила она. – Пусть попробуют. У тебя такие чудесные волосы. Они самые чистые, они самые красивые! Они так идут тебе.
На следующий день он опоздал на урок, потому что зашел перед школой в парикмахерскую и попросил состричь эти кудри. Теперь он стал как все. Объяснить матери, почему он это сделал было невозможно. Почему ты должен быть таким как все? – упрекала она. – Ну и что с того, что ты выделялся! Ты лучше и умнее других!
Никогда в школе он не стремился выделиться, учился на отлично только потому, что этого страстно хотела мать. Постепенно ее мечты о театральной карьере сына стали и его мечтами. Он верил, что жизнь не школа, где всех стригут под одну гребенку. Ему хотелось поскорее окончить учебу и стать не только артистом, но и режиссером. Мать принесла домой книгу о театре, в которой воздавалась слава не артистам, а режиссерам…
Ещё полюбил он шахматы, здесь на черно-белых квадратах тоже разворачивалось свое театральное действие, можно было посылать фигуры на любые поля, устраивать ловушки, превращать пешек в ферзи. Аврутин по самоучителю запоминал дебюты, эти дебюты, где все развертывалось по готовому сценарию, зависели только от него, какой выберет, такая и будет игра. В жизни это было далеко не так. В жизни не было готового сценария. Нельзя было угадать, как развернется действие. Один час, одно мгновение могло обрушить все возвышенные желания.
Конкурс в театральный институт был пятьдесят человек на место. Кривая ехидная улыбка экзаменатора и его вопросы загоняли в тупик претендентов. Аврутин готовился тщательно. Репетировал с мамашей все монологи. Она была в восторге, она была уверена в таланте своего сына. Все свои силы вложила в сына. Он был ее самой большой надеждой. Он был оправданием её не сложившейся жизни. Отца Аврутин не помнил. Отца увели ночью в сорок восьмом году. В эту ночь годовалый Вилор крепко спал. Жизнь без отца стала нелегкой. Мать вынуждена была работать на двух работах. Она была готова голодать, отдавала ему лучшее и большее из той пищи, что сумела добыть. Все тогда жили не сладко. Мать жила ради него и потом жила его жизнью.
Она так настойчиво пыталась добиться для него золотой медали, что когда ему поставили четверку за сочинение, заставила учительницу русского языка перепроверить и исправить. Аврутин помнит, как мать буквально влетела в школу, было такое впечатление, что у нее выросли крылья, которыми она хочет отбиваться и закрыть своего птенца. А ему хотелось сквозь пол провалиться от стыда. Зачем она унижалась? Хотела, чтобы в театральный институт он поступал только как медалист. Добилась своего, четверку исправили на пятерку. Сообщила об этом радостно. Благодарности от сына не дождалась. Даже стал упрекать ее, зачем это сделала, это не честно. Что ты понимаешь, возмутилась она, честно, не честно. У тебя талант, талант от природы. Но всякий талант требует защиты. Надо уметь заявить о себе, нужны не малые усилия на пути к сцене.
Правда, никакие усилия матери не помогли получить по немецкому языку даже четверку. Немецкий в те годы никто не хотел учить, преподавательницу немецкого звали «немкой» и всячески старались унизить старушку, ведущую свой род из тех немцев, которые ещё при Петре I начали честно служить России. Все заслоняла война, которая закончилась совсем недавно. Ведь немцы принесли столько страданий. За нелюбовь к немецкому языку пришлось расплачиваться. Сдавать экзамены наравне со всеми.
Но даже, если бы была медаль, надо было пройти творческий конкурс. Большинство поступающих носили известные фамилии, это были дети и внуки знаменитых артистов. Говорили, что только они смогут пройти через сито конкурса. Но вопреки всем страхам, творческий конкурс Аврутин прошел легко. Изобразил Хлестакова. Так страстно он декламировал: Сто тысяч курьеров, сто тысяч курьеров… Я с Пушкиным на дружеской ноге… Так эффектно взмахивал руками, что одна дама, сидящая в комиссии, даже зааплодировала.
Потом было собеседование в кадрах. Анкетные данные были в порядке. Мать достала, вернее, купила истертую бумажку, на которой сообщалось, что Анатолий Аврутин погиб в результате несчастного случая. Какой несчастный случай? – пытался узнать Аврутин, – Ты же говорила, что виной всему какая-то вакцина. Что отца оклеветали, сделали чуть ли не вредителем. Мать замахала руками. Забудь, так надо, объяснила она, будешь заполнять анкету, так и напишешь – несчастный случай.
Она была уверена, что ее Вилор покорит всех своим талантом. Только надо верить в себя, в своё предназначение, поучала мать. Надо утром смотреть в зеркало и повторять: я самый талантливый. Завет матери он старался выполнять. Но вот другие таких слов о нем не произносили. На экзамене по литературе знаменитый сценарист с кривой ухмылкой на лице упрекал в незнании Гауптмана, о пьесе «Ткачи» Аврутин понятия не имел. Сценарист ухмылялся, он не понимал, что хоронит мечты матери. Возможно, если бы он знал, он бы сжалился, сделал бы исключение, не был бы так строг.
Сообщать домой о провале значило довести мать до инфаркта. И Вилору тогда повезло, его приняли в техникум, где был недобор и где учили будущих сборщиков кораблей. Учился Аврутин поначалу спустя рукава, но неожиданно обнаружилось, что он легко читает чертежи и по проекциям сразу представляет объемную деталь. Мастер Данилыч, учивший черчению, а потом сборке, хвалил его, говорил: у вас богатое пространственное воображение, не зря я вас учу, мой милый. Мой милый, так он называл только тех, кого отличал. А пространственное воображение вовсе не было заслугой мастера. Просто Вилор всегда мысленно представлял сцену, трехмерное пространство. Читал пьесы, смотрел иллюстрации, и рисунки в его воображении оживали, в них появлялась глубина. Из вас может получиться хороший сборщик, сказал Данилыч на экзаменах. Аврутин поморщился, карьера сборщика его не устраивала.
Матери он, конечно, написал, что поступил в театральный. На каникулах домой не поехал, не смог бы смотреть в ее глаза. Записался в комсомольский стройотряд. Мать хотела вызволить его из далекой Карелии, где рыли студенты техникума силосную яму, писала почти каждый день. И потом, когда закончилась стройка, забрасывала его письмами. Если сохранилась их переписка, можно было бы прочесть её, как увлекательный почтовый роман. Роман о несостоявшейся жизни, которая была много ярче реальной. Он писал о своих ролях, о том, как ценят его такие режиссёры, как Товстоногов и Акимов. Она радостно воспринимала его ложь. Отвечала в очередном письме, что всегда верила, настоящий талант оценят. Если бы жив был твой отец и не погиб на войне твой дядя и мой брат Вилор, мы бы тотчас приехали, чтобы увидеть тебя на сцене, но сама я не решаюсь ехать. Он не звал ее, вот будет своя квартира – тогда. Писал о постановке «Оптимистической трагедии», которая его действительно потрясла. Писал, что в ней ему дали роль вожака…
На этой постановке Аврутин сидел на балконе, денег на билет в партер не было, да и трудно было достать туда билет. Казалось, что артисты обращались к нему лично, такая была энергетика в словах и в том, как их произносили. Удивительной силой ударяла каждая фраза, произнесённая со сцены. И готов был верить и вожаку – Толубееву, и, конечно же, комиссарше, артистке со сложной фамилией, которую трудно было запомнить. Но сама она ещё долго стояла перед глазами. После спектакля долго ходил по городу, почти до утра. Стояли белые ночи, все казалось в мерцающем свете почти нереальным, воображение рисовало призрачные фигуры, кружащиеся в бесконечном вальсе. В молочном воздухе исчезали тени. Он увидел, как разводятся мосты, и в этом тоже было нечто фантастическое. Не хотелось возвращаться в общежитие. Писал матери, как в полной мере ощутил, что в наше время только театр дает возможность самовыражения, дает дыхание свободы. Писал, что его пробуют сейчас на роль вожака. Возможно, мать и догадывалась, что многое не так, ведь она читала театральные обзоры и афиши и нигде не встречала имени сына. Но вера ее преодолевала сомнения. Она совсем уже собралась, несмотря на одолевшие ее артриты, ехать в северную столицу, но поездку пришлось в который раз отложить.
Вилор уже окончил учебу в техникуме и его направили на крайний запад страны, в город, который раньше назывался Кёнигсберг. Вернее, он сам туда напросился. Обольстил его вербовщик, восторженный юноша его лет, приехавший в техникум и очень красочно рассказывающий о самом западном крае. По его словам, это был даже не край страны, а ее форпост, это был самый центр Европы. Сейчас, убеждал он, туда едут самые активные и самые деловые люди, там теплее, чем в любом другом крупном городе страны, там незамерзающее море и золотистые дюны, горы чистейшего песка. Там самый крупный судостроительный завод, там ждут вас и специалистам, таким как вы, предоставят квартиры. А театр там есть, спросил Аврутин. Вербовщик радостно воскликнул: И даже не один!
Это был решающий довод. И Аврутин написал матери, что его распределили в самый западный город, где кипит театральная жизнь, и обещал, что когда устроится там и получит квартиру, вызовет ее, и они будут жить вместе. Потом он написал, что устроился в труппу местного театра. Но проверить так ли это, какую роль дали сыну мать так и не успела. Она ушла из жизни полная уверенности в том, что местный театр это тоже хороший старт для актерской карьеры, и вскоре сын прославится на всю страну.
На заводе, в городе, который лежал в руинах, Аврутина встретили хорошо, но ни о какой квартире даже речи не было, начальник отдела кадров с немигающими глазами удивленно вскинул бровь и стал выговаривать ему, как провинившемуся мальчику. Вы же видите, какой город нам достался, весь центр смела с лица земли английская авиация, выжгла напалмом, потом был штурм, люди живут в развалках, в бараках, кто вам сказал, что здесь вас ждет квартира, хотите сразу на все готовенькое, из молодых да ранний. Но где жить, денег нет, не на улице же, обиженно проговорил Аврутин. Начальник ничего не ответил, сидел, уткнувшись в бумаги, делая вид, что очень занят. Аврутин из кабинета не уходил. Потом все-таки начальник кадров смилостивился, оторвался от своих бумаг и написал направление в общежитие и даже пообещал, если Аврутин женится и покажет себя хорошим специалистом, то дадут отдельную квартиру. Но при этом заявил, что на заводе полно инженеров и техников, а нужны сборщики и сварщики. Сварку в техникуме Аврутин освоил. Даже нравилось ему, смотреть сквозь закопченное стекло щитка на веер разбегающихся искр. Но хороший шов у него никогда не получался. Но что было делать, что можно объяснить этому начальнику с немигающими глазами. Хорошо, сказал Аврутин, я согласен работать сварщиком, пойду, куда пошлете.
Потом пришлось пройти по разным кабинетам, сдать минимум по специальности, усвоить правила техники безопасности. В кабинетах сидели, возможно, и умные люди, и свое дело они знали, и знания свои хотели новичку передать. Но они, конечно, ещё не знали, что Аврутин надолго задерживаться здесь не собирается. Правда, завод произвел на него сильное впечатление: настоящий город. Чудом уцелевший в войну, добротные кирпичные здания, широкие стапеля, мощные краны, большие доки и причалы, все на совесть сработано немцами, все предусмотрено, и все же, все это казалось чужим, а сама работа сварщика не сулила ничего хорошего. И для чего учили чертежам и расчетам, никому это здесь не нужно, своих полно расчетчиков и учетчиков. И где эти обещанные театры и золотистые дюны? Существуют они или рождены воспаленным воображением вербовщика.
Аврутин был уверен, что не для того рожден, чтобы дышать аммиаком и дымом в сборочном цехе. И для себя он твердо решил, что вскоре покинет этот город, разрушенный войной, глухую провинцию, где нет коренного населения, где жители понаехали из разных концов страны и плохо понимают друг друга. В его бригаде были сплошь белорусы, почти все старше его, только бригадир Семёныч, почти квадратный крепыш, был лет тридцати. Но все ему подчинялись с полуслова. Многие прошли войну. Стропальщик Редня был сыном полка, был контужен и все время моргал левым глазом. Человек он был необычайной силы. Когда надо было домкратом поджать стальной лист, чтобы начать сварку, и надо было сделать это быстро, звали его. Никакой домкрат с ним не мог сравниться. Никому он не отказывал и в день получки, когда надо было в первых рядах пробиться к кассе, он тоже был незаменим. Зарплату выдавали в здании заводоуправления, касса была на втором этаже. Редню посылали туда с обеда, после обеда вся лестница была забита так плотно, что и комар не пролетел бы, но Редня протягивал свои руки и буквально втаскивал в очередь каждого из бригады.
Получив долгожданные деньги, все дружно отправлялись в путешествие по чепкам. Так назывались зеленые ларьки, окружившие со всех сторон завод. В ларьках этих брали дешевое спиртное – водку «коленвал» и угрей на закуску. Когда скидывались на общую выпивку и Аврутин положил в шапку пятьдесят рублей, Семеныч вынул его деньги. Отдал, да еще и нотацию прочел. Ты парень деньгами не раскидывайся, внеси трояк и ладно, надо так рассчитывать, чтобы до получки хватило. Видно, голода не знал, – зло добавил самый старый из их бригады сборщик Сава. Возможно, был прав. Родился позже, когда уже карточки отменили. Редня ворчание Савы прервал. Сказал, всем хватило от этой войны. Даже хорошо, что сюда приехали, здесь у немцев запасы оставались. Какие запасы, возразил Семеныч, они еще больше нас голодали. Я помню, кошек всех поели. Мамаша вынесет им милостыню. А бабка на нее в крик, они сына моего, твоего мужа повесили, а ты – добренькая такая. Они бережливые были, сказал Редня, когда выселили их, то мы тайники находили, где посуда, хрусталь разный, банку меда даже однажды нашли. Да и какой голод, если рыбы любой можно было наловить, полно тогда рыбы было. Аврутин слушал их споры и многого понять не мог, вот радовались все жизни, а что в ней хорошего, наверное, решал он, эта бодрость от того, что в войну уцелели, что выжили…
Аврутин не пил. Но отставать от других не хотел, опасался прослыть белой вороной. Брал в руки стакан, подносил к губам и делал вид, что пьет. А потом налегал на закуску. Угорь таял во рту. Рабочие не обращали на Аврутина внимания, пацан еще, так считали. Только Сава, заметив, что Аврутин, свой стакан оставляет почти полным, сказал зло: ты что, Рыжий!? Закусывать пришел к нам. Если так, то лучше не вяжись с нами, чужой ты для нас! И Семеныч, хотя и остановил Саву, сказав, не цепляйся дед к пацану, все же добавил обидное, на обмане не проживешь.
Этот Семёныч сразу невзлюбил Аврутина, не нравилось тому, как Аврутин делает сварочный шов, не получался сплошной, приходилось переваривать. Ты, когда работаешь, учил он Аврутина, думай о работе, думай о том, какой электрод взять, как дугу держать, а не витай в облаках! Работу любить надо, а ты ее презираешь!
Как Семеныч сразу всё раскусил, словно в мысли пробрался. Конечно, если думать только о сварочном шве, он получится идеальным, но разве жизнь в этом шве, разве человек рожден для того, чтобы всю жизнь сваривать эти шпангоуты и переборки. Аврутин молча сносил все выговоры. Понимал, что рабочие его не любят, считают чужаком. Человек, который не пьет, становился подозрительным. Пьяные разговоры разные бывают. Трезвый их запоминает, сам особо язык не развязывает. Мало ли где может пересказать. Завод был режимный, строили здесь сторожевые корабли, и даже за пьяный трёп можно было запросто очутиться за воротами. В общежитии тоже почти каждый день пили. Если и играли в шахматы, то на деньги, а выигрыш тотчас шел на покупку бутылки. Такая игра была не для него. Аврутин уходил, и хотя усталость сковывала ноги, бродил по городу, подолгу стоял напротив здания театра, возле уцелевшего памятника Шиллеру, драматургу попал в горло осколок и говорили рабочие, что в городе только Шиллер не пьёт, дыра у него в горле. В театр сходил на один спектакль, было так тяжело смотреть на толстых пожилых дам, изображавших девушек, слушать крики их, и это после ленинградских театров было просто невыносимо. Даже если возьмут в такой театр, думал Аврутин, здесь делать нечего. И уж если придти, то стать режиссером, все по-своему перевернуть, набрать молодых… Уверен был, что смог бы это сделать.
Даже рабочие его бригады признали его актёрский талант. Как-то случайно вышло всё. Пошли в парк, и как обычно после получки, затарились бутылками, закусками. После третьего стакана стали петь, но получалось всё вразнобой. Вечер был летний, теплый, расходиться не хотелось. Была здесь, в парке, забытая сцена, помост деревянный. Аврутин вскочил на этот помост и начал с монолога Гамлета – со знаменитого « Быть или не быть…». Думал, засмеют. А они примолкли. Семеныч даже прослезился. А когда закончил Аврутин, все зааплодировали. Получилось почти как в настоящем театре. И чудилось Аврутину, что шум аплодисментов нарастает, что даже листва ему хлопает. И восторгам не было конца:
– Да ты же настоящий артист! Ну, отчудил, не хуже тех, которые по радио выступают! Давай ещё! Выдай, братишка!
Еще больший успех имели его далекие от настоящего театра, почти клоунские выходки. Он мог ходить важно, как гусь, изображая директора завода, шипеть, вытянув губы и сложив их в трубочку, как кассирша, выдававшая зарплату. Всё это вызывало просто восторг в пьяной компании. Но когда он изобразил Семеныча, высовывающего кончик языка и пыхтящего словно паровоз, такого, каким видели его при закрытии нарядов, все примолкли, и только Редня, до которого не сразу все доходило, захохотал, и, сообразив, сразу смолк, а Семёныч надулся и вычел из очередной ведомости переработку Аврутина, всем начислил, а ему нет.
Так что, Аврутин понял, что лучше изображать Хлестакова, Несчастливцева, Сатина, даже директора завода, нежели знакомых людей и особенно тех, от кого зависит твоя зарплата.
За месяц отчитал с парковых подмостков всё, что помнил. Пришлось пойти в библиотеку взять Чехова, Шекспира, подучить забытое, выучить новое.
Но все же, от желания изобразить знакомых, отказаться не мог. Точно угадывал характер человека, видел какому из животных он ближе, у того беличьи уши, у этого медвежья походка, у другого шея срослась с туловищем, как у удава. Соседи по общежитской комнате смеялись до упаду. Конечно, их он, наученный горьким опытом, не изображал. Брал исторические персонажи – Наполеона, Петра I, Черчилля… Советских сегодняшних вождей тоже не трогал…
Работа в бригаде учила ещё и тому, что не стоит высовываться, лучше быть незаметным. Как говорил дед Сава: мы сидём и в ус не дуём, а станешь дуть, по шапке дадуть. Простои были частыми, иногда сутками просиживали, когда оттаскивали блок в цех, чтобы проварить потолочные швы. И надо было Аврутину высунуться, взял и написал рационализаторское предложение, чтобы сделать конвертор здесь на сборке, даже чертеж этого конвертора приложил. Все по его предложению сделали, и бригада лишилась дней простоя, за которые платили по-среднему. Всех этих тонкостей Аврутин не знал. И когда Семеныч выругал его, не сразу понял за что. И Сава ещё добавил: тебя не просят сучёныш, ты и не суйся…
Хотелось уйти подальше от всех, затаиться в углу цеха, не слушать ругани и постоянных упрёков, но деться было некуда, Семеныч зорко высматривал сачков.
В общежитии тоже редко удавалось остаться одному, но когда такой момент случался, то садился перед зеркалом и изображал и нынешних вождей, и своих соседей по общежитию. Сам был и актером и зрителем в одном лице. По ночам плохо спал, брал книгу, выходил в коридор, длинный, похожий на тот, что видел в кино, на океанском лайнере, такой и все же не такой, не общежитский полутемный, а ярко освещенный, и туалет там наверняка не общий, не такой, где все на виду. Ночи утомляли, но еще невыносимее было утро, общая суета, необходимость успеть умыться, кусануть припрятанный батон, и скорее во двор, где стояли полукрытые газики, надо было суметь втиснуться туда, в газик набивалось людей много, прижимались один к другому. Ни трамваи, ни автобусы до завода не доходили, надо было еще остановку идти через поле, летом болотистое, а зимой заснеженное. С работы возвращались мимо чепков, которые редко удавалось миновать. И так до самого входа в парк.
Однажды после получки пошел с ними в парк молодой инженер, был он тоже сюда направлен по распределению из северной столицы, театр любил, знал толк в пьесах и постановки многие не раз смотрел. И хотя он был моложе рабочих, звали его уважительно Григорий Ефимович. Были у него длинные волосы, как у аристократов прошлого века, и всегда белые рубашки с накрахмаленным воротником. И был Аврутин счастлив, потому что инженеру тоже понравились исполненные монологи. Он даже сказал, что Аврутин на уровне Юрского. Григорий Ефимович тоже почти не пил, и потом они только вдвоем долго ходили по парковым аллеям и говорили, не переставая. А на следующий день вечером Аврутин был приглашен в гости к инженеру. После общежития однокомнатная квартира показалась раем. Все стены были уставлены полками с книгами. Григорий Ефимович был родственной душой. Многих знал из мира театра и литературы. Рассказывал о своих встречах с Евтушенко, о том, как путешествовал с поэтом по Волге. Как в Самаре они отстали от парохода и догоняли на милицейском катере. Читал стихи Евтушенко наизусть. Родители Григория Ефимовича работали в столичном издательстве, и он, конечно, мог составить протеже для Аврутина, рекомендовать его своим московским знакомым. Не понимал Аврутин, почему инженер торчит здесь, но об этом не спрашивал. Ведь как здорово, что он именно здесь остался и не уехал в столицу. Не нравилось только Аврутину, что смотрел на него Григорий Ефимович свысока, каждый раз давая понять, что нисходит до дружбы с простыми сборщиком, потому что тот без него совсем пропадет. И чтобы повысить свой авторитет, показать, что и он не лыком шит, Аврутин стал выдумывать свои театральные истории. Он и раньше рассказывал о своих мнимых успехах. Но это бывало в той среде, где имена Товстоногова, Черкасова, Волчек ничего слушателям не говорили. Григорий Ефимович во всём разбирался. Поначалу он слушал внимательно и даже одобрительно кивал. А вот, когда стал ему рассказывать, как трудно было вжиться в роль Холстомера, засомневался. Не веришь, обиженно спросил Аврутин, ведь роль такая, что никто не соглашался, попробуй, сыграй лошадь, вырази чувства без слов. А я сумел!
Верю, верю, засмеялся Григорий Ефимович, верю всякому зверю. Но хочу тебе сказать, что прекрасно с этой ролью справились и Лебедев, и Борисов, я смотрел этот спектакль, и слов там у Холстомера достаточно… Да это позже, согласился Аврутин, а до него, был я первым, сам Товстоногов сказал обо мне, что лучшего Холстомера и пожелать трудно. Так, почему же заменили тебя на Лебедева или Борисова? – спросил Григорий Ефимович. Я заболел тогда, вывернулся Аврутин, не снимать же из-за этого спектакль, поймите меня правильно. Из-за этой болезни пришлось с театром расстаться.
Хорошо, что Григорий Ефимович про болезнь не стал расспрашивать. На здоровье Аврутин не жаловался. Был один изъян – плоскостопие, да и тот полезным оказался, в армию не взяли. Ведь не только с Холстомером пришлось расстаться, продолжал Аврутин, мне роль Хлестакова обещана была, не верите?
Григорий Ефимович свои сомнения высказывать не стал, но как-то после того, когда вместе они посмотрели бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани» и сидели в его уютной квартире, сказал: в жизни надо быть собой, а не казаться кем-то. Что он имел ввиду, Аврутин не сразу понял. И хотел тоже что-нибудь колкое сказать в ответ. Вроде того, что вот и вы знакомы со многими, с Евтушенко близки, а живете в разрушенном городе и ходите по утрам на завод, и как все мы, боитесь опоздать. Режим строгий и для всех одинаковый. Три раза опоздал и ступай за ворота. Неужели ваши высокопоставленные родители не смогли вас в столице пристроить…
И все же пожалел Аврутин, что выдумал все про театр, это можно рабочим рассказывать или соседям по общежитию, но не такому знающему театральный мир человеку. Часто говорили и о местном театре. Хотя Григорий Ефимович соглашался, что здесь, в провинции, театра настоящего нет, но говорил, что здесь зреют идеи, есть самодеятельные театры, вот и на заводе есть свой театр, слышали? Аврутин ответил, что не слышал, но подумал, наверное, самодеятельность, какой-нибудь заводской хор…
Зашел у них разговор и о рационализаторском предложении Аврутина, Григорий Ефимович знал об этом и даже сказал, что сейчас пересматривают нормы, и уж тогда из бригады Аврутину надо уходить. Понимаешь, сказал инженер, ты на Семеныча не злись, он с заводом сросся, он за своих сборщиков болеет, если бы все такие были, завод бы процветал. Но здесь никому и ничего не надо, потому что всё – не моё, не собственное, ты посмотри, как всё растаскивают, идут после работы к проходной, фуфайки топорщатся, у кого краска, у кого инструмент. Это все по мелочи, а на машинах что везут, и говорят открыто: что нельзя вынести, то можно вывезти… Мы здесь, как белые вороны. Да, соглашался Аврутин, ему льстило то, что инженер сказал именно: мы…
И всё же Аврутин не всегда понимал Григория Ефимовича. Инженер взял его под свою опеку, тратил часы на беседу с ним, давал читать книги. Почему? Мог ведь найти людей из своего круга. Были у Григория Ефимовича и альбомы с картинами разных художников. С собой брать он их не давал. Особенно дорожил толстой книгой на немецком языке, в которую были вставлены разворачивающиеся листы со странными картинами. С удовольствием разглядывал подолгу эти картины вместе с Аврутиным. Восклицал: какое предвидение у этого Иеронима! Называл художника по имени, словно своего давнего друга. Босх – было крупно написано на обложке. Привидения и адские чудовища на картинах этого Босха мучили людей. Некоторые люди срастались с животными, были продолжениями растений. Инженер терпеливо разъяснял, что такое сюрреализм, как Босха продолжил Сальвадор Дали. Картины притягивали и в то же время отталкивали. Неужели мир так жесток? И стоило ли пугать людей муками ада. Григорий Ефимович вздыхал, говорил, что Босх не пугал, а предупреждал. Знал художник, что пробуждаются силы зла. Но Босху и не снились те муки, что испытывали люди совсем недавно, раздетые женщины с детьми на краю расстрельных рвов, газовые камеры, массовое уничтожение.
Есть ли предел человеческой жестокости? – спрашивал сам себя инженер. Аврутин не мог и не умел с ним спорить, он не обладал знаниями, позволяющими ответить на все эти неразрешимые вопросы. Аврутин взамен ничего не мог дать. Придуманные истории о театральных успехах Аврутина инженера не интересовали. Он несколько раз заходил в сборочный цех, где работал Аврутин. Семенычу не нравились эти посещения. Что он от тебя хочет, этот козёл? – спросил бригадир. Ничего, ответил Аврутин. Смотри, опасайся этих живоглотов, предупредил Семёныч. Бригадир не любил начальников, инженеров, контролёров, всяких военпредов и прочих, как он считал, бездельников. Не брал в бригаду и женщин. Хотя были в других бригадах опытные сварщицы, не хуже мужчин справлялись с любыми швами. Считал, что от женщин одни раздоры, слезы и приставания. Да, рассказывали, что был тут случай со сварщицей Мирой, о котором Семеныч вспоминать не любил. Не любил, когда отвлекали его от работы. От Аврутина, считал он, как и от женщин, толка не будет. Один только раз попросил выручить, когда забыли во втором дне вырез для стока воды сделать. Сварщики все были силой не обделены. Хотели секцию разбирать. Потом вспомнили про Аврутина. Позвали, он обрадовался. Конечно, пролезу, ответил. А газорезкой сможешь? И газорезкой смогу, ответил, хотя до этого не делал вырезов, только сваривал. Но все обошлось, и пролез, и вырез сделал. Выбрался, лицо от копоти черным стало. И ни тебе спасибо, ни сочувствия. Хохочут. Смотрите, артист негром заделался! Теперь тебя в театр возьмут, там негры нужны. Но Миру ты заменил достойно!