Текст книги "Достоевский над бездной безумия"
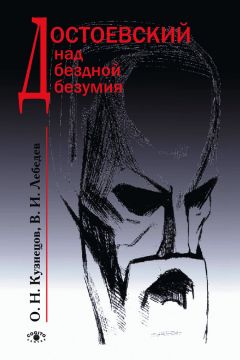
Автор книги: Олег Кузнецов
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В сопоставлении этих сходных по трагизму, но столь различных по уровню правды искусства исполнений скрипичного концерта Неточка любящим своим сердцем догадалась, что перед безумием Ефимов «…в последний раз, в судорожном отчаяньи, хотел… осудить себя… неумолимо и строго, как беспристрастный судья; но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения…» (2; 188).
Знаменитый афоризм А. С. Пушкина «Гений и злодейство – две вещи несовместные» является важнейшим для Достоевского. Не только прямое убийство художника, но и всякое несправедливое, эгоистичное, злобное деяние, мысль, направленные против истины искусства, жизни, наказуются утратой таланта. Гений, преступивший законы гуманизма и нравственности, по Достоевскому, теряет свой дар. Но надо не забывать, что гениальность, как мы постарались показать в этом разделе книги, может основываться и на слабости. Слабый может стать сильным, а слабость – импульсом к высочайшим взлетам творческой активности гения. Пример Достоевского в этом отношении особенно поучителен.
2. Увиденное в других
Герои Достоевского обыкновенно – больные, изломанные субъекты, падшие в борьбе за свое существование, но это люди, взятые из действительной жизни, продукты болезненных настроений в обществе и суровой его обстановки. Особенно метко он подмечает болезненные явления, подвергает их самой строгой оценке и как будто переживает их на самом деле.
Д. И. Писарев
Увиденное в себе определило понимание Достоевским развития душевных расстройств. Но писателю нужен был и опыт наблюдений за психическими больными. Обычно он приобретается в психиатрическом стационаре. Но Достоевскому не понадобилось посещать «сумасшедший дом». Четыре года своей жизни провел он в «мертвом доме» – каторжной тюрьме, где встретил в качестве товарищей по несчастью много больных с психическими заболеваниями. Эти впечатления и отражены в «Записках из Мертвого дома». Мы вместе с Достоевским видим, как один из больных вошел с визгом, с хохотом и, неприлично жестикулируя, пустился в пляс по палате. Причем арестанты были в восторге. Мы понимаем также, почему через три дня они уже не знали, куда от него деваться: «…он ссорился, дрался, визжал, пел песни, делал такие отвратительные выходки, что всех начинало просто тошнить» (4; 158).
Особый интерес в «Записках…» представляют наблюдения за больным с психическим расстройством, протекавшим так неявно для окружающих, что заболевание этого «тихо помешанного» не было выявлено даже врачами. В палату привели очень неуклюжего мужчину лет сорока пяти, с уродливым от оспы лицом, чрезвычайно угрюмого и мрачного. С наступлением сумерек он рассказал Горянчикову (повествователю, от имени которого написаны «Записки…»), что на днях ему назначено наказание – две тысячи шпицрутенов, но этого не произойдет, потому что дочь полковника Г. о нем хлопочет, так как влюблена в него. Не сразу Горянчиков начинает понимать нелепость фабулы бреда очарования. Странно было ему, с какими подробностями рассказывал осужденный всю нелепость, которая родилась в его расстроенной, бедной голове. «В свое избавление от наказания он верил свято. О страстной любви к нему этой барышни говорил спокойно и уверенно… дико было слышать такую романтическую историю о влюбленной девице от человека под пятьдесят лет, с такой унылой, огорченной и уродливой физиономией» (4; 160). Обдумывая происхождение этого бреда, Достоевский с клинической проницательностью психиатрии ХХ в. дал правильную трактовку интерпретационного бреда: «Странно, что мог сделать страх наказанья с этой робкой душой. Может быть, он действительно кого-нибудь увидел в окошко, и сумасшествие, приготовлявшееся в нем от страха, возраставшего с каждым часом, вдруг разом нашло свой исход, свою форму. Этот несчастный солдат, которому, может быть, во всю жизнь ни разу и не подумалось о барышнях, выдумал вдруг целый роман, инстинктивно хватаясь хоть за эту соломинку» (4; 160).
Несчастного сумасшедшего вывели через два дня к наказанию, поразившему его своей неожиданностью. Когда повели его по рядам, он стал кричать: «Караул!» В госпитале же после наказания ни с кем не сказал ни слова, был смущен и чрезвычайно грустен.
Примечательны размышления Достоевского о причинах ошибки врачей, во внимательности и доброжелательности которых к арестантам он не сомневался: «Но о том, что у него в листке написано было sаnаt, мы узнали, уже когда доктора вышли из палаты, так что сказать им, в чем дело, уже нельзя было. Да мы и сами-то еще тогда вполне не догадывались, в чем было главное дело. А между тем все дело состояло в ошибке приславшего его к нам начальства, не объяснившего, для чего его прислали. Тут случилась какая-то небрежность» (4; 160–161).
Не отсюда ли вышла заключительная фраза романа «Бесы»: «Наши медики по вскрытии трупа (Ставрогина. – Авт.) совершенно и настойчиво отвергали помешательство» (10; 516), так контрастировавшая с многочисленными признаками, указывающими на тяжелое психическое заболевание, которые будут подробно обсуждены нами ниже. Более того, еще задолго до работы над «Весами», в фельетоне, опубликованном в первом номере журнала «Время» за 1861 г., Достоевский, потрясенный судьбой отставного титулярного советника Соловьева, повторившего в реальной жизни судьбу героя его ранней повести «Господин Прохарчин», скептически высказался о возможностях патанатомии душевных заболеваний. После смерти нищего Соловьева в матрасе, на котором он спал, нашли 169022 рубля серебром. Этот факт вызвал вопрос о его психическом здоровье, и для ответа на него намечалось патологоанатомическое вскрытие. Достоевский же высказал сомнение в целесообразности последнего: «Впрочем, его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедшим. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны» (19; 75).
Следует также отметить, что, будучи на каторге, Достоевский имел возможность постоянно наблюдать за психически больными. Благодаря этому он сумел увидеть важные детали поведения больных в состоянии ремиссии, которые выпадали из наблюдений клиницистов. По своей сути ситуация, в которой был Достоевский, напоминала эксперимент с включением психолога в какую-либо группу как исследователя и в то же время участника.
Эти больные считались здоровыми, но странность, непредсказуемость их поведения заставляла пытливого наблюдателя сомневаться в их психическом здоровье. Приходилось решать вопрос, является ли то или иное отклонение просто проявлением своеобразия характера, изломанного неблагоприятной средой, или свидетельством скрыто протекающего психического расстройства. К случаям, промежуточным между болезнью и здоровьем, относится прежде всего поведение арестанта Петрова. Его взгляд был какой-то странный, пристальный, с оттенком смелости и некоторой насмешки, но смотрел он как-то вдаль, через предмет, что придавало ему рассеянный вид. При этом всегда он куда-то спешил, точно где-то кого-то оставил и там ждут его, точно где-то что-то недоделал. От Горянчикова он торопливо отправлялся куда-нибудь, садился в казарме подле кого-нибудь из разговаривающих, слушал внимательно, иногда и сам вступал в разговор даже очень горячо, а потом вдруг как-то резко замолкал. Но говорил ли он, сидел ли молча, а все-таки видно было, что он так только мимоходом, что где-то там есть дело и там его ждут. Страннее всего то, что дела у него не было никогда никакого, жил он в совершенной праздности. Случайность, непредсказуемость его поведения была также отчетлива и в разговоре. Внезапно возникали отрывочные, не связанные между собой, перескакивающие вопросы о Наполеоне III, обезьяне величиной с человека, графине Лавальер. Странными на грани психического расстройства были начало и конец его беседы. Разговор его бывал так же странен, как и он сам. Увидит, что ходит Горянчиков где-нибудь один, вдруг круто повернет в его сторону. Получив ответ на свои несвязные вопросы, Петров поблагодарит, попрощается и исчезает, оставляя в недоумении собеседника. Не случайно близкий Горянчикову каторжник М. считал Петрова психически ненормальным, хотя «не мог дать отчета, почему ему так показалось». Он говорил, что Петров «на все способен; он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается, так просто зарежет, не поморщится и не раскается» (4; 84).
Настораживает, что даже такой чуткий к творчеству Достоевского литературовед, как В. Шкловский пишет, что образ Петрова «чрезвычайно поэтичен», не замечая его патологии. Несомненные признаки латентно протекающего психического расстройства Петрова, объясняющие его странность, Шкловским романтизируются. Петров воспринимается им как «нераненый орел», «неостриженный Самсон», ожидающий труда по плечу богатырь. Морально-нравственных преград для Петрова действительно не существует, но это скорее признак тяжелой болезни, дефекта личности, а не силы. На наш взгляд, Достоевский образом Петрова предостерегает от «чар» обаяния тех, кто переступил через порог, отделяющий добро от зла, стал, так сказать, аэмоционален. Четко очерчена Достоевским также незащищенность, особая ранимость лиц паранойяльного круга. «…Это особенный тип, повсеместно между собой схожий. Это народ, жаждущий справедливости и самым наивным, самым честным образом уверенный в ее непременной, непреложной и, главное, немедленной возможности. Народ этот не глупее других, даже бывают из них очень умные, но они слишком горячи, чтоб стать хитрыми и расчетливыми…» (4; 201).
Примечательно то, что Достоевский специально отделяет этот тип бесполезно и неумело действующих людей от так называемых «народных вожаков», «естественных представителей» народа, умеющих направить массы и выиграть дело. В отличие от вожаков люди «особенного типа» «… почти всегда проигрывают дело и населяют за это остроги и каторги. Через горячку свою они проигрывают, но через горячку же и влияние имеют на массу…» (4; 201). Их слепая уверенность в успехе соблазняет даже самых закоренелых скептиков, несмотря на то, что эта уверенность имеет, как правило, весьма шаткие основания. В дело они бросаются часто без осторожности, без «того практического иезуитизма, с которым даже самый подлый и замаранный человек выигрывает дело и выходит сух из воды». В обыкновенной жизни они народ желчный, брюзгливый, раздражительный и нетерпимый, а чаще всего «ужасно ограниченный, что, впрочем, отчасти и составляет их силу». Досадно же в них то, что «вместо прямой цели они часто бросаются вкось, вместо главного дела на мелочи. Но они понятны массам: в этом их сила…» (4; 201), – размышляет Достоевский в своих «Записках…»
Социально-психологические корни интереса писателя к психическим больным и их положению в обществе не ограничиваются впечатлениями, полученными на каторге. Они уходят в опыт, накопленный в более ранние периоды жизни. Впечатления раннего детства – это, например, запомнившееся ему лишенное выражения лицо, неподвижный горящий взгляд деревенской дурочки Аграфены, встреченной им под Даровом (имение отца) с ее лишенным выражения лицом и неподвижным горящим взглядом. Не мог не взволновать юного Достоевского правдолюбец Николай Фермор, покончивший жизнь самоубийством, выбросившись в приступе безумия за борт корабля, – он был живой легендой инженерного училища, в котором учился будущий писатель. Большим потрясением был для ожидающего приговора Достоевского психоз, развившийся у его товарища по несчастью, заключенного в одиночной камере Катенева. Также, по-видимому, немало способствовали развитию и оформлению интереса Достоевского к психиатрии размышления о противоречивости не укладывающегося в рамки психического здоровья характера его отца.
Нельзя пройти в нашем анализе и мимо того, что Достоевский в «Записках из Мертвого дома» ставит рассказчика Горянчикова в такое же промежуточное между здоровьем и психической болезнью положение, как и других, ранее проанализированных нами героев: «Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что в сущности это еще не такой важный недостаток…» (4; 6). Об этом говорят и разбросанные повсюду указания на странности его поведения наряду с особой чуткостью, внимательностью, ласковостью. Загадочным в нем было то, что он был страшно нелюдим, ото всех прятался и говорил весьма мало. Во время разговора он пристально следил за каждым взглядом собеседника, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. После разговоров он выглядел утомленным. Иногда на его лице появлялся ужас, он бормотал бессвязные слова, злобно смотрел и стремительно уходил в ответ на невинное приглашение зайти и выкурить папиросу.
Целый ряд приписываемых Горянчикову личностных особенностей нетрудно увидеть в характере самого Достоевского.
Зачем же понадобилось Достоевскому заставлять читателя сомневаться в психическом здоровье рассказчика, какой художественно-эстетический эффект это обстоятельство преследовало?
А. В. Луначарский, например, связывал соответствующие особенности творчества Достоевского с его социальной биографией: «…Дело, конечно, совсем не в том, чтобы марксисты должны были отвергать самую болезнь или влияние психической болезни на произведение того или другого писателя… Однако все эти результаты чисто биологических факторов оказываются вместе с тем необыкновенно логически вытекающими из социальных предпосылок»[20]20
Луначарский А. В. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 450–451.
[Закрыть]. Именно социальное окружение, согласно этой точке зрения, «найдя в предпосылках физиологического порядка подходящую форму (несомненно связанную с самой его талантливостью), породило одновременно и его миросозерцание, писательскую манеру и его болезнь»[21]21
Там же. С. 551.
[Закрыть]. Подобный подход, как нам кажется, заслуживает дальнейшего обсуждения.
К примеру, если пониманию Достоевским психологии бедных людей способствовала его собственная бедность, то его глубоко личное отношение к «полусумасшедшим» сформировано остро переживаемым сознанием того, что он и сам болен.
Его отношение к душевнобольным полно сострадания: «Иных сумасшедших, веселых, кричащих, плачущих и поющих, арестанты сначала встречали чуть ли не с восторгом. «Вот забава-то!» – говорили они… Но мне ужасно трудно и тяжело было видеть этих несчастных. Я никогда не мог хладнокровно смотреть на сумасшедших». И далее: «Арестанты были в восторге, а мне стало так грустно…» (4; 159).
В течение четырех лет присматриваясь к каторжникам, в том числе и к больным, страдающим психическими расстройствами, Достоевский ловил такие минуты, когда раскрывается душа человека. И тогда, пишет он, «вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое понимание и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали» (4; 158).
Достоевский, как и его герой Горянчиков, – одновременно и страдалец-арестант, переносящий все тяготы острожной жизни каторжника, и наблюдатель, философски и психологически осмысливающий действия и переживания окружающих. То, что он беден, обездолен, что рассудок его, психическое здоровье подорваны, не умаляет его социальной ценности. Наоборот, страдания дают ему возможность глубоко прочувствовать переживания своих собратьев по несчастью. Читатель улавливает в образе Горянчикова, несмотря на признаки психического расстройства, отнюдь не угасшую, но возросшую человечность.
Достоевский художественно оправдал интерес своего героя не только к ужасам каторги и страданиям заключенных в условиях «мертвого дома», но и к психическим расстройствам человека, попадающего в эти чрезвычайные обстоятельства. Причем писатель как в этом, так и в последующих своих произведениях не смакует психопатологии. Ему чужда позиция стороннего наблюдателя, который смотрит на больного с психическим расстройством как на «нелюдя», своего рода «инопланетянина», непонятного и экзотического, «чужого» здоровым людям. Достоевский преодолел этот взгляд на психического больного, отождествляющий безумие со злом.
Как великий реалист и гуманист, Достоевский видит в больном с психическими расстройствами прежде всего человека, страдания которого, описанные с огромной художественной силой, вызывают эмоциональное сопереживание читателя и впервые в мировой литературе заставляют его почувствовать свою общность с такими людьми. И это ему удалось сделать благодаря тому, что он воспроизводит характер душевных расстройств не с позиции стороннего наблюдателя, а как бы полностью слившись с переживаниями своих героев, проникнув до дна их души.
Если врач-коммунар Нинель, снявший оковы с безумных, возвел их в ранг больных, то Достоевский сделал следующий шаг – возвел душевнобольных в ранг полноправных граждан. Понять всю значимость этого новаторства Достоевского до конца можно, вернувшись к поднимавшейся уже ранее проблеме социально-психологического противопоставления понятий «мы» и «они» в общественном самосознании.
Г. Ф. Поршнев писал: «Только ощущение, что есть «они», рождает желание самоопределиться по отношению к «ним», обособиться от «них» в качестве «мы»»[22]22
Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1966. С. 81.
[Закрыть].
Следуя этой социально-психологической закономерности, формированию понятия «мы – психически здоровые» в общественном сознании предшествовала конкретизация содержания противоположного понятия «они – сумасшедшие». «Сумасшедшие» в отличие от «здоровых» представляют опасность и угрозу общественному спокойствию, характеризуются нелогичностью и непонятностью поступков, непониманием речи здоровых и, наконец, невразумительностью, недоступностью смысла их собственных высказываний для нормальных людей. Это содержание понятия «сумасшествие «усвоено романтизмом, испытывающим тягу ко всему отличному от обыденности. Католически-инквизиторская религиозная модель «сумасшествия» как «одержимости нечистой силой» поддерживала отделение сумасшедших как нелюдей от всех других людей, опекаемых Богом.
Достоевский силой своего таланта заставил читателей задуматься о том, что так называемые «сумасшедшие» – это те же «мы», но только еще более обездоленные, требующие еще большего сострадания.
Сострадание к психическим больным, вынесенное Достоевским с каторги, возвело его гуманизм по отношению к «униженным и оскорбленным», «бедным людям» на новую высоту. Уже в первой повести «Дядюшкин сон», опубликованной после каторги, нравственная сущность основных героев раскрывается в их отношении к богатому, знатному, но психически неполноценному (с нарушением памяти и восприятия, эмоциональным слабодушием, повышенной внушаемостью) дядюшке. Это происходит после того, как он вследствие психического расстройства воспринимает свой действительный, реальный поступок (предложение замужества Зине) как увиденный во сне. И если для Зины происшедшее – повод проявить заботу и сострадание по отношению к больному, то для ее матери Марии Александровны и несостоявшегося жениха Мозглякова – повод присвоить деньги и состояние обманутого дядюшки. Таким образом, психически больной, которого Мария Александровна по злобе называет «несчастным идиотом», оказывается «лакмусовой бумажкой», позволяющей выявить неповторимость индивидуальной социально-психологической позиции каждого из персонажей.
Начиная с «Дядюшкина сна» этот литературный прием с успехом, широко и последовательно используется Достоевским в его великих полифонических романах, обусловливая своеобразие описания им сложнейших человеческих отношений.
3. Легенда о «священной болезни»
Социальные причины толкали Достоевского к «священной болезни» и, найдя в предпосылках физиологического порядка подходящую почву (несомненно связанную с самой его талантливостью), породили одновременно и его миросозерцание, писательскую манеру и его болезнь.
А. В. Луначарский
Этот раздел нашей книги имеет особое значение, так как связан с легендой о психическом здоровье самого писателя, сыгравшей немалую и зловещую роль как в дискредитации творчества великого гуманиста, так и в использовании его наследия в реакционных целях. Убеждение, что Достоевский болел тяжелой формой эпилепсии и из-за этого его творчество отличается особой мрачностью и интересом к болезням, является почти аксиоматичным. Также никому не внушает сомнений и то, что эпилепсия как болезнь, свойственная самому писателю, нашла отражение в его произведениях наиболее точно и полно.
Болезнь любого великого человека является интимной стороной его биографии, и публичное обсуждение ее справедливо считается неэтичным. Можно было бы оставить вопрос о болезни Достоевского без освещения, если бы на основании этого он не противопоставлялся по психическому здоровью большинству великих русских писателей. Вместе с тем весь жизненный путь этого «психически больного» писателя поражает целеустремленностью, работоспособностью, активностью и насыщенностью общественной, литературной, журналистской деятельностью, полноценной семейной жизнью с самой нежной заботой о своей семье и семьях своих близких. За неполных шестьдесят лет жизни, десять из которых пришлись на каторгу и ссылку, в каждой из перечисленных областей ему удалось сделать крайне много. Эти и другие показатели психического здоровья не только не говорят об ущербности Достоевского по сравнению с другими классиками русской литературы, но и показывают могучие резервы его психики, позволившие ему преодолеть все жизненные трудности. Это не значит, что мы отрицаем в психике Достоевского какие-либо болезненные проявления. Однако все эти моменты, на наш взгляд, должны быть пересмотрены с позиций современной медицины и объективного анализа фактического материала, касающегося его болезни.
Современный исследователь Достоевского И. Л. Волгин справедливо отмечает, что до настоящего времени мы не имеем его научной биографии, так как все опубликованное о писателе представляет собой во многом легенду, где правда переплетена с романтическими и интригующими домыслами. Достоевский и сам говорил, что человек не только живет, но еще и сочиняет свою жизнь, причем лично для него сочиненная жизнь была чуть ли не равноценна реальной.
Эпилепсия – священная болезнь Достоевского – на наш взгляд, во многом является хотя и красивой, но достаточно сомнительной легендой. Однако именно она позволила Д. С. Мережковскому утверждать, что на всю духовную жизнь Достоевского, «на все его художественное творчество и даже отвлеченную философскую мысль «священная болезнь» оказала поразительное действие. В своих произведениях он говорил о ней с особым сдержанным волнением, как бы с мистическим ужасом. Самые значительные и противоположные из его героев – изверг Смердяков, «святой» князь Мышкин, пророк «человекобога» нигилист Кириллов – эпилептики»[23]23
Мережковский Д. С. Собр. соч. М., 1914. Т. IX. С. 110–111.
[Закрыть].
Кроме перечисленных Мережковским героев Достоевского, эпилептиком был уже герой ранней повести «Хозяйка» Мурин, за таинственной мистичностью которого проступало сочетание злобного и пророческого начал. Припадок падучей в этой повести описан так:
«…раздался… дикий, почти нечеловеческий крик, и …страшное зрелище поразило Ордынова… Мурин лежал на полу: его коробило в судорогах, лицо его было искажено в муках, и пена показывалась на искривленных губах его…» (1; 281).
Это первое описание Достоевским эпилептического припадка относится к 1847 г. Важно то, что в этом эпизоде, открывшем художественное воплощение эпилепсии в его творчестве, на первый план выступает поражающее и устрашающее «зрелище», а не связанное с припадком переживание. Судя по письмам писателя к брату, в период создания «Хозяйки» приступов эпилепсии у него не было, отсюда можно сделать вывод, что наблюдение за больными предшествовало его собственным припадкам.
Впервые упоминания о припадках появляются в письмах к брату, написанных сразу после выхода из каторги. Так, в первом послекаторжном письме сказано: «…Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен… Я часто лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случилась падучая, но, впрочем, бывает редко. Еще есть у меня ревматизмы в ногах… полное стеснение духа… вечное сосредоточение на самом себе, куда я убегал от горькой действительности…» (28; 1; 170–171). Через шесть месяцев он высказывается о своей болезни осторожнее:
«Я… писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на падучую, и, однако ж, не падучая…» (28; 1; 180). Подчеркнем то, что, даже когда припадки случились у него впервые, нетипичность переживаемых им состояний классической эпилепсии и их невротическое сопровождение вполне осознавались писателем.
Согласимся с Мережковским в том, что в наибольшей степени взгляды Достоевского на эпилепсию развернуты в романах «Идиот» и «Бесы». При этом Кириллов в чем-то существенном продолжает князя Мышкина, что подтверждается динамикой разработки их образов на предварительных этапах работы писателя над романами.
Социально-медицинская концепция романа «Идиот» не только подкрепляет устоявшееся в литературоведении представление о князе Мышкине как о Христе, перенесенном в Россию XIX века, но как бы дает этому представлению медицинское обоснование. В швейцарском санатории из «идиота-дочеловека» медико-психологическими средствами создан необычный человек, в котором явлены божественные, но одновременно и человеческие черты Христа. В Петербурге, получив наследство, он как бы материализуется, становится «земным», не теряя при этом «божественности». После трагической гибели Настасьи Филипповны ум Мышкина меркнет. Божественное и человеческое начала гибнут одновременно. Превратившись в полного «идиота», он возвращается в швейцарский санаторий. В Петербурге же остается легенда. Или особый человек-святой промелькнул в жизни общества, пытаясь, но не сумев перестроить мир излучаемым им добром. Или это вымысел, а жил чудак, тихий сумасшедший, идиот, которого уже потом идеализировали.
Итак, или русский вариант «богочеловека» (Мышкин), или «человекобог» (Кириллов). В одном есть Бог, другой становится сам для себя Богом вместо отвергаемого им канонизированного Бога. Один из них максимально открыт людям и стремится к добру, другой замкнут и помогает бесовству. Переживания обоих, связанные с эпилепсией, оказываются самыми главными аргументами приобщенности их к потусторонним силам.
Для Достоевского важно, что в переживаниях Мышкина непосредственно перед припадком ощущение жизни почти удесятерялось: ум и сердце озарялись тогда необыкновенным светом, все волнения, сомнения, беспокойство разом умиротворялись, переходили в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды. «Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок… Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент перед припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!» – то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни» (8; 188).
В рассуждениях Кириллова поэтически-философская тема особого неземного характера этих переживаний обогащается и дополняется: «Есть секунды, их всего зараз пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть… Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда» (10; 450). Для Кириллова понятно, почему Бог, когда создавал мир, в конце каждого дня говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это не умиление, а радость. Не нужно прощать ничего, потому что прощать уже нечего. И, наконец, символ веры его человекобожества: «Вы не то что любите, о – тут выше любви!.. так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд – то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?» (10; 450–451).
«Высшая степень гармонии», «высший синтез», «это не земное» – подобные выражения Мышкина и Кириллова подчеркивают «священность» их переживания, связанного с постижением отношений божества и человека.
Несмотря на общность этих переживаний, есть у них и существенное различие. Мышкин осознает болезненность своих переживаний. Раздумывая об этом уже в здоровом состоянии, он говорил сам себе: «Ведь все эти молнии и проблески высшего самосознания, а стало быть и «высшего бытия», не что иное, как болезнь, разрушение нормального состояния. А если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему». И, однако же, он дошел до парадоксального вывода:
«Что же в том, что это болезнь?.. Какое до этого дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженно молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?» В том же, что это действительно «красота и молитва», что это действительно «высший синтез жизни», в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить.
У Кириллова же нет осознания своей болезни. На вопрос Шатова, нет ли у него «падучей», Кириллов категорически отвечает: «Нет». На предположение Шатова, что эпилепсия разовьется в дальнейшем, Кириллов, готовясь к идеологическому самоубийству, говорит: «Не успеет».
Д. С. Мережковский, развивая тему о священности эпилепсии, обращает внимание на то, что в романе «Бесы» Достоевский несколько раз с упорной вдумчивостью возвращается к легенде о знаменитом кувшине эпилептика Магомета, не успевшем пролиться за то время, пока тот на коне Аллаха облетел небеса и преисподнюю.
Эта легенда у Достоевского впервые упоминается Мышкиным при объяснении особого характера переживаний в преддверии эпилептического припадка: «…в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет… это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховые» (14; 188–189).
Дублируется же она устами Шатова потому, что именно он стремится к идее народа-богоносца. Важно, что не Кириллов, а Шатов, у которого возникает предположение, что апокалиптически-экстатические переживания собеседника являются симптомом эпилепсии, вводит легенду о Магомете. Но, как «шатающийся», он не ищет для веры опоры в эмоциях. Для Кириллова состояния, встречающиеся у него «в три дня раз, в неделю раз», означают степень одухотворенности, тогда как для Шатова они характеризуют тяжесть болезни. Однако, правильно догадываясь об истинном смысле переживаний Кириллова, он в определенной степени, на наш взгляд, завидует его одухотворенности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































