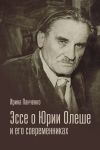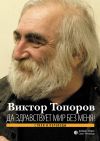Текст книги "Самое главное: о русской литературе XX века"

Автор книги: Олег Лекманов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
4. «Автора тошнит стихами по всякому поводу» (И. Ильин читает А. А. Блока)
Пометам философа на томах берлинского собрания сочинений поэта 1923 года посвящена обстоятельная статья И. В. Овчинкиной «И. А. Ильин – читатель А. Блока» [1]. Добросовестно процитировав многие нелицеприятные высказывания Ильина о Блоке, исследовательница завершает свою работу следующим развернутым выводом: «И. А. Ильин не увидел глубочайшей трагедии А. Блока, катастрофичности того бытия, от которого он в буквальном смысле слова сходил с ума, проигнорировал его дар, глубокую лирическую исповедальность и абсолютную обнаженность. Но И. А. Ильин справедливо оценил духовную пропасть, в которую соскользнул Блок и многие его современники <…> В свое время И. П. Полторацкий, ученик И. А. Ильина и хранитель его архива в Мичиганском университете (Ист-Лансинг), сказал: “В самом деле, как бы ни относиться к тем или иным исходным установкам и аналитическим суждениям и критическим выводам Ильина… Ильину-критику невозможно отказать в безупречном знании предмета, острой психологической наблюдательности, формально-эстетической крепости, духовной независимости и религиозно-философской глубине”. Обзор маргиналий И. А. Ильина и его отдельных высказываний о А. Блоке еще раз это подтверждает» [2].
Признáюсь сразу: мое впечатление от маргиналий Ильина на полях блоковских стихотворений решительно отличается от впечатлений его исследовательницы и его ученика. Попробую подойти к формулированию этого впечатления, используя, как вешки на пути, те ильинские пометки на произведениях Блока, которые остались в статье И. В. Овчинкиной не процитированными [3].
Начну с того, что ни «безупречного знания предмета», ни «острой психологической наблюдательности», ни «формально-эстетической крепости», ни «духовной независимости», ни, уж тем более, «религиозно-философской глубины» замечания Ильина на полях блоковских стихов, увы, не демонстрируют. Зато в них в полной мере реализовалось мелочное стремление во что бы то ни стало уесть Блока, поймать его на стилистических ошибках, а еще лучше – на моральной неразборчивости.
Часто это приводит к комическим эффектам: подчеркивания и пометки Ильина порою напоминают подчеркивания в библиотечных книгах, делаемые теми несчастными читателями, которые любой ценой стремятся выискать в этих книгах «неприличие».
Так, в стихотворении «Из хрустального тумана…» Ильин подчеркивает фрагмент:
Чтоб на ложе долгой ночиНе хватило страстных сил!
(С. 15)
В стихотворении «Двойник» его повышенного внимания удостаиваются строки:
(О, миг непродажных лобзаний!О, ласки не купленных дев!)
(С. 15)
В стихотворении «На островах» он отчеркивает финал строки:
Две тени,слитых в поцелуе.
(С. 22),
а также стрóки:
И помнить узкие ботинки,Влюбляясь в хладные меха…
(С. 22)
В стихотворении «Демон» внимание Ильина приковывают образы:
О сон мой! Яновое вижуВ бреду поцелуев твоих!
(С. 26),
а в стихотворении «Унижение» он подчеркивает «неприличное» слово «кровать»:
В жолтом, зимнем, огромном закате
Утонула (так пышно!)кровать…
(С. 30)
Над заглавием этого стихотворения Ильин сделал «пояснительную» пометку: «В доме свиданий» (С. 29) [4], но этого ему показалось мало, и он сопроводил финал стихотворения еще одним примечанием: «В публичном доме» (С. 30).
В стихотворении «Старый, старый сон: из мрака…» Ильин подчеркнул строку:
Проститутка и развратник…
(С. 37)
И так далее, и тому подобное.
И. В. Овчинкина в своей статье справедливо указывает на «полное отождествление» в пометах Ильина «лирического героя» произведений Блока с самим поэтом. Закономерным следствием подобного отождествления становятся чрезвычайно упрощенные трактовки Ильиным блоковских стихотворений и фрагментов стихотворений.
Так, словосочетание «стареющий юноша» из блоковского «Двойника» Ильин сопровождает пометкой «сам» <автор> (С. 15).
К стихотворению «Как тяжело ходить среди людей…» он делает примечание: «Это о себе – стыдно» (С. 27).
В стихотворении «Повеселясь на буйном мире…» Ильин подчеркивает зачин:
Повеселясь на буйном пире,Вернулся поздно я домой…
и делает к этим строкам пометку «NB» (С. 252), видимо, вполне всерьез подозревая Блока в склонности к «веселью» на «буйных пирах».
Точно такой же пометкой Ильин сопровождает строку «Я ухожу, душою праздный» из стихотворения «Под шум и звон однообразный…» (С. 12).
Вполне предсказуемо Ильин обводит кружком и сопровождает неодобрительным знаком вопроса два финальных слова в знаменитой блоковской строке «О, Русь моя! Жена моя!» (С. 224).
Не скупится он на пометы, обличающие «антихристианскую» сущность поэзии Блока.
Так, строку:
И когда тысмеешься над верой…
из стихотворения «Муза» Ильин снабжает значком «NB» (С. 11).
В стихотворении «Унижение» отчеркнута строфа:
Ты сумела! Так еще будь бесстрашней!
Я – не муж, не жених твой, не друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце – острый французский каблук! —
и к ней сделано негодующее примечание: «ангел!» (С. 30).
А в примечании к следующей строфе из стихотворения «Говорит смерть»:
Когда осилила тревога,
И он в тоске обезумел,
Он разучился славить Бога
И песни грешные запел…
Ильин «остроумно» играет словами: «обезумел, а умел ли?» (С. 51). Видимо, в этом и подобных ему примечаниях, вроде возмущенного – «Восприятие Светлой Заутрени» (С. 85) [5], нам и предлагается увидеть «религиозно-философскую глубину» Ильина – читателя Блока.
Удивительными кажутся эстетические и стилистические претензии Ильина к Блоку, особенно если учесть, что все они формулировались после 1923 года, то есть в то время, когда не только символистская, но и постсимволистская поэтика была усвоена большинством культурных читателей.
Так, к блоковскому стихотворению «День проходил, как всегда…», написанному вольным трехсложником с переменной анакрусой, Ильин делает возмущенное примечание: «И это стихи?» (С. 48) [6], не забывая, впрочем, предъявить поэту и этическую претензию – близ строки «Слишком светлые мысли» красуется помета: «?! Ну уж нет!» (С. 49).
Следующий микрофрагмент из стихотворения «Двойник»:
Аты-то, вернешься ли ты?
сопровождается пометой: «Проза» (С. 15). Примечание: «?! Безвкусная проза» сопровождает и строку «Срывая для карьеры лязг костей» из стихотворения «Как тяжко мертвецу среди людей…» (С. 33).
В стихотворении «Когда невзначай в воскресенье…» Ильин подчеркивает строку:
Глазищи обмызганный кот,
а сбоку мотивирует это подчеркивание, брезгливо повторив блоковское словосочетание: «обмызганный кот» (С. 46), то есть упрекнув поэта во всем том же пристрастии к «прозе».
Примечанием «Проза» сопровождаются и строки:
Нажми рукою свод покрепче,
И камень будет отвален…
из стихотворения «Сон» (С. 125).
Ко всему стихотворению «Идут часы, и дни, и годы…» делается помета: «Непонятно!» (С. 29).
Простейшую метафору «фиалки глаз» из стихотворения «Авиатор» Ильин снабжает знаком вопроса и негодующим восклицанием: «фиалки!» (С. 32).
К чрезвычайно внятной строке из стихотворения «Под шум и звон однообразный…»:
Яобрываю нить сознанья…
Ильин делает придирчивое примечание: «Неточно» (С. 12), более подробно свое недовольство не объясняя.
Двумя недоуменными знаками вопроса сопровождаются следующие строки из блоковской «Музы»:
Иковарнеесеверной ночи, <?>
И хмельнейзолотого Аи, <?>
(С. 12)
В стихотворении «Вновь богатый зол и рад…» Ильина не устраивает намеренная рифмовка Блоком однокоренных существительных. Строки:
Каменныхотвесов
Чернотунавесов…
он сопровождает пометкой: «Слабо» (С. 37).
Рядом со стихотворением «Вновь богатый зол и рад…» Ильин делает общее глубокомысленное замечание о рифмах Блока: «К смыслу цепляется по рифмам<,> а не рифмы куются смыслом» (С. 38).
В стихотворении «Черная кровь» Ильина не устраивает синтаксис. К строке:
Ширится кругтвоего мне огня…
он делает приписку: «слабо» (С. 52).
В строке «А мертвеца – к другому безобразью» из стихотворения «Как тяжко мертвецу среди людей…» «зь» обведено в кружок; Ильину казалось недопустимым заменять даже в поэтическом тексте существительным «безобразье» существительное «безобразие» (С. 34). Сходным образом, в строке «Я слепнуть не хочу от молньи грозовой» из стихотворения «О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой…» в кружок обведено существительное «молньи» (С. 54).
В стихотворении «В тихий вечер мы встречались…» таким же кружком обведена приставка «раз» в строке «Раздушенный ваш платок» (С. 169). Ильин, очевидно, хотел бы, чтобы вместо необычного «раздушенный» Блок воспользовался привычным: «надушенный».
В строке «Чтоб не даром биться с татарвою» изстихотворении «Мы, сам-друг, над степью в полночь встали…» Ильин обводит кружком слово «татарва» и сопровождает его знаком вопроса (С. 226). Вероятно, эстетическая претензия (грубое слово) совмещается здесь с этической (грубое слово, употребленное по отношению к целому народу).
Этот упрек, сделанный Ильиным, смотрится более чем неожиданно, ведь не кто иной, как он сам некоторое время спустя опубликует в парижской газете «Возрождение» от 17 мая 1933 года оправдывающую нацизм статью «Национал-социализм. Новый дух. I», которая завершается следующим образом: «Дух национал-социализма не сводится к “расизму”. Он не сводится и к отрицанию. Он выдвигает положительные и творческие задачи. И эти творческие задачи стоят перед всеми народами. Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас. Заранее освистывать чужие попытки и злорадствовать от их предчувствуемой неудачи – неумно и неблагородно. И разве не клеветали на белое движение? Разве не обвиняли его в “погромах”? Разве не клеветали на Муссолини? И что же, разве Врангель и Муссолини стали от этого меньше? Или, быть может, европейское общественное мнение чувствует себя призванным мешать всякой реальной борьбе с коммунизмом, и очистительной, и творческой, – и ищет для этого только удобного предлога? Но тогда нам надо иметь это в виду…»
Иногда, впрочем, Ильин совсем не утруждает себя аргументацией, а попросту отрубает: «Пустословие с претензией на красивость» (С. 93). И это сказано о блоковской «Равенне»!
Отчасти сходным образом стихотворение «Искусство – ноша на плечах…» Ильин сопровождает презрительной пометой: «Игорь Северянин», а затем все же мотивирует свою ассоциацию: <Блок и Северянин —> «поэты пошлости» (С. 107).
Процитируем также замечание Ильина о стихотворении Блока «Флоренция»: «Автора тошнит стихами по всякому поводу. Лишь бы рифмы стрясти и усовать!» (С. 100) – в этом грубом резюме обыгрывается строка из блоковского стихотворения «Поэты»: «Под утро их рвало» [7].
Итак, львиная доля помет Ильина на книге Блока отнюдь не изобличает в нем философа, пусть иногда он и пользуется «умным» философским жаргоном: «Худ<ожественный> образ не выдифференцировался из общераспутного тумана» (С. 159) [8], или: «Все это к истории и симптоматологии личной эротики Блока, не более» (С. 150) [9], etc.
Восприятие Ильиным блоковского творчества на удивление совпадает с восприятием поэзии русских символистов консервативными отечественными читателями-обывателями конца XIX – начала ХХ века, то есть читателями из поколения отца или, в крайнем случае, старшего брата философа, но отнюдь не его самого.
Характер и тон ильинских претензий к Блоку напоминает характер и тон упреков, которые неизвестный читатель из первой заметки обрушил на стихи из книги Бальмонта «Будем как Солнце» до почти полного совпадения. Как и читатель книги «Будем как Солнце», Ильин демонстрирует свое недоумение от стихов поэта-символиста, испещряя их ироническими пометами. Как и читатель Бальмонта, Ильин обвиняет Блока в аморализме, любострастии, легкомыслии, безумии и плохом знании русского языка. Пожалуй, только горькие упреки в религиозном цинизме радикально отличают Ильина от читателя книги «Будем как Солнце».
Завершить четвертую заметку я хотел бы тремя оговорками, к каждой из которых, придется, однако, приплюсовать свое «но».
Во-первых, пометы Ильина делались, так сказать, в рабочем порядке, и печатать их он не собирался. Но печатные ильинские высказывания о Блоке и его современниках содержательно и стилистически немногим отличаются от приведенных мною помет [10].
Во-вторых, Ильин не только ругал Блока, а изредка и хвалил. Но эти похвалы смотрятся не намного лучше, чем хулы. «Все это хоть немножко связно», – написал он рядом со стихотворением «Ночь как ночь, и улица пустынна…» (С. 68), – и это был предел ильинской доброжелательности и толерантности.
И, наконец, в-третьих, в своем отношении к стихам Блока и других модернистов Ильин не был одинок, сходные высказывания о них с легкостью отыскиваются, например, в статьях, мемуарах и дневниковых записях И. А. Бунина. Но ведь Бунин-то, действительно, был много старше Блока и других младосимволистов, ХХ век он встретил тридцатилетним и уже вполне сложившимся писателем.
Ильину же в 1900 году исполнилось всего лишь 17 лет, он был только на три года старше того поэта, на полях стихотворений которого он оставил неумные, свидетельствующие о полной эстетической глухоте маргиналии.
Примечания
[1] Овчинкина И. В. Ильин – читатель А. Блока // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов Отдела редких книг и рукописей. М., 2013. С. 235–260.
[2] Там же. С. 259–260.
[3] В ряде случаев я все же цитирую пометы Ильина на полях стихотворений А. А. Блока, опубликованные не мною, а И. В. Овчинкиной. Каждый раз это специально оговаривается. Остальные пометы приводятся мною по изданию: Блок А. А. Собрание сочинений: в 9-ти тт. Т. 3: Стихотворения. Книга третья. 1907–1916. Берлин, 1923, с указанием номера страницы в круглых скобках. Этот том, выпущенный издательством «Алконост», ныне, как и вся библиотека Ильина, хранится в Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова. За возможность поработать с книгами из библиотеки Ильина приношу глубокую благодарность А. Л. Лившицу.
[4] Ср.: Овчинкина И. В. Ильин – читатель А. Блока. С. 251.
[5] Речь идет о зачине стихотворения Блока «Не спят, не помнят, не торгуют…»:
Не спят, не помнят, не торгуют.
Над чорным городом, как стон,
Стоит,терзая ночь глухуюТоржественный пасхальный звон.
(С. 85)
[6] Сходной пометой («Это поэзия?») Ильин сопровождает стихотворение «Вот девушка, едва развившись…», написанное свободным стихом (С. 104). Помета приведена в статье: Овчинкина И. В. Ильин – читатель А. Блока. С. 252.
[7] Ко всему этому стихотворению Ильин делает такую помету: «Не поэты, а пьяные болтуны» (С. 120).
[8] Помета приведена в: Овчинкина И. В. Ильин – читатель А. Блока. С. 251.
[9] Там же. С. 249.
[10] Почти все они процитированы в статье Овчинкиной.
Баратынский и старшие модернисты. Попытка обобщения[2]2
Работа написана при участии М. Гельфонд. В цитатах мы сохраняем авторское написание фамилии «Баратынский» (или «Боратынский»). – О. Л.
[Закрыть]
Как и любая другая эпоха, эпоха русского модернизма искала и находила в крупных культурных явлениях прошлого близкое себе, опираясь на старое, доказывала легитимность и прочность нового. Следовательно, взглянув на Баратынского глазами поэтов Серебряного века, мы получим возможность распознать в складывающемся изображении еще один автопортрет модернистской эпохи: «сопоставление символистов и Баратынского» «не только может помочь нам уяснить какие-то стороны в Баратынском, но и снабдить нас некоторыми данными для суждения о сущности самогó символизма как этапа нашего литературного и культурного развития» [1].
Нужно только все время помнить: поэзия Баратынского куда больше, чем, скажем, Александра Полежаева или даже Николая Некрасова, годилась для того, чтобы послужить почти идеальным «подмалевком» коллективного автопортрета модернистской эпохи. Русские символисты и их последователи действительно открыли в Баратынском нечто важное, до тех пор ускользавшее от взгляда критиков и историков литературы.
Сказанное вдвойне справедливо в отношении первых русских модернистов, которые не только были эгоцентрически сосредоточены на себе, но и целенаправленно стремились занять прочное место на литературной карте 1890-х – начала 1900-х гг. Именно на период их поэтического становления пришлись 50-тая годовщина смерти Баратынского (1894 г.) и 100-тая – рождения (1900 г.), то есть ключевые и традиционные даты юбилейных речей, статей и книг, издания научно подготовленных собраний сочинений, первых приложений к имени эпитета «великий», открытия мемориальных комплексов и проч. При этом старшие символисты отвоевывали Баратынского если не у полного забвения, то уж точно у твердо устоявшихся еще со времен В. Г. Белинского представлений об авторе «Сумерек» как о второстепенном, неактуальном поэте. «Можно решительно свидетельствовать, что почти вплоть до последнего десятилетия, среди умов, судивших о значении русских писателей, не нашлось никого, кто бы обнаружил полное понимание личности и мыслей Баратынского, – со знанием дела утверждал Иван Коневской в 1899 году. – И вообще-то, охоту обсуждать его творчество проявляли очень немногие» [2]. Сходно с ним в том же году высказался товарищ Валерия Брюсова по гимназии, поэт Александр Миропольский (Ланг), обвинив в сложившемся положении вещей нерасторопных книгопродавцев: «Сочинения Баратынского хотя и были в продаже, но в книжных лавках можно было получить лишь Суворинское издание (Дешевая библиотека), неполное и на плохой бумаге. Издание Казанское 1884 г. с вариантами лежало где-то в складе, а в книжных магазинах его не было (букинисты продавали по возвышенной цене). Впрочем, и это Казанское издание не полно. Полнее других издание “Севера”, но оно в продажу не поступало» [3].
Сложившаяся ситуация симптоматично отразилась в одной из первых русских символистских повестей, «Златоцвете» Зинаиды Гиппиус, где на предложение просвещенного героя Заворского устроить вечер в «память Баратынского» следует характерная реакция: «– Но никто его не знает! – возмущалась дама-патронесса. – Почему? Откуда?» [4] Этому пренебрежительному высказыванию далее противопоставлена авторская оценка: «Она, позабыв всех патронесс и всех идиотов, сидела над книгой Баратынского, вполголоса повторяя его важные, торжественные и глубоко прекрасные стихи, которые текут не как Пушкинские ручьи любви, а как спокойная и величавая река» [5].
Учитывая все сказанное, не стоит удивляться, что словесные портреты Баратынского, набросанные в статьях, очерках и выступлениях старших символистов сплошь и рядом смотрятся как автохарактеристики. Защищая Баратынского, модернисты защищали и себя. Дмитрий Мережковский: у Баратынского «вдохновенная диалектика преобладает» «над непосредственным чувством» [6]; Константин Бальмонт: «Кто в миге, весь – в миге, миг того всегда и навсегда превращается в драгоценный камень» [7]; Валерий Брюсов: «Стихи Баратынского замечательны именно их обдуманностью, поэт жертвовал скорее красотой стиха, чем точностью выражений: за каждым образом, за каждым эпитетом чувствуется целый строй мыслей. Поэт непосредственного вдохновения, пожалуй, глубже раскроет перед читателями свою душу, – но никто вернее, чем поэт-мыслитель, не ознакомит со своим рассудочным миропониманием, с тем, что сам он считал своей истиной <…> Он умел “умом оспаривать сердечные мечты”» [8].
Соответственно, русские символисты первой волны выделяли для себя и цитировали в своих произведениях те строки из стихов, прозы и писем Баратынского, которые были созвучны им самим, оправдывали их собственные поэтические искания. Так, Зинаида Гиппиус в предисловии «Необходимое о стихах», предваряющем первую книгу ее «Собрания стихов» (1904) напоминала читателю о том, что «поэзия, как определил ее Баратынский, – “есть полное ощущение данной минуты”. Быть может, это определение слишком обще для молитвы, – но как оно близко к ней!» [9] Далее в «Собрании стихов» заданная репликой Баратынского задача передать «полное ощущение данной минуты», близкое к молитве, решалась в целом ряде текстов, например, в стихотворении «Мгновение»: «Горит тихий, предночный свет, // От света исходит радость моя. // И в мире теперь никого нет. // В мире только Бог, небо и я». Владимир Гиппиус, долгие годы по идеологическим причинам не писавший стихов, посвятил Баратынскому две строки сонета «Слава» о русских поэтах XIX века (под № LVII этот сонет помещен в издании: «Томление духа. Вольные сонеты Вл. Нелединского» [Вл. Гиппиуса]. Петроград, 1916): «Уж Боратынский мне твердил давно, // Что музой увлекаться нам не дóлжно», – подразумевается стихотворение Баратынского «Муза». А Брюсов, рассказывая об истории восприятия критикой 1830-х гг. поэмы Баратынского «Наложница», как представляется, держал в голове собственный литературный дебют: «При появлении Наложницы тогдашние повременные издания в один голос осудили ее, особенно нападая на заглавие, и это служит лучшим доказательством, насколько ново было то, что говорил Баратынский» [10].
Первым русским модернистам были чрезвычайно близки мрачные пророчества Баратынского. Его лирические антиутопии («Последняя смерть» и, в особенности, «Последний поэт») точно соответствовали эсхатологическому ви́дению мира на рубеже столетий. Сергей Андреевский, чья статья о Баратынском стала одним из предмодернистских этапов воскрешения поэта, писал о начале «Последнего поэта»: для того, чтобы понять эти строки, «современникам Баратынского нужно было заглянуть на полвека вперед и разглядеть в его тумане наш “пессимизм”» [11]. По утверждению Петра Перцова, эта статья была написана под влиянием Мережковского, развивавшего в разговорах схожий взгляд на Баратынского «с гораздо бÓльшим блеском и силою» [12]. Близкая мысль высказывалась и Валерием Брюсовым: «Жалобы Боратынского относятся словно ко времени позже на полвека» [13]. Как «провозвестника свойства железного века» воспринял Баратынского Константин Бальмонт [14].
Ходовым в художественной и жизнетворческой практике старших символистов стало сопоставлять себя и своих коллег по поэтическому цеху с Баратынским. Так, в июне 1897 года Брюсов знакомит будущую жену с лирической поэмой Баратынского «Эда» и тогда же записывает: «Читал Жанне-Янинке “Эду”, и с тех пор зову ее Эдой» [15]. Самого Брюсова лестно сопоставлял с Баратынским Владимир Пяст: «Брюсов в “Венке” по языку доступен всем и каждому, если не как Пушкин, то как Баратынский» [16], а с Баратынским и Жуковским – Георгий Чулков: «Валерий Брюсов, будучи прекрасным стихотворцем-эклектиком, сочетавшим в своей поэзии манеру Жуковского и Баратынского…» [17]. В стихах Брюсова искал ключ «к душе Боратынского» Евгений Архиппов [18], а Сергей Соловьев итожил в оставшейся неопубликованной заметке «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (1922): «Радостно было сознавать, что в наш век живет поэт, который был равен, может быть, Баратынскому, а может быть, и Пушкину» [19].
Старавшиеся во что бы то ни стало выделиться из ряда современных им стихотворцев, а потому весьма озабоченные подведением итогов, а также составлением всевозможных иерархических списков, старшие символисты и Баратынского постоянно соотносили с другими поэтами и прозаиками его и более позднего времени. Так, в программной для раннего русского модернизма небольшой книге Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) Баратынский (в сочувственном сопоставлении с Николаем Минским) [20] определяется как «самый благородный и возвышенный из русских лириков-философов» [21]. В его же статье «Пушкин» констатировалось: «Уже Баратынский, сверстник Пушкина, высказывал сомнения в благах культуры и знания <…> Сомнения в благах западной культуры – неясный шепот Сибиллы у Баратынского – Лев Толстой превратил в громовый воинственный клич» [22]. Зинаида Гиппиус признавалась в «Литературном дневнике», что ее от современных поэтов «влечет» «к Баратынскому, к Тютчеву, к Лермонтову, – к железно-твердому “Я” Баратынского прежде всего» [23]. Дмитрий Фридберг опубликовал в символистском альманахе «Северные цветы» за 1901 год стихотворение «Тютчев и Баратынский». В статьях Бальмонта, вошедших в его книгу «Горные вершины» (1904), автор «Сумерек» не попал в список из «трех наиболее крупных поэтов России», образованный именами «Жуковского, Пушкина и Лермонтова» [24], но удостоился отдельной лестной характеристики как «поэт рефлексий и северной природы, стоящий ближе всех из поэтов Пушкинской эпохи к современности, нервным, но созерцательным поэтам» [25], а также певец «душевного раздвоения» и художник «философских мгновений» [26]. Владимир Гиппиус в книге «Пушкин и христианство» (1915) сравнил мироощущение двух поэтов и отметил, что в отличие от пушкинского сознания, «в откровенно-трагическом сознании Баратынского, подобном античному фатализму, – страстность была страданьем навеки неподвижным, неразрешимым» [27]. А Аким Волынский в уже упоминавшемся альманахе «Северные цветы» (1901) тоже сопоставил Баратынского с Пушкиным, но уже со знаком плюс: «В противоположность Пушкину, он смотрит уже не на поверхность предметов, не на плоть их, а прямо в глубину их, в суть их, в их скрытые противоречия, замаскированные плотью. Он видит скрещивающиеся пути веселья и горя, святости и порока, и относится к явлениям жизни не как моралист, а как настоящий психолог» [28].
Напряженно подбирал место для Баратынского в пантеоне своих любимых поэтов «Золотого века» Брюсов. В письме к Перцову, отправленном в начале марта 1895 года, рассуждая о поколении поэтов, дебютировавших в 1890-е гг., он выражается еще очень резко и отчасти в духе господствовавших тогда представлений о Баратынском: «Повторяю, у нас нет центрального поэта, который оживил бы всех остальных – у нас Баратынский, Дельвиг и др<угие> без Пушкина – сироты, забытые в лодке на океане» [29]. Сходно Брюсов 18 ноября 1896 года отзывается о Баратынском в письме к Евгении Павловской: «Я люблю Верлена, неужели ж во имя его заб<ыть> Тютчева, По, Эверса или [даже] хотя бы Фета, Баратынского, Веневитинова?» [30] В дневниковой брюсовской записи от 16 сентября 1898 года эта резкость уже значительно смягчена: «Был еще раз у [П. И.] Бартенева. Беседовали оживленно о трех Великих, пребывающих – о Пушкине, Тютчеве, Баратынском. Но Пушкин из них бóльший» [31]. Еще раньше, в феврале 1897 года, Брюсов в разговоре с И. Н. Розановым варьирует список «трех Великих» так: «В России было три великих поэта: Пушкин, Баратынский и Тютчев. Из них всех выше Тютчев» [32]. По-видимому, Брюсов стал первым, кто объединил Баратынского и Федора Тютчева в пáру – в недалеком будущем это станет общим местом русского модернизма. В набросках к прозе 1890-х гг. Брюсов перечисляет имена «Пушкина, Баратынского, Дельвига, Крылова» [33]. В предисловии к книге стихов «Tertia vigilia» (1900) Брюсов расширяет этот список еще на три имени и отказывается от возвышения Пушкина (и Тютчева) над остальными поэтами: «Я равно люблю и верные отражения зримой природы у Пушкина или Майкова, и порывания выразить сверхчувственное у Тютчева или Фета, и мыслительные раздумья Баратынского, и страстные речи гражданского поэта, скажем Некрасова» [34]. Тогда же Брюсов пишет Михаилу Самыгину в связи со своими публикациями в «Русском архиве»: «Утешение в том, что узнал я, как никогда прежде, Пушкина, Б<аратынского>, Тютчева, Некрасова» [35]. В письме к Бальмонту (февраль 1897 г.) Брюсов добавляет к списку поэтов XIX в. себя и своего адресата: «О, Константин Дмитриевич! Настанет день, когда <…> придут неведомые и незнаемые, начнут кроить из наших творений глупые статьи, “разбирать” и “изучать” нас, как варварски разбирают и изучают Тютчева, Фета, Пушкина, Баратынского» [36]. Отметим, что в конце жизни интерес Брюсова к Баратынскому, по-видимому, несколько угасает. Во всяком случае, эпиграфов из его произведений нет в итоговой книге стихов Брюсова «Меа. Собрание стихов 1922–1924», хотя эпиграфы из других поэтов Золотого века, задающих темы для стихотворений, которым они предпосланы, в «Меа» встречаются во множестве.
Впрочем, на двенадцать лет раньше Брюсов, единственный из старших символистов, включил в свою книгу «Зеркало теней. Стихи 1909–1912 гг.» (М., 1912) целых два раздела, написанных на темы, заказанные «тенью» Баратынского. Разделу «Родные степи» он предпослал эпиграф из стихотворения Баратынского «Стансы»: «Вновь // Я вижу вас, родные степи. // Моя начальная любовь», – может быть, для установления генезиса заглавия этого раздела брюсовской книги нелишне будет указать на то, что о «родных степях» Баратынского упоминает в одной из своих статей Коневской [37]; раздел «Для всех» Брюсов сопроводил эпиграфом из стихотворения Баратынского «В альбом»: «Альбом походит на кладби́ще, // Для всех открытое жилище» [38]. Если воспринять название книги Брюсова «Зеркало теней» в качестве ключа к ее общему поэтическому заданию, стихи разделов «Родные степи» и «Стансы» правомерно будет прочесть как произведения Баратынского, отраженные в модернистском брюсовском «зеркале» и преобразившиеся в нем. Еще ранее Брюсов берет в качестве эпиграфа к стихотворению «Мучительный дар» строки из «Недоноска» («И ношусь, крылатый вздох,// Меж землей и небесами»), переосмысляя гротескный образ, созданный Баратынским, в символическом плане. При этом лирический субъект стихотворения Брюсова отличается не предельной малостью, а претензией на сверхчеловеческое бытие.
Брюсов внес и самый весомый (если говорить о русских модернистах первой волны) вклад в дело опубликования, а также научного освоения стихов и прозы Баратынского [39], готовя большую главу о нем для своей так и не осуществленной трехтомной монографии «История русской лирики». В заметке «О собраниях сочинений Е. А. Баратынского» (1899), предваряющей его публикацию шести стихотворений автора «Сумерек», Брюсов стремится дополнить новыми штрихами канонический портрет Баратынского, сложившийся после выхода в свет двух собраний сочинений поэта (1869 и 1884 гг.). Исходя из предпосылки о том, что Баратынский «один из тех писателей, каждая строка которых дорогá нам» [40], Брюсов уделяет особое внимание различным вариантам одних и тех же строк у этого поэта: «Такие переделки особенно любопытны у поэта-мыслителя. Это не только замена одного определения другим <…> это углубление самой мысли стихотворения, а иногда и видоизменение ее» [41]. Завершается эта научная заметка несколько неожиданно – вариацией финала неопубликованного лирического брюсовского эссе «Мировоззрение Баратынского» (1898): «“Сумерки” уже ясно говорят, что Баратынский разочаровался в своем прежнем кумире, в науке; выше рассудочности он ставит теперь фантазию, непосредственное вдохновение, детскую веру» [42].