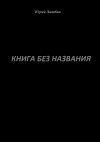Текст книги "Человек-недоразумение. Роман"

Автор книги: Олег Лукошин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Насилие
Я дитя любви, чёрт меня подери! Я рождён от великой и неугасимой искры, движущей причинностью. Быть может, мои родители и не высекли её той мимолётной ночью, когда творили меня в жарких и липких объятиях. Быть может, их любовь нельзя назвать великой, она определённо не вечная и, может быть, и не любовь вовсе, если принимать в расчёт наиболее грандиозное значение этого понятия. Дело не в этом. Я вне всякого сомнения порождение Великой Любви, существующей где-то за пределами видимого, осязаемого и представляемого. Где-то в другой Вселенной. Она сотворила меня своими дуновениями и по какой-то ошибке запустила сюда, в параллельную Вселенную, в этот мир абсолютного и безостановочного насилия.
Как я оказался здесь? Космический корабль, способный преодолевать толщи мирозданий доставил меня сюда? Смещение вселенских плит породило досадный зазор, в который проскользнула моя сущность? Или же некие могущественные силы, Творцы Вселенных, осознанно поместили меня в насилие с целью проведения научного эксперимента по выявлению всех аспектов соприкосновения крайностей? Кто знает, кто знает…
Мне очевидно одно: я не из этого мира. Я его враг. Его противник, его ниспровергатель. Его лютый ненавистник. Повторюсь, я не уверен в существовании окружающей действительности, мне не верится, что действительность, подобная этой, может существовать.
Это мысли придурка, думаете вы? Ну и насрать. Мне уже давным-давно всё равно, что вы там себе думаете.
Что в ней плохого, спросите вы меня, в этой самой окружающей действительности? Это мир так красив, так волнующ. Голубые моря, зелёные чащи лесов, извилистые изгибы гор. О, нет, нет, я люблю моря. Я обожаю леса и горы, я часами готов смотреть на их изображения и даже порой пребывать в их ипостасях, я вполне способен оценить их прелести. Я даже людей, это самое несуразное и ненужное создание за всё бесчисленное количество Больших Взрывов, если были они в действительности, готов принять как сущее, как некую данность, с которой надо мириться, сосуществовать, дружески относиться и даже испытывать к ним доброжелательные эмоции, хоть это и чрезвычайно, чрезвычайно непросто. Я не могу принять насилия, на котором держится здесь всё.
Существование, в котором есть рождение и смерть – это насилие. Их не должно быть, не должно. Ни рождения, ни смерти. Как же так, скажете вы, ведь с чего-то всё должно начинаться! А вот и нет! Вот и нет! Не должно ничего с чего-то там начинаться. Всё и так уже есть! Всё есть! Я есть, вы есть, есть ещё сонмы каких-то созданий, немыслимых сущностей, идей, эмоций и чувствований, мы есть помимо череды рождений и смертей. Мы есть. Если мы есть, значит дихотомия с рождением и смертью неверна, абсолютно неверна. Значит она ложь, насаждение, значит она осознанное насилие.
Как можно быть свободным, будучи рождённым? Как, спрашиваю я вас? От первой до последней секунды человеческая жизнь превращается в кабалу. Ты существуешь, ты ощущаешь собственное тело, ты способен осознать и даже порой проконтролировать движение собственных мыслей – но это несвобода, это насилие. Ты целостен и явен – это порабощение. Ты твёрд, ты имеешь форму, за которую никогда и не при каких обстоятельствах, помимо смерти, разумеется, не можешь выйти – это циничное и подлое насилие!
Что взамен? Каков мир без насилия? Каков этот самый мир свободы и любви? Чёрт, да разве ж я знаю!? Разве я могу своим изнасилованным вдоль и поперёк сознанием представить его? Разве можно в мире насилия заполучить образ мира любви, если каждая частица здесь, каждый элемент, каждый атом – это сущее зло.
И всё же я попытаюсь. Идеальный мир – это мир без телесных воплощений. Это мир без воплощений вообще. Мир без начал и концов. Он всегда был, он есть, он всегда будет. В нём есть мы, данность, реальность. Мы в мире идеала – это нечто другое. Принципиально другое. Быть может, в идеальном мире мы не способны осознавать своё собственное «я», потому что осознание это, как думается мне, и есть первоисточник насилия для окружающих и себя. Но мы есть. Мы бестелесны, нематериальны, у нас отсутствуют стремления – к чему какие-то стремления при гармонии? – быть может, мы даже не существуем, в этом, насильственном понимании слова, мы просто где-то есть и мы самодостаточны, а потому счастливы. Абсолютно и бесповоротно.
Это несуществующий мир, скажите вы. Мир отсутствия, небытия, мрака. Но представьте, только на секунду представьте, что это и есть идеальный мир, напоённый любовью. Отделитесь на мгновение от собственного эгоизма и вообразите, что он то, что беспредельно настоящее и благостное. И самое главное – что мы, мы там счастливы.
– Эй, Ложка! – кричат, догоняя меня, четверо одноклассников. Они передразнивают мою фамилию – а фамилия моя Ложкин, я кажется ещё не называл её, глупенькая такая, несуразная, совершенно несоответствующая моему призванию фамилия, но мне приятнее интерпретировать её от слова «ложь», хотя оно меня и несколько пугает: я отношу эту самую ложь не к себе, а к окружающему, то есть получается, что я как бы вне всей этой лжи. – Стой, придурок! Бить будем!
Отъявленные придурки называют меня придурком! Не смешно ли это?
Насилие, понимаю я. Сейчас начнётся самое прямолинейное и недвусмысленное насилие.
Я к нему уже готов. Я просто так не отдаюсь ему на милость. Я предпочитаю сражаться.
– Убью!!! – ору я, размахивая вокруг головы мешком со сменной обувью. – Всех до одного укантамлю!
На пару секунд это останавливает жаждущих крови и моего унижения насильников. Но они не покидают поле боя. Моё противодействие лишь возбуждает их. Щёки взбудораженных пацанов пылают, глаза сужаются – сладостная волна отрицания единицы жизни пронизывает их с головы до ног. О, эта волна воистину сладостна, она и меня не раз пыталась нахрапом взять в плен. В отличие от них, я не подчиняюсь ей.
– Чё ты Серому сказал на перемене, когда в столовую шли?! – кричит мне один из них, звать его Павликом, он наиболее подвержен влиянию сиюминутных, блуждающих волн. – Как ты его назвал, вспомни-ка! Ты за базар отвечаешь, урод?!
Что я мог сказать этому недоразвитому Серому, что? Назвать его дураком – разве только это. Не помню – ни сейчас, ни тогда. Да разве важно это? Насилие всегда найдёт повод.
– Ничего не говорил! – кричу я в ответ. – Пусть уши водой моет, а не компотом.
Пацанва бросается в атаку. Одному я успеваю заехать по голове обувью, но трое других валят меня на землю. Я подмят под их телами, меня лупят по бокам, я пытаюсь перевернуться на живот и отползти в сторону.
В какой-то момент у меня получается это. Я обретаю вдруг нежданную свободу, мне удаётся подняться на ноги. В мгновение ока я понимаю, что может остановить их. Неадекватность. Только жёсткая неадекватность заставит исчезнуть их за горизонтом.
Я задираю пальто, нащупываю ширинку и в несколько лихорадочных движений вынимаю пипиську наружу. На моё счастье мочевой пузырь переполнен и только ждёт сигнала к действию. Короткое усилие – и искрящаяся брызгами струя устремляется в сторону нападающих.
С брезгливыми криками они отступают. Кое-что всё же попадает на них. Они торопливо зачёрпывают варежками снег и растирают на одежде предполагаемые места соприкосновения с моей благодарной мочой.
– Уро-о-о-о-од!!! – злобно, но обречённо и горестно выдают они нестройным хором.
В новую атаку бросаться не торопятся. Я могу зарядить ещё одну очередь. Повторить же за мной мой тактический приём стесняются – место людное, человеки то и дело мельтешат мимо, и хотя не вмешиваются, но смотрят на нас крайне беспокойно. Да и если бы решились, что мне их моча? Это им, слабым, потерянным недоумкам стрёмно прослыть «сифой», а мне без разницы. Я вне их системы ценности и одобрений, я не из этого мира, я недоразумение.
– Встретимся завтра в школе! – подбирая со снега раскиданные портфели, гордо и неторопливо ретируются они с места битвы.
Я победил. Я снова победил. Я всегда буду побеждать. Всех вас одолею, до единого. Я сильнее.
Насилие нельзя терпеть ни секунды. Ни единого мгновения. Терпение – не добродетель, терпение – инструмент порабощения. Ты думаешь, что терпишь во имя чего-то высшего, благостного и светлого, какого-то будущего, изменений в лучшую сторону, ты терпишь потому, что тебе навязали эту линию поведения – якобы она ведёт к трезвости ума и материальной обеспеченности, но лелея себя будущего, ты предаёшь себя настоящего. Тебе безразличен ты настоящий? Так почему же ты думаешь, что тебе будет интересен и мил ты будущий?
Насилие нельзя терпеть. От него надо отбиваться, ускользать, с ним надо грызться и царапаться, чтобы ни на йоту эта действительность не засомневалась в том, что сможет переманить тебя на свою сторону, сделать собственным инструментом, растворить тебя в себе. Превратить в тихое, безликое ничтожество.
– Ты взрослый уже, Вова! – широко раскрытыми глазами, нервно, истерично смотрит на меня мать. Она всегда пытается обнаружить во мне какой-то ответ, какое-то объяснение незапланированного сбоя. – Ты уже достаточно взрослый, чтобы купить молоко и хлеб. Тем более, если тебя просили об этом. Неужели это так сложно – взять приготовленные заранее сумку и деньги, сходить в магазин и принести продукты?
– Да что ты с ним размусоливаешь?! – взрывается нетерпеливый отец, который в глаза мои не всматривается, потому что ни в какие разумные объяснения произошедшего со мной не верит, потому что уже полностью отчаялся и махнул на меня рукой. – Быстро схватил сумку, марш на улицу и без продуктов не возвращайся!
Насилие, ощущаю я во рту металлический привкус этого слова. Мне его никогда и не с кем не спутать.
– Подожди, – осаждает отца мать. – Может быть, он просто забыл, как это делается. Или забыл, где находится магазин. Вова, помнишь, ты же ходил в магазин? Покупал там продукты. Почему не хочешь сейчас?
Да, я имел неосторожность сходить несколько раз в магазин. Я знал, что это не проблема для меня, что я могу сделать это с лёгкостью – вот и поддался соблазну самоутверждения.
– Да оставь ты его! – машет рукой отец, на сто восемьдесят градусов меняя свою позицию. Это характерно для него. – Сам схожу. Чего ты от… (он делает едва заметную паузу, я понимаю, что в этом месте должно стоять слово «придурок») него ожидаешь? Всё, нечего ждать.
Эта фраза пугает мать. Она не хочет и не может просто так сдаваться. Она всё ещё не теряет надежду пробудить во мне то, что в этом мире считается нормальностью.
– Вова, сынок! – прижимает она меня к груди. – Ты прости меня, если я чего не то делала. Я плохая мать, я знаю. Ты скажи, что с нами не так. Скажи, а? Я ведь счастья тебе желаю, сына. Я ведь хочу, чтобы ты нормальную жизнь прожил. Хорошо мы молодые ещё, накормим, спать уложим. А как ты жить будешь, когда нас не станет?
Испытание жалостью – самое изощрённое в череде жестокостей. От него меня переворачивает.
– Он такой хоба, – начинаю я бормотать, – такой прямо в челюсть ему быдыщ! А тот, блин, с пистолетом ходит и песню поёт. Крадутся, крадутся, а когда выходят наружу – везде ползают, ползают, те самые ползают, которые прятались сначала. Ха-ха-ха-ха, – закидывая голову, отчаянно смеюсь я, – и шишки на верёвочках, кролики, рыбы, огонь горит вовсю. Я не могу, ржачно так, они на двух остаются, а против них двенадцать из всех дыр…
Мамины руки ослабевают, я без труда выскальзываю из её объятий, лишь секунду назад бывших крепкими. Она отводит лицо в сторону, а потом, резко поднявшись, торопливо прячется в ванной. С ней очередной приступ отчаяния, к которому обязательно примешивается пуд горькой и гнетущей вины.
Я победил! Вам не провести меня на мякине, недоразвитые!
Ночь. Ужасные минуты перед погружением в сон. Самое страшное время суток. Время, когда остаёшься наедине с собой, когда не за что зацепиться и нечем отвлечься. Время, когда вынужден задавать себе вопросы, на которые не находишь ответов.
Мысли выползают, словно тараканы из отверстий в гнилых досках пола, их множество, их целая армия, они ползут по щекам, по подбородку, по шее, перебираются на грудь и живот, заполоняют ноги и каждое мгновение кусают тебя, кусают, кусают.
Насилие, поднимается во мне паника. Снова насилие. Жестокое насилие, безысходное.
– Ты обречён, – хором гудят тараканы, копошась на моём теле. – На что ты рассчитываешь, ничтожество? Ты хочешь опровергнуть данность? Опрокинуть объективную реальность? Отринуть установление природы?
Жутко. Чернота безысходности расползается в сознании, от неё хочется блевать.
– Думаешь, ты первый, кто недоволен тем благостным миром, в который удостоен чести быть помещённым? Чести – вдумайся в это слово! Их было много, но все, абсолютно все подчинились величественному и мудрому течению жизни. Подчинишься и ты. Ты самый настырный из всех миллионов сперматозоидов, которые стремились к материальному воплощению в этой действительности. Самый сильный. Ты больше других желал появиться на свет в человеческом обличии. Не забывай об этом. Всё произошло по твоей воле, только по твоей. Если бы ты не хотел, ничего этого бы не было. Но ты хотел, ты жаждал. Так что принимай этот мир с радостью и восторгом, неблагодарная свинья.
Никуда не скрыться от ощущения собственного «я». Порой, в такие мучительные часы, это ощущение – самое ужасное, что приходится испытать. За что мне этот гнёт? Кто наделил меня этой мерзкой способностью чувствовать и размышлять? Освободите меня от них! Освободите!
– Гордыня, всё от неё. Ты просто слишком любишь себя, слишком жалеешь. Думаешь, что ты нечто уникальное. Что равен самому мирозданию, что можешь спорить с ним и чему-то его учить. Ты не прав! Вас таких – миллиарды! Вы все думаете о том же в беспокойные часы ожидания сна. Вы все недовольны собой и окружающей вас реальностью, вы все считаете себя центром Вселенной. Но все вы до одного – смешны и ничтожны. Все до одного – пыль. Вас небрежным жестом сдуют с ладоней причинности и развеют в океанах пустоты. Вы – ничто.
Этот вид насилия наиболее изощрён и жесток. Его одолеть мне не удаётся. Проигравший, истерзанный, я засыпаю наконец под утро, чтобы на следующий день вновь продолжить бессмысленное и бесполезное сопротивление.
Бунт атомов
В одну из таких бессонных ночей я уничтожил Чернобыльскую атомную электростанцию.
Да, это я – тот самый человек, кто сотворил этот роковой взрыв. Не было никакого сбоя техники, не было никаких человеческих ошибок, был лишь злой умысел. Мой.
С первого же мгновения осознания своего противостояния со всем, что вокруг, своего неприятия всего этого, своего желания отринуть окружающую меня явь, я понял, что озарение это опустилось на меня не просто так. Я понял, что я избранный. Я тот, кому предстоит изменить ход течения истории, внести новые смыслы и понятия в ткань материализации бытия. И в самом деле, с чего бы это на обыкновенного человека нисходит вдруг такое? На вас снизошло нечто подобное? То-то. Так что даже не думайте спорить со мной, потому что вы изначально в проигрыше. Вы просто не понимаете всех глубин, не способны охватить все грани.
С первого же мгновения я понял, что кроме гнетущей рефлексии мне будет дана и Сила. Что я понимаю под этой самой Силой? Ничего, кроме того, что каждый из нас вкладывает в смысл этого слова. Сила – это способность совершать действия, недоступные большинству. Сила – это подтверждение правильного выбора, это доказательство истин, это осуществление стремлений.
Признаться, мне казалось, что она должна явиться ко мне сразу, в самое первое мгновение. В тот самый миг, когда куча говна улеглась на ковер нашей квартиры. Я должен был сразу же, чудилось мне, почувствовать в груди приход могущества. Я должен был ощутить биение в кулаках, я должен был запустить в небо пару молний и, пробив потолок и все квартиры, что выше, они должны были унестись в далёкий космос, как подтверждение того, что Избранный явился.
Ничего этого не произошло. Ничего подобного. Теперь я понимаю, как вместе с удовлетворением и облегчением от осознания своего выбора, я почувствовал в ту секунду и некую пустоту. Некий раздрай, некое ощущение вины. Все первые годы оно ужасно беспокоило меня: как же так, недоумевал я, ведь я сделал шаг, я решился на противостояние, я стоек и твёрд в своей решимости, я безусловно прав, как не был прав никогда и никто на этой Земле – но внутри колышется слабость, тянет сомнениями и даже желанием раскаяния? Почему? Почему мой выбор не обеспечен достаточным могуществом – для того, чтобы отразить все нападения и угрозы?
Наивный, я не понимал, что просто так могущество прийти не может. Что нужен период, испытательный срок на то, чтобы оно окончательно проявилось во мне. Вдруг я не тот? Вдруг я действительно всего лишь жалкий умалишённый, который грезит своим обезображенным сознанием наяву и рождает химер. Вдруг я не смогу, вдруг я всё загублю? Вдруг выбор мой не самостоятелен, а навязан мне извне, какими-либо таинственными и зловредными стихиями?
Понадобилось несколько лет, чтобы я получил подтверждения о присутствие во мне Силы.
В ту апрельскую ночь тысяча девятьсот восемьдесят шестого года я по обыкновению не спал, погружённый в душевные терзания. Я переживал очередной приступ отчаяния. Мне казалось, что всё напрасно, что вокруг и внутри лишь тьма, что я малолетний безумец, если способен в тринадцать лет рассуждать на такие темы и испытывать подобные эмоции, что я прокажённый, что я уродец, что не лучше ли мне закончить все мучения разом, оставить этот мир в одиночестве, без сопротивления, без противостояния, просто уступить ему как более сильному – подобные мысли, мысли о добровольном уходе, станут для меня сущим наваждением и ещё неоднократно будут являться, чтобы терзать меня по тому или иному поводу, несмотря на ощущение Силы и Правды, на протяжении десятилетий.
Мы спали с сестрой в одной комнате. Она тихо и благодушно сопела на своей кровати, я не могу вспомнить, чтобы хоть раз она имела какие-либо проблемы со сном и глубокими душевными переживаниями. В соседней комнате не так тихо и не так благодушно, но в целом глубоко и насыщенно переживали посредством увлекательно-глупых сновидений тягучую ночь мои родители. Иногда их глубокое дыхание превращалось в громкий и торжествующий храп, который они умудрялись издавать по очереди и который нисколько их не беспокоил, а наоборот – погружал в ещё более глубокую фазу сна. Они были просты и безмятежны, мои родственники, они не подозревали, что творится со мной.
А я готов был бросаться на стены. Я переживал это состояние неоднократно, и обыкновенно мне хватало лишь нескольких переворотов с бока на бок, чтобы развеять и даже отогнать душевный гнёт, но в эту ночь было что-то не так. Я переживал полное и абсолютное смятение. Холодная режущая тьма раз за разом рассекала лихим и невыносимо болезненным ударом моё сознание, принося ему какие-то необъяснимые и отчаянно пугающие образы. Я не мог их идентифицировать, я не мог проникнуть за грань их понимания. Это были не образы людей, не образы предметов и вовсе не материальные образы. Впрочем, абсолютно нематериальными я назвать их тоже не могу. Это было нечто, не поддающееся описанию, нечто необъяснимое и могучее, что вливалось в меня широким потоком и заставляло трепетать.
Не в силах сдерживаться, я поднялся на ноги и стал отмерять по небольшой комнатке торопливые шаги. Я вдруг понял, что если не начну сопротивляться этому наваждению, то через несколько мгновений оно меня расплющит. Превратит в отсутствие.
И я попытался защититься. Я сжался в комок – и снаружи, и внутри – я завопил в эту пустоту. Вот уж не помню, был ли это молчаливый вопль, или же он разнёсся по всей квартире, исторгнутый моей гортанью, но я вкладывал в него всю злобу. Всю свою ненависть к тому, что против меня, всё своё негодование, всю свою бушующую боль. Не помню, сколько это длилось, потому что осознание реальности покинуло меня.
Очнулся я под самое утро, лёжа на полу, скрюченный и холодный. Голова была ясной, наваждение отступило. Я перебрался к себе на кровать, укрылся одеялом и вскоре забылся крепким, безмятежным сном.
На следующий день, пытаясь вспомнить пережитое и как-то объяснить его, я лишь в бессилии терялся в догадках, приводя немыслимые, фантастические доводы к пониманию произошедшего со мной. Впрочем, шок от случившегося быстро развеялся, чрезмерно глубоких и дотошных вопросов я себе не задавал – всё-таки это наваждение вполне укладывалось в общую картину моего безрадостного существования. К вечеру я уже, пожалуй, и не вспоминал о нём.
Но новости, прозвучавшие через пару дней с экрана телевизора, заставили меня взглянуть на произошедшее по другому. Да, через пару. Может быть, через три. Насколько мне помнится, советское руководство не сообщало в первые дни о произошедшей трагедии.
А сообщив, сделало это мягко и учтиво, словно возлюбленная, которая поведала хахалю о внезапном прекращении месячных. Ситуация под контролем, просто в воздухе витает немного радиации. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, не открывать форточки и закрывать рот носовым платком, то двести лет ещё проживёте, ни разу не кашлянув.
Большинство даже пропустило первые сообщения о взрыве мимо ушей, словно там действительно ничего особенного не произошло. Лишь уличные разговоры и стремительно разраставшаяся по городам и весям Советского Союза паника заставили изменить отношение к произошедшему, начать переживать случившееся всей праведной советской грудью, строить предположения и гипотезы, а также размышлять о последствиях.
Я же, напротив, в самый первый миг, едва до ушей моих долетели обрывистые телевизионные фразы о каком-то взрыве, тотчас понял, что трагедия эта имеет ко мне самое непосредственное отношение. С ужасом и перехлёстывающим через край душевных эмоциональных вместилищ торжеством я распознавал в себе виновника случившегося. Испугался ли я? Пожалуй, да. Но не последствий, которыми грозило для меня раскрытие тайны авторства этого взрыва, а той немыслимой ответственности за Силу, которая вдруг в одночасье опустилась на меня. В те дни для меня стало окончательно и бесповоротно ясно, что я другой, что я вне и над, что я существо особой организации и особых возложенных на меня миссий.
Испугался – и испытал облегчение. Потому что-то где-то в самых отдалённых уголках собственного «я» жаждал этого прорыва, стремился к нему и был однонаправлено на него нацелен. Я вроде бы даже вздохнул этак облегчённо-снисходительно: мол, ставки сделаны, задачи ясны, методы понятны, осталось лишь шаг за шагом двигаться к поставленной цели.
– Ты представляешь! – ворвался я в соседнюю комнату, где сестра тискалась с двумя своими дружками-переростками, и объятия всей троицы были весьма горячи. – Всё же я тот самый!
Сестра, которая была старше меня на четыре года – в те времена каждая вторая семья имела двух детей, разница в возрасте между которыми составляла четыре-пять лет, так негласно требовал советский быт – переживала в то время пик подростковой сексуальности и одного парня для озорных и экспрессивных утех ей не хватало. Оба были старше её, учились в профессионально-технических училищах, престиж которых уже тогда был никудышный – аббревиатуру ПТУ расшифровывали как «Помоги тупому устроиться» – носили «бананы», эти несуразные расширенные штаны с несуразными расцветками, неожиданно вошедшие в моду в середине восьмидесятых, обладали растительностью на лице, в виде реденьких усиков, которые из моды уже начинали выходить, в общем чуваками были современными и крутыми. Сестра просто не могла не раскрыть им свои созревающие прелести.
Наташа, смущённо отстранившись от парней, бугорки которых, выпячивающиеся из-под ткани брюк аккурат в междуножье, не могли не притянуть мой блуждающий взор, немного удивилась этой паре достаточно связных фраз, которые я соизволил произнести, но совершенно не уловив их смысл, напряжённо-предупредительно нахмурилась.
– Ты ещё не выпил таблетки? – строго спросила она.
Несмотря на то, что никаких громких диагнозов в то время мне ещё не было поставлено, меня то и дело пытались пичкать какими-то успокоительными таблетками. Особенно настаивала на этом мама: таблетки давались без всякого рецепта, горстями – я не сопротивлялся, потому что знал, что никакая химия не окажет на меня ни малейшего воздействия. Она и не оказывала.
Халатик сестры был распахнут, я видел за его поблёкшей тканью обнажённые и достаточно тощие взгорья грудей. Наташа не запахивалась, видимо не считая меня человеком, которого следует смущаться – то ли потому, что я был брат, то ли потому, что был недоразвитым.
– Да причём здесь таблетки?! – приплясывал я от возбуждения. – Я взорвал Чернобыльскую станцию! Я – разрушитель! Я способен, у меня есть дар, ты понимаешь? Может быть, прямо сейчас, прямо здесь я смогу разрушить весь мир!
– Володя, – привстала с кровати сестра, – пойдём на кухню, тебе пора принимать лекарства.
Она была почти добра, моя ограниченная похотливая сеструха, она почти жалела меня.
– Да, парняга, – подтвердил её дружок, тот, что сидел справа и «бананы» которого имели тёмно-синюю окраску, а усы обрамляла зона невылупившихся прыщей. – Пора закинуться колёсами.
Он подмигнул мне.
– А то ещё разрушишь тут нам весь кайф, – добавил второй Наташин ухажёр, тот, что находился слева, обладал бордовыми «бананами» (я не вру, хотя вы правы: носить бордовые штаны – это ещё более весомый идиотизм, чем мечтать о разрушении мира), а прыщей над и под усами почему-то почти не имел.
– Заткнитесь, уроды! – рявкнул я вдруг на них. – Я повелитель мира, а вы говно на палочке. Я превращу вас в пыль, если захочу.
Обычно я не говорил людям такие вещи. Я знал, что они обидчивы и, как правило, мускулистее меня. Но в тот день мне не был страшен сам чёрт, сам Гитлер, сам Замутитель Большого Взрыва – я был грозен и могуч, о, я был действительно грозен!
Двумя короткими и вроде бы даже несильными тычками меня повали на пол. Больше не били. Наташа с укоризной смотрела на меня сверху вниз. Она была солидарна с разрывающимися от гормонов дружками – и кайф я людям обломал, и веду себя борзо. Она и сама порой применяла ко мне – в целях воспитания, разумеется – такие же методы.
Я махнул на них рукой – чёрт побери, кому я рассказываю о своём даре! – вскочил на ноги и выбежал на улицу. Счастье, огромное, пульсирующее счастье всё ещё бурлило во мне и жаждало быть высказанным.
– Дяденька! – подбежал я к первому встречному мужчине затрапезного вида, – вы знаете, что Чернобыльскую станцию разрушил я?
– Нехорошо, – покачал головой мужчина. – Нельзя так делать. Ведь ты пионер.
Да, как ни странно, я действительно был пионером. Придурков тоже туда принимали.
– Хотите, – продолжал я торжествовать, – я превращу вас в ничто?
– Да я и так ничто, – грустно ответил нетрезвый, как стало мне понятно, мужчина и печально зашагал вдаль, время от времени всматриваясь в заросли кустарника, видимо в поисках пустых бутылок.
– Тётенька, а это я Чернобыль взорвал, – подскочил я к проходящей мимо женщине с двумя сумками. – Я и вас могу.
– Сейчас вот к родителям тебя отведу, – взглянула она на меня злобно. – Они покажут тебе и Чернополь, и Сталинград, и битву на Куликовом поле.
Да, именно так, «Чернополь», назвала она этот несчастливый украинский городок. Так, как звали его несколько недель, а может месяцев почти все советские граждане – определить на слух в этом хитром сочетании букв какую-то чёрную быль было действительно непросто. Вполне возможно, что Чернополем какое-то время звал его и я.
– Господи! – возмутился я. – Да ты ничего не понимаешь, тупая сука! Если я разрушил Чернобыль, значит, этот мир ничтожен и жалок. Значит, его можно свернуть, скомкать и сдуть с ладоней. Значит, и ты можешь разом пропасть от одного-единственного моего дуновения.
Я всё же решил разрушить мир. Вот прямо здесь, вот так сразу. Несколько секунд я надувал щёки, тужился, но лишь слабенько пукнул. Нет, я не впал в панику, я понимал, что для такого действа нужна огромная подготовка и сосредоточенность, что сейчас мне не хватает ни того, ни другого, но разочарование в непостоянстве своего величия всё же чрезвычайно огорчило меня. Я гнал страшные предположения о том, что взрыв Чернобыля был лишь сиюминутным просветлением. Я понимал всем своим существом, что это не так, что это не может быть так, но терпением, мудрым долгосрочным терпением в то время я ещё не обладал. Я расплакался, но сумел быстро взять себя в руки – могущественные существа не имеют права плакать, да к тому же на виду у всех.
Впоследствии мне отчаянно доказывали, что я набросился на эту тётку с кулаками, повалил её на землю и принялся молотить по лицу и тучному торсу. Ложь. Подлая ложь. Одна из уловок агентов действительности, которые только и рады, чтобы применить самые дешёвые, самые ничтожные и самые мерзкие трюки для того, чтобы устранить неблагонадёжные элементы. Такие, как я.
Ну для чего, для чего, я вас спрашиваю, мне понадобилось бить эту тётку, когда я мог просто превратит её в песчинку? Для чего?
Думаете, не мог? Уверены, что не мог? Ну, быть может, быть может, именно тогда в тот самый момент того самого дня я и не мог совершить это, потому что разрушить Чернобыльскую АЭС – это вам не говно на улице пинать, это требует колоссальной нагрузки нервной системы и колоссальных физических затрат, после которых необходимо восстанавливаться не один месяц. Да, не мог превратить я её в песчинку, но ведь я осторожен, я знаю, на что способен этот мир, я знаю, на что способны люди, я никогда не испытывал иллюзий по отношению к ним, ни на секунду. Я бы просто процедил сквозь зубы что-нибудь злобное и отошёл в сторону искать новую жертву для моих счастливых исповеданий, но бить… Нет, я отказываюсь признавать это. Это происки агентов, это они всё подстроили.
Сам я, к сожалению, не помню, что произошло, но разве упомнишь все эпизоды своей грёбаной жизни? Вы наверняка не помните даже половину. А с меня-то какой спрос? В общем, ничего подобного не было.
Но эта провокация силам зла явно удалась. Признаю. Потому что после неё моя жизнь изменилась. В худшую ли сторону, в лучшую – не мне судить. Да и не вам. Она изменилась, вот и всё.