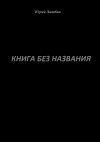Текст книги "Человек-недоразумение. Роман"

Автор книги: Олег Лукошин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Скрытые смыслы Перестройки
Время быстро бежит. Говорят, после сорока даже не успеваешь считать года. Быстро оно бежит и в детстве – года считать успеваешь, но удивления от того, как скоро они превращаются в прошлое, велико и ядовито.
Я и глазом моргнуть не успел, как пронеслись два с лишним года моего пребывания в интернате. Конец восемьдесят восьмого – знаменательное событие в моей жизни. Тогда, в декабре, я чуть не разрушил всю Армению, наслав на неё губительное землетрясение.
Почему Армению? Чем не милы мне армяне?
Да дело не в армянах. Это мог быть кто угодно. Это и был кто угодно – я и в Японии сотрясал землю, и в Перу. Но землетрясение в Армении памятнее – в нём я продемонстрировал таившуюся во мне Силу во всей красе.
– Вот оно! – бежал я по больничным коридорам, сжимая в руках свежий номер газеты «Известия» (между прочим, выписываемой, как и несколько других газет и журналов, интернатом), на первой полосе которой под большой фотографией рыдающей армянской старухи шла большая статья, переходящая на вторую полосу и вроде бы даже на третью, где подробно описывались все последствия моего злодейского деяния. Обо мне, к некоторому моему сожалению, в статье не говорилось ни слова.
Впрочем, чему тут удивляться? Всенародно раскрывать себя я не собирался (хотя и мог, прояви ко мне хоть какое-нибудь завалящее издание маломальский интерес), а откуда ещё могли узнать недалёкие журналисты «Известий» об истинных причинах произошедшего.
– Ещё немного! – бормотал я в сладострастном экстазе. – Ещё совсем немного, и я отправлю этот грёбаный мир в тартарары!
– Слышишь! – повышал я голос, на бегу поднимая глаза к потолку (вот только зачем – не к несуществующему же богу я обращался?). – Тебе не избежать этого! – грозил я притаившемуся и испуганному миру.
Мир безмолвствовал.
– Что за ёкэлэмэнэ?! – остановил меня на бегу главврач Епископян, схватив большой волосатой рукой за плечо. – Чему радуемся?
Он выглядел устало и потерянно. Тогда мне не пришло в голову, но сейчас я понимаю, что ведь, чёрт подери, Епископян был армянином, а значит не мог не переживать произошедшее в Армении со всей болью своего большого кавказского сердца. Сейчас мне даже приходит на ум, что в том землетрясении могли погибнуть его родственники.
Тогда-то между нами и произошёл короткий и в целом неприятный диалог, единственный за всё время пребывания в этой психиатрической клинике.
– Представляете! – радостно замахал я перед его лицом газетой. – Армения в руинах! Разрушены города и сёла! Чудовищный разгул стихии! Только они не знают, не понимают, кто на самом деле истинный виновник произошедшего!
– И кто же? – нахмурившись, произнёс главврач.
– Я! Ну конечно же я! А вы как думали? Это моих рук дело! В скором времени я вообще всю планету разнесу на кусочки. А за ней и…
– Как твоя фамилия? – сморщил Епископян лоб. Я почувствовал, что его ладонь плотнее и жёстче, прямо-таки до боли, обхватила моё плечо.
– Ложкин.
– Ложкин… Ложкин… Вроде бы в последнее время ты казался вполне здоровым.
– Да и я здоров! – возразил я. – Ну как же не понять. Всё дело в том, что…
И тут же мысленно махнул рукой – ну чего я открываю перед этим тупым доктором свою тайну?
– Надо будет прописать тебе новые процедуры, – произнёс он сурово и как-то даже зло. – Твоё стабильное состояние оказалось обманом.
Рука его разжалась, он повернулся и скрылся за дверью своего кабинета.
– Вот оно! – продолжил я свой радостный бег с газетой наперевес. – Вот!
Мои сопалатники, в отличие от ограниченного доктора, оказались впечатлёнными моими пусть пока и неосознанными, но всё же явными деяниями и поздравили меня с очередным громким успехом.
– Разрушитель, – хлопал меня по плечу Гриша. – Разрушитель Мира. Только так буду звать тебя отныне. Вот кто пойдёт дальше всех нас, вот кто заставит Причинность разговаривать с собой на «вы». Поздравляю, искренне поздравляю!
Остальные тоже присоединились к поздравлениям. Слух о моём успехе тут же разнёсся по всему интернату. Организовалось что-то вроде стихийной вечеринки: придурки доставали из запасников припрятанные на особый случай вкусные вещицы – вроде конфет, кабачковой икры или даже бутылки коньяка – и без жалости несли его в нашу палату, желая угостить меня и поздравить с успехом. Цыган Яша, припёршись с гитарой, спел в мою честь песню «Спрячь за высоким забором девчонку» (правильно, это была девчонка!), а Шлюшка Света сама, без малейшего принуждения, присела ко мне на колени и даже позволила весь вечер тискать себя за грудь. Видели бы вы с какой завистью смотрели на меня братья-придурки, причём независимо от пола! Даже девчонки понимали, что тискать Свету – это редкая привилегия в нашем больничном существовании, сравнимая с самим явлением древним евреям безмерного счастья в виде десяти заповедей и тащившего их под мышкой Моисея. Впрочем, именно Света позволила себе лёгкие упрёки и некоторые сомнения в целесообразности моей благородной деятельности.
– Ну, Вов, – выпив бокал коньяка, говорила она, томно заглядывая в мои обалдевшие от стопроцентного счастья, более лучезарные, чем у любого древнего еврея глаза. – Ну чем тебе не нравится этот мир? Откуда эта дикая настойчивость, с которой ты желаешь его уничтожить? Чем он тебе не мил?
И это говорило создание, не видевшее в этом мире ни единого благостного просвета! Более того, любой элемент этого долбанного мира вызывал в ней неизбежное отторжение и досадное депрессивное понимание того, что она никак не сочетается ни с ним, этим самым элементом, будь он мужчиной, кроватью или розовой юбкой, ни со всем миром в комплексе. Эта чистая девушка весь грех за эту несочетаемость принимала на свой счёт, обвиняя лишь себя – безмолвно, бестрепетно – за своё моральное, как она считала, уродство и за то, что не смогла вписаться в структуру окружающей действительности должным образом. Чёрт побери, осознав в себе всё это, я был поражён её невидимой кротостью, но согласиться с ней не мог никоим образом. Я ни на малейшую секунду не мог позволить себе предположение, что проблемы моей собственной несочетаемости с миром – это исключительно мои проблемы, а не его, этого самого гадкого мира. Я был твёрд в своих убеждениях, в своей цельности, в своей яви, в своей значимости: если миру не угоден я, то исчезнуть из нас двоих должен он.
Примерно это я и поведал ей.
– Но пока ты разрушаешь не мир, – вдруг выдала Света, – в первую очередь ты разрушаешь нашу страну, Советский Союз. Почему бы тебе не бабахнуть что-нибудь в Америке?
Эта претензия заставила меня задуматься на несколько секунд, но я довольно быстро нашёл ей объяснение.
– Дело в том, что я ещё недостаточно силён для того, чтобы распространять свою разрушительную силу за границы нашей страны. Через какое-то время я непременно научусь этому, но пока будет просто замечательно, если я разрушу этот долбанный Советский Союз.
– Нет, – возразил вдруг писатель Игорь, – Советский Союз не долбанный. Я уважаю Советский Союз, это справедливое установление.
Как ни странно, почти все придурки оказались большими поклонниками советской власти.
– Вся эта Перестройка – дьявольское явление, – молвил настоятель церкви Гриша. – Я пока не до конца уяснил, что за силы запустили её, но силы эти явно против Иисуса. Она перемелет нас всех своими жерновами. Горбачёв – исчадие ада, у него даже метка имеется.
К Горбачёву в то время я относился с определённым уважением. Принадлежность к клану правителей и общая, свойственная всем этим в целом недалёким и явно ограниченным людям зашоренность, разумеется, отпугивали, но разрушительные импульсы, бурлившие в этом человеке, фонтанирующие в нём, срывавшиеся с его губ видимым невооружённым глазом энергетическим потоком, не могли не вызывать во мне симпатии. Я, почти как в Брежневе, видел в Михаиле Сергеевиче родственную душу: такого же потерянного, мало что понимающего в устройстве государства, а оттого желающего превратить его во что-то иное, быть может, и в пустоту, человека. Конечно же, я заступился за него.
– Горбачёв – это будущее человечества! – воскликнул я горячо. – Он опередил своё время как минимум на пару сотен лет. А может тысячелетий. Даже если исходить из того, что человек когда-либо сможет достигнуть заветных берегов скудного счастья или хотя бы его достаточно убедительного подобия, то Михаил Сергеевич пытается освободить людей от атавистических остатков первобытнообщинного строя. Что делает человека наследником обезьяны? Конечно же, государство! Это примитивное разделение рода людского на своих-чужих, этот инстинктивный страх перед варваром-монголом, который прячется с тесаком где-то за перепаханной пограничной полосой и вот-вот готов её пересечь, чтобы порубать всех нас на куски. Горбачёв – это анархист во власти, и этим он прекрасен! Вы только оцените этот художественно-исторический парадокс и попытайтесь понять, в какое удивительное время вы живёте! Дай бог, он разрушит одно государство, наше, эта волна распространится на весь мир, начнут рушиться другие. Если после уничтожения государства человечество сможет освободиться от национальностей и религий, то оно в конечном итоге действительно может стать счастливым.
– Да тебе-то что в этом, тебе? – пытался спорить со мной, хотя уже с гораздо менее явным жаром, Григорий.
– Ну, знаешь ли… Может быть я, на самом деле, не такой уж и разрушитель. Может быть, я всего лишь хочу быть гармоничным человеком в гармоничном обществе? Может быть, при появлении такого общества, я откажусь от своих планов по разрушению мира?
– Ты не доживёшь до возникновения такого общества, – обломал меня Гриша.
– Вот поэтому-то мне и насрать на весь мир, – буркнул я раздражённо. – Если мне не видать успокоения и счастья в этой жизни, какое мне на фиг дело до всех остальных людей и какого-то там призрачного будущего, в которое дорога для меня закрыта? Пусть они исчезнут вместе со мной.
Колумб Слава оказался более пространен в своих рассуждениях о Советском Союзе и Перестройке, но всё же не высказал явного отрицания коммунистов.
– По крайней мере, они декларируют равенство, а это большое завоевание, – высказался он. – Капитализм, приди он однажды в нашу страну, поставит всё с ног на голову. К счастью, этот вариант кажется мне совершенно неосуществимым.
– Э-э! – в сердцах махнул я на них рукой. – Да вы, оказывается, ничего не понимаете! Какая справедливость, какое равенство? Вы как трусливые макаки оправдываете тот факт, что вас поместили сюда, в это почти тюремное заведение, и держат словно бешенных псов, вдали от правильного и разумного человечества.
– Нам здесь неплохо, – робко возражали они. – Да и какое отношение наше пребывание здесь имеет к экономическо-политическим системам?
– Да самое прямое! Самое! – горячился я.
– Ты хочешь сказать, что при капитализме мы не сидели бы здесь?
– Не сидели бы! Кто бы платил за ваше содержание в пансионате? Вы сами? Какими средствами? У капитализма просто-напросто не было бы времени и денег заниматься вами. Но дело не в этом. Вы правы, социализм и капитализм здесь вовсе не причём. В конце концов, я разрушу их все, без оглядки на прошлое и будущее, без жалости. Но разрушение, если я начал его с Советского Союза, надо последовательно продолжать. Пусть сначала исчезнет он, потом другие близлежащие страны, потом Великая Пустота охватит всю Землю целиком, а вслед за ней перекинется и на другие планеты, в другие галактики. Я уничтожу всё, само сущее, само воспоминание о нём.
– Как ты жесток! – печально смотрела на меня Света. – Я никогда не встречала такого вопиюще жестокого человека.
Тогда я смутился её словам, а сейчас понимаю, что в них было не только осуждение, но и некое – впрочем, даже не некое, а вполне сильное и явное – любование моей Силой. Увы, все эти оттенки мне не удавалось тогда понимать и осознавать в полной мере.
– А что если у тебя в дальнейшем не хватит сил, и ты сумеешь разрушить только нашу страну, – поинтересовалась Красная Шапочка, тихая, почти бессловесная девчушка, никогда никаких головных уборов не носившая и даже не терпевшая их в принципе, а прозвище это получившая по какой-то неизвестной оказии.
– Хватит! – поспешил я отмахнуться. – Должно хватить. Я чувствую в себе огромную Силу. Я воистину Разрушитель Мира.
– Ты и нас уничтожишь? – пристально заглядывая в мои глаза, спросила Света. – И меня?
Я чуть было не ответил, что, мол, тебя непременно пожалею или что-то в этом благородно-вшивом духе, но тут же понял, что это будет нечестно по отношению к самому себе и той борьбе, которую я веду с мирозданием, а потому ответил как должен был.
– Придётся. Вас, тебя. И себя тоже, в конце концов.
– Сделай это так, – высказала вдруг пожелание Света, – чтобы это было не больно. Чтобы я ничегошеньки не почувствовала.
– Постараюсь, – отвёл я глаза в сторону, так как больше не мог выносить напряжения этих бесконечно тоскливых и бесконечно проницательных глаз. – Хотя гарантировать не могу.
Света лишь тяжко вздохнула и тут же погрустнела. Видимо этот разговор вызвал в ней очередную волну депрессии.
– Я тебя понимаю, – говорил мне задумчиво писатель Игорь, – и даже внутренне на твоей стороне. По крайней мере, моя натура, мой внутренний голос так и просится поддержать тебя. В этом есть своя, безусловно, простая, чистая и сермяжная правда: если мир меня отрицает – а меня лично он определённо отрицает – то с какой стати я должен принимать его? Это так, я испытываю то же самое. Но в то же мгновение во мне появляется страх: кто я такой, чтобы отрицать не мной созданное? Установление – оно может быть непонятно, бессмысленно и неприятно, по крайней мере, может казаться таким, но раз оно возникло, значит, изначально в нём присутствовал некий смысл. Установление – это очень серьёзная вещь. Может быть, я просто недостаточно значим для этого смысла, чтобы суметь понять его?
– Чушь! – тут же выдал я в ответ. – Типичная позиция слабака. Аз есмь – вот правильная позиция. Всё, что хорошо для меня, хорошо и для мира – вот правильная позиция. Если что-то для меня не так, то, значит, не так и для этого самого мира – вот правильная позиция. Какой смысл в установлении под названием Советский Союз? Какой смысл в социализме? Где вы видите это самое равенство, которое он якобы гарантирует. Мы члены этого установления, но мы поставлены в положение говна! Мы говно на палочке, вы понимаете это?! Мы придурки, отщепенцы, изгои! Какой у нас выбор? Принимать такое отношение к себе? Нет, сопротивляться!
– А какой смысл в любимом тобой капитализме? – попытался возразить Колумб Слава.
– Я не говорил, что люблю его. Но в данном конкретном историческом промежутке он необходим, чтобы разрушить более слабую конструкцию – социализм. Поэтому я его приветствую. А затем, если разрушится социализм, – продолжал я ретиво, – то для разрушения капитализма не понадобится вообще никаких усилий. Ни моих, ни чьих либо ещё. Он рухнет сам по себе. Социализм-капитализм – это ярко выраженная дихотомия, они существуют исключительно за счёт друг друга. Если исчезнет один элемент, в самое ближайшее время пропадёт и другой. Ему просто-напросто не на что будет опираться для устойчивости.
– Допустим, что это так, – со мной хором спорили уже все присутствующие в палате. – Но пустота на их месте – это всё же слишком страшно.
– Надо преодолевать в себе этот страх, – вещал я.
– Если капитализм и социализм уничтожат друг друга – значит, на их месте возникнет что-то третье, – перекрикивая друг друга, кричали придурки.
– Ничего на их месте не возникнет, – успокаивал я всех. – Я не позволю. У людей просто времени не хватит создать что-либо новое.
– Ты можешь уничтожить материю, но тебе никогда не уничтожить мысль! – выдала вдруг явно взбудораженная Красная Шапочка. – Тебе не уничтожить Идею и весь Мир Идей, из которого возникает всё в нашей Вселенной.
– Господи! – посмеивался я. – Из чего же возникнет Идея, если будет отсутствовать материя?
– Сознание первичнее материи! – визжала она.
– Кто тебе это сказал, глупенькая? Где доказательства? Обоснованные научные доказательства?
– А-а, значит, науку ты всё же не отрицаешь? Значит, и тебе требуется какая-то опора.
– Да ничего мне не требуется, – оборвал я пререкания. – Я науку тут так приплёл, для связности.
Я взглядом попросил Шлюшку Свету приподняться с моих колен, встал на ноги и поднял над головой кружку с плескавшимся в ней коньяком. Надо сказать, что пил я первый раз в жизни. Никакого опьянения ко мне не приходило, что меня чрезвычайно удивляло.
– Выпьем за Перестройку! – выдал я несколько несуразный тост. – Выпьем за явление, которое что-то меняет в окружающей нас действительности. Нравится она нам, или нет, но перемены – это сильно. Это достойно уважения.
Кое-кто из придурков попытался было высказать возражения, но за исключением вступительных шипящих звуков ничего не произнёс. По большому счёту им было всё равно за что пить и о чём спорить.
Мы выпили, через минуту я почувствовал наконец-то нечто, что могло представлять собой опьянения, попросил только того и ждущего Яшу спеть и под звуки заезженной цыганской песни пригласил Свету на танец. Она не отказалась.
Прелести падшей девочки
Сказать по правде, Шлюшка Света была самой зажиточной особой среди всех обитателей психиатрической лечебницы. В отличие от нас, бестолковых иждивенцев гуманистической советской системы, она уже тогда апробировала собственным телом порочные преимущества рыночной экономики, научилась зарабатывать деньги, тратить их на ненужные, но броские вещицы, а так же кое-что откладывать. По интернату гуляли байки о том, что под одной из половиц свой палаты Света организовала тайник, куда складывала накопленные честным трудом деньги. Якобы их скопилось у неё уже сто тысяч. Надо заметить, что цифра «сто тысяч» производила на советского подростка, да и вообще на советского гражданина весьма сильное впечатление. Честно говоря, даже цифра «тысяча» производила на гомо советикус большое впечатление, потому что тысяча рублей советских денег – это было очень, очень и ещё раз очень неплохо. Никаких ста тысяч у Светы, разумеется, не было и в помине, не было у неё и тысячи, а вот два-три червонца в карманах водились постоянно, что делало её независимой, гордой, а подчас и высокомерной особой. Впрочем, по натуре она была всё же добрым и глубоко ранимым человеком. Испытывающий в то время период подростковой гиперсексуальности, я, конечно же, поспешил влюбиться – не по настоящему, а так, как бы между прочим – в эту падшую девочку и принялся фантазировать о её близких, но всё же по-настоящему недоступных прелестях.
Фантазировал о ней не я один. Всей нашей высокоинтеллектуальной палатой придурков-отщепенцов мы с замиранием сердца припадали к окну и наблюдали, как Света, услышав звук автомобильного клаксона, торопилась выбраться на улицу, чтобы обслужить клиента. Ни санитары, ни врачи, ни даже свирепый дворник Пётр Исмагилович, посещавший с достаточно продолжительными визитами как минимум три раза места, как говорят у нас, не столь отдалённые и один раз совершенно определённо за убийство, не пытались препятствовать ей в исполнении таких дефицитных в советские времена услуг, как услуги интимного свойства.
Клиенты Светы, как я вскоре понял, делились на две категории: замасленных водил, приезжавших на пердящих «зилках», и «золотой» советской молодёжи, являвшейся к воротам психушки на папиных – нет, нет, не «Волгах» – а «Жигулях» -«копейках». В нашем провинциальном городе «золотая» молодёжь была соответствующей – глубоко провинциальной, поэтому и слово «золотая» я употребляю в могучих кавычках. Быть может, по тем временам с какого-то перепугу эти милые комсомольцы на подержанных «копейках» и могли показаться осыпанными золотом, то сейчас-то уж совершенно понятно, что от средней советской массы благосостоянием своим они выделялись незначительно. Собственно говоря, вся «золотая» молодёжь, пребывавшая в статусе Светиных клиентов, ограничивалась двумя особями. Которые, впрочем, частенько привозили своих друзей, отчего клиентура Светы не застаивалась.
Водилы приезжали чаще. Видимо, по сравнению с молодёжью, пусть даже и «золотой», у них имелось побольше свободной наличности, которую они готовы были пустить на экзотические утехи.
Иногда сквозь окно палаты нам удавалось рассмотреть отдельные эпизоды, происходящие в кабинках машин. Как правило, мы видели лишь фрагмент головы, плеча или спины, какое-то шевеление – в общем, всё было весьма непонятно, но буйная фантазия вмиг достраивала картинку.
– Похоже, сосёт, – говорил Гриша, жадно вглядывавшийся в светлые проёмы на отчаянно грязном стекле. – Её не видно, а шофёр голову назад закинул от удовольствия. Точно, сосёт.
– Наверно, трогает его за яйца, – добавлял полу-мечтательно, полу-злобно Слава. – А может, лижет их.
– Сучка! – издавал я горький возглас. – Вот ведь какая сучка!
Друзья смотрели на меня с любопытством. Они уже миновали стадию эмоциональных обвинений Светы в потери чистоты и воспринимали её такой, какая она есть. То есть с большим пониманием.
– Всё, больше не могу! – тяжко вздыхал Гриша. – Надо дрочить.
Он начинал терзать свою пипиську прямо тут, у окна. За ним подтягивались остальные. На второй или третий раз к массовому онанизму присоединился и я.
Надо заметить, что одно время я считал секс и всё, что с ним связано формой порабощения. Формой дремучей, варварской, навязанной откуда-то извне. Я отчаянно сопротивлялся этому вечному зову похотливых чресел, я полагал, что он заложен во мне исключительно с целью контроля и подчинения воли. Сопротивляться ему сил, конечно же, не хватало, я то и дело срывался в стремительное и лихорадочное рукоблудие, каждый раз после семяизвержения нещадно ругая себя за слабость. Как же я разрушу мир, упрекал я себя, как же вспорю это мутное полотно, как же развею эту причудливую дымку, если во мне покоится нечто, что я не в силах контролировать? Значит, мной управляют, значит, меня могут направить по иному пути… Мысли эти приносили неимоверное страдание. Однако, попав в психушку, я постепенно стал относиться к устремлениям плоти проще. Прежде всего, потому, что просто относились к ним мои сопалатники, которых я зауважал сразу же и безоговорочно. Подрочить для них не считалось чем-то зазорным. Оказалось, что при определённом угле зрения, определённых обстоятельствах и определённом внутреннем ощущении секс – даже с самим собой – может стать такой же формой протеста, как взрывы атомных электростанций и землетрясения.
– И не стыдно тебе, архиепископ? – упрекал меня Григорий, обстоятельно и неторопливо двигая рукой вверх-вниз.
– А тебе не стыдно, преподобный? – отвечал я, совершая резкие и отчаянные движения.
– Ой, стыдно! Вечером все ко мне на покаяние! А я перед тобой покаюсь. Может, простишь мне мои прегрешения.
Вскоре основатель Церкви Рыгающего Иисуса после короткой исповеди, которую он принимал сидя на кровати, отпускал нам наши грехи – до следующего грехопадения. Я же в свою очередь выслушивал исповедь Гриши и, осеняя крестным знамением, отпускал его ничтожные грешки.
Вернувшись с работы, Света – если расплачивались с ней не деньгами, а продуктами, что происходило частенько – угощала нас разными вкусностями: печеньем, соком, жевательными резинками. Они в те времена ценились особенно сильно.
Порой, задерживаясь у нас, она делилась с нами впечатлениями о прошедшем акте.
– Ой, пацаны, вы не поверите, – выпучив глаза, рассказывала она, – у этого мужика такой здоровенный набалдажник! Он так меня пёр, так пёр, я чуть не скопытилась. А вообще приятный дядька. Фотографию детей показывал, у него их трое. Блин, я тоже троих детей хочу!
Как я уже говорил, кроме прикосновений к интимным местам, Света ничего этакого нам не позволяла. Видимо она воспринимала все эти траханья в машинах исключительно как грязную и малоприятную работу. Мирок же интерната представлялся ей гораздо более светлым и чистым, Света не желала осквернять его низменными деяниями и потому все наши попытки склонить себя к сексу пресекала жёстко и зло. Мои отношения с ней установились на уровне доброй и даже несколько романтической дружбы.
– Ты хороший, – говорила она мне во время прогулок по небольшому парку, примыкавшему к зданию, туда нас выпускали подышать свежим воздухом, – но какой-то запутавшийся. Ты ещё не нащупал точку опоры, поэтому такой злой и агрессивный. Поверь мне, рано или поздно ты найдёшь её.
– Помоги мне её нащупать, – многозначительно и цинично бросал я, пытаясь просунуть ладонь ей под юбку.
– Только потрогать! – предупреждала меня строго Света. – Понятно?
Мне было понятно, я только трогал. Она была гораздо благосклонней ко мне, чем к другим. Трогать себя так часто она не позволяла никому.
– Если бы не Огонь, – вздыхала она, – я бы тоже смогла нащупать опору.
Огонь – это был тот разрушительный образ, который преследовал её вот уже несколько лет и из-за которого её определили в психиатрическую лечебницу.
– Если есть Огонь, – пытался я рассуждать, – значит, должна быть и Вода. Какая-то влага, которой можно затушить этот пожар.
– Я думала об этом. Мне даже видится иногда какой-то колодец. Я бегу к нему, бегу от Огня, ещё пара мгновений и я смогу зачерпнуть из него живительной Воды, которая так холодна, что от неё ломит зубы и которая непременно потушит любой жар, я даже готова нырнуть с головой в этот колодец, пусть даже и не смогу никогда выбраться из него – но едва я подбегаю к нему и сбрасываю в него ведро, оно всякий раз хлюпается о песок. Я даже вижу его сверху: колодец пересох, его почти до самого верха занесло песком. А вокруг – тоже пустыня. Тоже жар, тоже марево, и Огонь всё ближе, ближе, ближе…
Мне хватило ума сообразить, что это не сон. Этот образ был её постоянным мироощущением, с которым она жила.
– Вот видишь, – печально кивал я ей. – У меня нет опоры под ногами, у тебя нет влаги, мы оба несовершенные. Недоделанные.
– Ты знаешь, я понимаю, что необходимо произвести на свет особое ощущение, некое чувство преодоления, постоянно следовать ему, что поможет избежать неверных ответвлений и тупиков. Я даже чувствую, что вполне способна на эти роды, на роды сильного и светлого чувства, которое спасёт меня в конце концов, но в то же время меня мучает ужасный вопрос. «А зачем?» – звучит в моих ушах. И действительно, зачем всё это, к чему? Какой смысл во всём, если в конце всё равно тьма и небытие? Создавать это чувство просто как ориентир, понимая всю его бессмысленность и тщетность? Нет, это не по мне. Я должна знать про счастливый и самое главное, бесконечный финал, который будет длиться и длиться, который и не финал вовсе, который просто форма жизни. Но нет его, нет! Я же не дура, я способна отличить реальность от иллюзии.
«Это почти как у меня, – удивлялся я. – Почти то же самое. Немного в другой тональности, но по сути – одно и то же».
Осознание это наряду с удивлением рождало во мне испуг. Почему-то мне было приятнее ощущать себя совершенно уникальной формой жизни, ни в поступках, ни в мыслях не пересекавшейся с другими вместилищами человеческой сущности. И видев в ней близкую душу, родственную обитель, глубинную метафизическую схожесть, на какое-то мгновение я желал объединения наших оболочек, объединения полного и безоговорочного, смешения двух кусков теста и энергии в одно целое. Мне хотелось раскрыться во всю возможную и неизмеренную ширь своей натуры и впустить в себя её, столь трепетно волновавшую меня личность. Мне хотелось впустить в себя Другое.
Но мгновение спустя меня настигал какой-то безудержный, совершенно животный страх. Он не поддавался логическому разложению, он просто накатывал лавиной и сковывал железной хваткой. Другое – это распад, понимал я вдруг, это вопиющее нарушение целостности, это потеря самоидентификации. Целостность – единственное, чем я обладаю, отказываться от него равносильно гибели. А погибать я почему-то ни в коем случае не желал.
Противоречие это поражает меня и по сей день. В нём совершенно неподдающаяся моему осмыслению двойственность. Вроде бы ясно, что в подобном раскрытие, в желании и готовности впустить в себя другую сущность, может содержаться немало преимуществ: уйдёт одиночество, появится (появится, говорю себя я, хотя и не уверен в этом) приятность существования, возникнут какие-то новые и заманчивые смыслы, которые отодвинут ледяное дыхание Бездны куда-то далеко-далеко, за самый горизонт, где она и не вспомнится тебе. Но этот страх… Он всё рушит, всё ломает… Откуда он берётся? Если он появляется, значит это не просто так – страх оберегает от опрометчивых поступков, он всего лишь форма защиты. Он призван спасти меня от гибели, не дать распасться, ему ведомо нечто, чего никогда не узнаю я. Значит, я обязан слушаться его, обязан подчиняться. Он за меня, он хороший. Значит, мне просто нельзя впускать в себя это самое Другое, в каком бы обличье оно ни предстало передо мной.
Я верю страху, я следую его указаниям. Я не должен желать единения с иными формами жизни, я не должен желать этой опрометчивой и обманчивой нежности.
Воспоминания о Свете смешиваются в непродолжительный, но пёстрый калейдоскоп, в котором она во всех своих гранях и проявлениях.
– А-а-а-а-а!!! – слышим мы ночью вопль, вскакиваем с коек, выглядываем в коридор.
В одну из палат, где располагаются девочки, бегут санитары. У Светы истерика. Мы подбираемся к дверям девичьей палаты и видим, как она катается по полу, а санитары, получая удары по лицу её извивающимися конечностями, безуспешно пытаются укротить её.
– Помогите! Быстро! – кивает нам санитар Сеня, заметив наши любопытно-изумлённые физиономии.
Мы неуклюже вваливаемся в палату и помогаем связать Свету.
– Всех переубиваю! – вопит она, брызгая слюной. – Гады! Гады вы все, гады!!!
Один из уроков. Даже не помню, кто его ведёт. Мы сидим со Светой за одной партой, я пытаюсь вслушаться в слова учителя, а Света внимательно, с лёгкой улыбкой рассматривает меня со стороны. Потом вдруг вытягивает руку и гладит тыльной стороной ладони по щеке. Я поворачиваюсь к ней, глаза её подёрнуты дымкой и влагой. Я улыбаюсь в ответ и, задержав её ладонь в руке, целую кончики пальцев. Света смущается, выпрямляется, делает вид, что ничего не было, а мне вдруг становится ясно, что я сделал единственно верное действие из всех возможных.
Вечерние посиделки в нашей палате. Коньяк и шоколад. Почему-то Света в этот вечер не со мной, она на коленях у цыгана Яши и даже позволяет ему хватать губами через блузку выпячивающийся под тканью сосок. Моих взглядов она не замечает, сегодня я совершенно не интересую её. Я тоже отчего-то весьма спокоен, хотя то и дело её личико попадает под прицел моих удивлённых глаз. Удивлённых почему, по какой причине? Внутри же – я чувствую это совершенно отчётливо – пусто и равнодушно. Она, понимаю я с каким-то облегчением, не волнует меня.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!