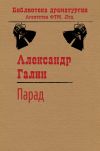Текст книги "Прощание"
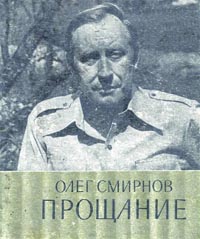
Автор книги: Олег Смирнов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Когда подходили к начальнику заставы, он приподнялся на локтях, глянул на меня, на хозяина и ничего не сказал…
15
Простоволосая рябоватая женщина, впустившая в хату Иру, Женю и Клару, неплохо говорила по русски. Она объяснила:
– Я русская, зовут Матреной. Родилась во Владимире. Который в России. Девчонкой привезли в другой Владимир, в Волынский. А после вышла взамуж за этого красавца и очутилась туточки…
Она была словоохотлива, а муж, не без издевки названный ею красавцем, был как безъязыкий. Как открыли им дверь, он звука не проронил – выходил, приходил, что-то делал, плюхался на лавку, глядел на них липко, по-мужски: глазки маленькие, без ресниц, но брови лохматые, расплющенный нос в бородавках, – жиденькие усы, толстые и тоже будто расплющенные мокрые губы, и был он малость горбатый. Правда, и Матрена не писаная красавица, баба как баба. Но взгляд у нее синий, добрый и приветливый.
Впустив их в хату, Матрена спросила: «Так вы с заставы?» Они кивнули, и Матрена сказала: «Проходьте». Усадила на лавку, дала отдышаться. Потом полила водицы – умылись, протянула рушник – утерлись. Пригласила к столу, поставила чугунок тушеной капусты, тарелку с нарезанным салом, разрезала на ломти поляницу. И все время говорила, говорила: о себе – леший ее занес сюда, на Волынь, о муже – пьяница и бабник, куркуль, о детишках – вон куча сопливых, куда денешься, а то бы бросила этого красавца, уехала куда глаза глядят. И словно забыла, что на свете война, что сидящие перед ней измученные женщины – с той войны.
– Красивые вы бабы, городские, – сказала она всем трем и будто вспомнила, всплеснула руками: – Мужики-то ваши, прикордонники, где? Пропали?
– На заставе остались, Мотя, – за всех ответила Ира.
То, что ее назвали по имени, понравилось хозяйке. Она зарумянилась, сочувственно сказала:
– Досталось прикордонникам. Ай, ай, что германец натворил! Что ж теперь будет?
Никто этого не знал, поэтому, наверное, и не ответили ей. А муж проглотил язык, лишь разглядывал советок. Мотя перехватила его взгляд, насупилась:
– Чего, кобель, уставился? У людей горе, а ты вылупился!
Муж дернул приплющенным носом – как-то из стороны в сторону, ухмыльнулся, но глаза отвел, вышел во двор,
– Что будете делать? – спросила Мотя, когда поели, поблагодарили, разомлелые, опьяневшие от пищи.
Опять ответила Ира:
– Нам бы отдохнуть, поспать бы. Ночь без сна.
– Постелю рядно. На полу, в хате. А после чего?
Ответила Клара:
– Приютить нас не сможете? На время?
– Спрятать? Так не спрячешь же, на селе все на виду.
– Мы б работали по хозяйству…
– Понятно это, задарма хлебушком не кормят. – Мотя говорила суховато, по-деловому. – Да не в том кручина. Соседи сволочные, чуть что заметют, донесут, немцев полно и националисты взяли силу, командуют… Германец еще не вступил в село, а уж дядьки похватали голову сельрады, колхозного голову, еще кого из активистов похватали. И – в петлю, каты… А танкиста вашего отвезли в комендатуру, сдали германцу. Таночку-то подбило, она загорелась, парнишка выскочил – и в лес. Дядьки догнали, кто хотел вешать, кто – зарубить. А ихний главарь Крукавец приказал: «В комендатуру. Танкист – то держава. А своих можем сказнить…» Боятся, сволочи, что держава спросит с них.
– Спросит, – сказала Женя.
Мотя посмотрела на нее с неодобрением, сказала;
– Когда спросит-то?
– Может, и скоро.
– А может, и нескоро… С вами-то что будет? Не попасть бы в лапы к Крукавцу. Лютей германца тот Крукавец.
Проворно достала из сундука рядно, расстелила его в горнице, кинула с кровати подушки, занавесила окно – от солнца. Оно уже было дневное, пронзавшее и занавеску; Жене, легшей к окну, было жарко, она ворочалась, откидывала со лба влажную от пота прядку. Юбок они не сняли, а кофты сбросили, оставшись в лифчиках. Женя расстегнула свой сзади, ослабила лямки, и, когда ворочалась, он сползал с грудей. Ира и Клара затихли, посапывали. За окном кудахтали куры, глюкали индюки, визжал поросенок, плакала, канюча, девочка, скверно ругалась Мотя, что-то бубнил ее мужик – язык у него все-таки есть. Звуки эти сливались, спрессовывались, и будто спрессованная из них стена вырастала между заставой и этим домом, этим двором, обойденным войной. Стена была высока, непреодолима и для Игоря и для нее, Жени. Жив ли он? Верю: жив! Но им отныне и навсегда находиться по разные стороны, сколь бы ни тянулись друг к другу. Из ее нынешнего дня прошлое виделось иным, очищенным. И она сама становилась чище, хотя вина ее перед сестрой не снималась. Вина будет с ней долго, если не всегда. Игорь ни в чем не виноват, виновата она одна.
Проснулась от грубого, от наглого прикосновения. Мозолистая, жесткая рука шарила, шарила. Женя вскрикнула, открыла глаза и увидела нагнувшегося над собой хозяина.
– Пошел вон! – крикнула она и ударила по чужой, вонявшей чесноком роже.
– Что ты, что ты, девка? – Он успокаивал, скорее удивленный, чем раздосадованный.
Шум разбудил Клару и Иру. Спросонок они не сразу разобрались, в чем дело. А когда разобрались, тоже стали кричать и браниться. На шум пришла Мотя, встала в сторонке, прислушиваясь. И хозяин стоял в сторонке, прислушивался, словно не без удовольствия. Вздохнул, сказал:
– От бабы! Огонь! Не то что моя… – и ткнул пальцем в Мотю.
Мотя поджала губы, произнесла с расстановочкой:
– Ну, вот что, бабоньки… Придется нам расстаться… Не потому, что муженек глаз на вас положил, кобеляка. Хотя радости от этого мне мало… А потому, что соседка, Ульяна-стерва, видала вас. Спрашивает меня возле колодца: что за бабы у тебя остановились, не советки ли? Боюсь: донесет, стерва… Уходить вам надо, красавицы…
– Да, мы уйдем отсюда! – сказала Женя. – Чтоб терпеть приставания? Катись к черту на рога!
– Куда пойдете? – сказал хозяин миролюбиво. – Оставайтесь, авось, Ульяна не донесет…
– Донесет! На бесстыжей харе у ней написано! И попадете вы в лапы к Крукавцу, лопни он, кат!
– Насчет Крукавца потише, жена. А то он укоротит твой язычок! Куда же товарищам или, скажем, гражданам советкам податься?
– А то не знаешь? В лес, на отшиб. На хутора! В селе разве схоронишься? Сколь народу…
– Не обессудьте, но мы уйдем, – сказала Ира, вставая.
– Хоть темна обождите, – сказал хозяин.
– А чего ждать? Чтоб Крукавец пожаловал? Так и нам не поздоровится, муженек мой разлюбезный!
– Не беспокойтесь, – сказала Клара, тоже вставая. – Мы уйдем сейчас же. Девочки, собирайтесь.
А что там собираться? Под взглядами хозяев обулись, оделись, пригладили волосы, взяли с пола имущество – одеяло, стеганку, пустую сумку. Мотя сказала:
– Дам харчей на дорогу.
Женя сделала протестующее движение, но Ира остановила сестру, мягко проговорила:
– Спасибо. Только немного. Платить нечем. Вот разве одеяло…
– Давай, – сказала Мотя. – Пригодится.
– Куркули мы с тобой, жена! – Хозяин засмеялся.
… До вечера было не так уж далеко. Откуда-то наносило запах горелого, и в той же стороне мычала корова требовательно и властно. Непривычно было слышать это после того, как сутки слышали грохот взрывов. Теперь взрывов не слыхать, теперь мирно мычит буренка, желающая освободить от молока набухшее вымя. Наверное, вот-вот звякнет дужка подойника, молочная струя шлепнется о жестяное дно, корова захрумкает сеном, успокоенно вздыхая.
Задами, околицей вышли на проселок. Навстречу женщинам или обгоняя их, катили мотоциклы и грузовики с автоматчиками, и кто-то молча оглядывал их, а кто-то скалился, кричал им по-немецки незлое, может, скабрезное. Но ни один из гитлеровцев не соскочил с машины, не подошел, не схватил за локоть. Колеса взбивали пыль, она оседала на одежде и лицах женщин, скрипела у них на зубах. Они старались не смотреть на солдат, но иногда, не стерпев, смотрели, и ничего враждебного не видели в чужих глазах. Брели проселком, осунувшиеся, сутулые, запыленные. Куда идти? На восток, где свои. А где свои? Там, за лесами, за долами. Идти туда, идти, дойдешь ли? А может, наши пойдут обратно? Если б это было возможно! Надо добраться до какого-нибудь лесного хуторка, переночевать, оглядеться. По обстановке будет ясно, что делать дальше. Мотоциклы и грузовики перестали попадаться: они сворачивали к перелеску, к шоссе. Слава богу, выбрались из села. И немцы не тронули. А спустя четверть часа они услыхали за спиной скрип колес, ржание, крики…
Степан Крукавец самолично правил лошадьми. На передней подводе ехало пять хлопцев. Рядом, пьяно привалясь к его плечу, восседал Антон Мельник. Надрался, скотина. Степан тоже не трезвенник, а вот пьяным не бывает. Дуй горилку, дуй самогон, но не напивайся. Голова на что дана? Соображать. Чтобы не задвинули на вторые роли. Как Антона Мельника. А Степан Крукавец ходит на первых ролях! Батько, атаман, фюрер по-германски – вот кто он, Степан Крукавец! И в селе – да что село, хватай шире – нету главней его. Кроме, конечно, германцев. Ну, германцы – то держава, как и советские – тоже держава. Будет и у них, украинцев, своя держава, дай срок. Недаром боролись и борются за нее националисты, за неньку Украину, самостийную и незалежную, если сказать по-русски – самостоятельную и независимую. К черту русский язык, к черту москалей, к черту Богдана Хмельницкого, запродавшего Украину москалям.. Переловить их всех надо, москалей и комиссаров. Вот словят они трех советок – гонятся, далеко бабы не уйдут. Но чтоб никаких насилий, увечий и убийств. Не положено. Со своими расправляемся как угодно, а советки – все ж таки держава. Сдать германцам, те разберутся, нация умная, образованная. Не то что все это быдло, которое орет и гогочет на трех подводах.
Крукавец натянул вожжи, огрел лошадей кнутом, и они рванули. Сидевших на подводе тряхнуло, кто, выругался, а кто-то заржал. Мельник чуть не выронил бутылку с самогоном. На ямах трясло и швыряло, но он зубами выдернул кукурузную кочерыжку, которой была заткнута бутылка, и запрокинулся: буль-буль. Ну и пьяница, ну и батяр: оправдывает свою кличку – Батяр, батяры – это львовские босяки. Босяк он и есть, Антон Мельник, хотя и чванится своей фамилией. Расписывается каракулями, но лопается с гордости: «А.Мельник». Можно подумать, тот Мельник, Андрей, соратник самого Евгена Коновальца. Эх, убили командира «Сечевых стрельцов», полковника Евгена Коновальца, одного, из руководителей украинского националистического движения! Кто убил? Одни говорят, в открытую, – советская разведка, другие, тайком, – германская разведка. Поди разберись, чья была бомба с часовым механизмом, которую подсунули Коновальцу вместо денег в Роттердаме, в тридцать восьмом году. Да, Степан Крукавец интересуется историей украинского националистического движения, он не какой-нибудь Батяр, тому лишь бы очи залить горилкой.
Вот он – Степан. Так зовут и Бандеру. Что ж, хвастаться этим? Он же понимает, кто такой Степан Бандера и кто такой Степан Крукавец. А к истории надо почаще возвращаться, раздумывать о ее уроках. Вроде и неподходящий момент, как сейчас, – едешь перехватить советок, – а все равно размышляй, полезно это, да и успокаивает. Хотя, конечно, иногда и расстраивает. Потому что ссорятся между собой, проще сказать, грызутся руководители ОУН. Мельник и Бандера завраждовали, задрались за власть, произошел раскол: мельниковцы и бандеровцы. За кого он, Степан Крукавец? А пес его разберет, за кого надо, тут, внизу, не разберешься. Вроде бы за Бандеру, он помоложе, и молодежь больше за ним идет, а за Мельником – те что постарше. Ну, а он, Степан Крукавец, скорее молодой, чем старый: тридцать три года. Пора, пора ему выбиваться в люди. Шанс, который выпадает раз в жизни, – война. Используй ее, войну, и выдвинись наконец по-настоящему. Не все же лезть наперед галичанам, чем им уступают волыняне? Еще не известно, чей козырь старше. Пускай во Львове университет, газеты, театры и всякое другое. Зато на Волыни головы есть. Соображают которые.
Крукавец правил лошадьми, изредка оглядываясь. Две другие подводы не отставали, хотя им доставалось глотать пыль, поднятую Крукавцом. Поглотают, не подавятся, глотки смазаны самогоном и салом. А Мельник, который не Андрей, не инженер, не руководитель ОУН, снова льет в себя из горлышка. Уже не стаканами, а бутылками… Подручные же у него – пьяницы, босяки и барахольщики. Когда своих красных кончали, хлопцы пошарили по сундукам, Крукавец не пресек: то не держава. Забрали и лошадей, теперь в подводу можно запрячь не одну лошадь, как раньше, а пару. И рвануть, развевая гривы!
16
Подвода въехала на бугор, и Крукавец увидал трех женщин, прижавшихся друг к другу. И без расспросов видно было: советки. По одежде, по лицам, по тревоге, сквозившей в их движениях. Сдерживая разгоряченных коней, Крукавец проехал мимо женщин, развернулся – и к ним. Остальные подводы остановились с противной стороны. Женщины смотрели то на Крукавца, то на тех, кто спрыгивал с двух других подвод. Пыльное облако повисло над дорогой, с конских губ хлопьями падала пена. Крукавец похлопал по крупу, успокаивая лошадей, передал вожжи парубку и пошел к женщинам. К ним двигались и с других подвод. Но Крукавец вдруг подумал не о советках, совсем о другом подумал: навстречу ему идет противная сила, то есть противник, враг то есть. Какие ж это враги, это твои единомышленники, националисты, как и ты. Конечно, не враги тебе, но при случае продадут и предадут. Я им не верю. Как и тем, кто идет со мной. Антону Мельнику верить?
Крукавец подошел к женщинам на шаг. Но осмотрел сперва хлопцев. С ног до головы. Спущенные гармошкой голенища сапог, суконные шаровары, расшитые крестиком сорочки, свитки и польские мундирчики, чубы из-под шляп, конфедераток и немецких пилоток, – уже разжились у германцев, обменяли на горилку. У кого револьвер, у кого винтовка, у кого граната засунута за кушак. Глаза бегают, глядят исподлобья. Не враги, но остерегайся их, Крукавец Степан. Хотя дело у нас общее – самостоятельная и независимая Украина, к Западной мы присоединим Восточную, и будет единое и неделимое украинское государство. Держава! Крукавец поглядел на женщин. Да, они встревожены, но испуга не видать. Смелые советки. А побояться бы надо. Не везде батьки, или, скажем, по-немецки, фюреры, похожи на Степана Крукавца. Есть куда беспощадней.
– Стойте! – сказал Крукавец. – Кто такие?
– Мы и так стоим, – отозвалась одна из женщин, самая молоденькая. – А вы сами кто такие?
– Мы – власть, – с достоинством сказал Крукавец. – И спрашиваем мы, вы отвечаете.
Он говорил с ними, стараясь употреблять восточноукраинские слова, и его понимали. За два года правления Советов потерся среди восточников, схидняков по-западному. Он-то коренной захидняк, западник по-восточному. Потерся, слова запомнил, пригодилось. Дерзить же ему, между прочим, не следует. Он сказал:
– Так кто же вы? Командирские жены? С заставы Скворцова?
– Оттуда, – сказала вторая женщина, самая старшая.
– Куда идете?
– Куда глаза глядят.
– А точней?
– А точней, на восток. – Опять эта дерзкая сопливка. Не надо бы дразнить Степана Крукавца, иначе он может и покусать. А ему бы не хотелось показывать зубы. Они у него, между прочим, острые, волчьи. И еще: москали для него – заклятые враги. И восточники, схидняки, – заклятые враги. А он и русские слова знает. Поднабрался. Пригодится. Сказал с ухмылочкой:
– Сановные товарищи, придется вас задержать, извиняюсь. Чтобы отвезти в комендатуру. Передадим германским властям. Они решат, как с вами поступить, сановные товарищи.
Он улыбался. Хлопцы галдели, глазами ощупывали женщин, отпускали шуточки – закачаешься. Пускай повеселятся, пока у Степана доброе настроение. Да и подыграть им нелишне. С ними ухо держи востро: волки разорвут вожака, если что не так. Сперва Крукавец не очень прислушивался к галдежу, – как обычно, похабничают, – но затем услышал: кто-то предлагал побаловаться сначала с бабами, а после или прикончить, или, если будут молчать, отвезти к коменданту. Крукавец резко сказал:
– Кончай болтовню! Баб доставим в комендатуру. И чтобы пальцем не прикоснуться! Садись!
Стая заворчала, колыхнулась, двинулась к подводам. Да, волчья стая, и вожак должен быть настороже. Пускай видят: уверенный он, сильный, своеволия не потерпит. Баб ему не жалко, можно было б и попользоваться. Но они – держава. Мало ли как все может повернуться. Он приказал советкам садиться на его подводу. Они поколебались, но сели. Кони пошли шагом, возница словно дремал, уткнувшись подбородком в грудь. Отдавший ему вожжи Крукавец угрюмо дымил папироской – настроение испортилось, да и не без причины, – усталость, сонливость сковывали движения. Спиной и локтем он чувствовал, женские тела, думал, что советки молоды и красивы. И что не испорчены, как его Агнешка. Хотя она тоже молода и красива, панская стерва. Крукавец катал папиросный мундштук, пока не перекусил: зубы подпилены, собрался ставить золотые коронки, да тут война, до коронок ли? А зубы стали острые, как ножом режут. Для волка это даже неплохо – подточить клыки, чтоб острей сделались. Он со злобой выплюнул папиросу, достал из пачки другую. И внезапно курить расхотелось. Пропало желание. Это у него случается. И не только с курением. С Агнешкой случается. Ах ты, потаскушка, от которой он когда-то был без ума. Да и сейчас привязан к ней, как пучок соломы к шесту возле корчмы. Шест с пучком соломы – знак, приют путникам. Ну, Агнешка приютила его, загнанного скитаниями и приключениями, отогрела, нельзя Иезуса гневить, добро ему сделала. А потом постепенно все уходило доброе, и осталось тягостное, постыдное, ненужное…
В сельской комендатуре германцы его огорошили: вези в городскую комендатуру, во Владимир-Волынский. Не хотят обузы, спихивают с себя. А как Крукавцу спихнуть? Теперь, когда германцы уже знают о советках, их не пустишь в распыл ни с того ни с сего. Послушался бы хлопцев, может, и не было б лишней мороки: отдай волкам на растерзание, так и некого везти во Владимир-Волынский. Не отдал. Державы побоялся. Не зря ли? Та держава должна кончиться. Ну, задним числом рассуждать бесполезно. Уже поздно, на ночь запру советок в сарай, поутру отвезем в город.
В окнах тлели огоньки ламп и плошек, – при Советах ввели светомаскировку, теперь ее нету, война ушла, кого опасаться? Это Советы пусть опасаются. Люди в хатах ужинали. Трудовой день кончился. А у Крукавца, у Степана, продолжается. Но какая надменная харя была у коменданта! Цедил сквозь зубы, обливал презрением, хилый, золотушный лейтенантик, сопля паршивая. Кого обливал? Союзника! Ну, погодите, господа германцы: мы себе на уме, будем делать вид, что ваши союзнички до гроба, ваши слуги, а потихонечку добиваться своего. Создать правительство, создать государство – вот цель украинского националиста. В своем же государстве мы как-нибудь наведем порядок! Пока бы в своей хате навести порядок. Да его ли хата? Агнешка к себе пустила, бездомного, то ль бродягу, то ль проповедника. А вообще, он недоучка, пристроенный сюда учительствовать лишь потому, что вступил в ОУН. С войной решил забросить учительство, дни горячие, до школьных ли тетрадочек. Да его самого учить надо, ему бы во Львовский университет…
Советок Крукавец запер у себя в стодоле, Агнешка покривилась: «Не мог еще где?» Тут будут перед глазами. Караульных поставил кого посмирней, если волки бывают смирные. Матерых ставить опасно: ночью могут поиграть с советками, а черт-те во что это выльется, как посмотрят на такие игры германцы. Хозяева все-таки они. Повесив на сарай замок, Крукавец ушел в хату. Агнешка наливала воду в рукомойник, подавала мыло, а он рассматривал себя в зеркало, вмазанное в простенок, и думал: «Осаднички, поляки, могли и настоящее зеркало презентовать своей Куколке». И, как обычно, когда вспоминал об Агнешкином прошлом, ревность ударила в темя, застучала дурной кровью. А когда думал о настоящем, кровь стучала еще сильней: не приходил ли кто к Агнешке, покуда он отлучался?
Ужинал неохотно, вяло. Игриво подмигнув, Агнешка поднесла горилки. Он выпил, но аппетита не прибавилось. Агнешка пригубила из его же кружки, подкладывала ему лучшие кусочки, ластилась. Выпрашивает Куколка – так ее прозвали на селе. Крукавцу известно: не за одну красоту, а за уступчивость, осадникам не отказывала, бабы брешут – с самим графом Ядзеньским путалась, будто граф и обабил ее, девчонку-прислугу. Агнешка все отрицает, ясновельможный граф исчез в тридцать девятом, когда пришли Советы. Крукавец угрюмо озирал уставленный едою стол. Чего-чего нету, а не жрется. И бутылки с горилкой и самогоном красуются, а не пьется. В центре стола жареная курица, любимое блюдо, и от нее нос воротишь. Заелся, Крукавец? Утречком топором-сучкорубом оттяпал башку, дура курица билась, хлопала крыльями, из перерубленной шеи хлестал фонтанчик…
Они легли в постель при свете – Агнешка завела эту моду, и лампа освещала Агнешкино лицо, на котором сквозь молодость и даже детскость проступало женское. Когда-то это нравилось Крукавцу, теперь же думал: «Потаскуха», – лежал равнодушный или же раздраженно-злой. Ну, а раздражение и злость, известно, плохие помощники в любви. Он лежал, снедаемый бессонницей и мыслями. Собственно, бессоница-то и была из-за мыслей. Лезут в башку, хоть ты тресни. Про свою жизнь думаешь нескладную, про Агнешку, про украинское националистическое движение – попробуй в нем разобраться, не так-то легко, про то, что было за день, – неприятностей и забот вполне хватает. Сейчас Крукавец думал о женщинах, запертых в стодоле. Не покормил их, воды не дал, да и Агнешка не напомнила. А, ничего, не сдохнут. Харч у них есть, ссудил кто-то из сельских, а утром ведро воды выставлю, я не жадный! Крукавец рассмеялся беззвучным злобным смехом и скрипнул зубами. О, в подобные минуты он ненавидел всех, весь мир! И себя немного. Провались все в преисподнюю! И русские, и поляки, и немцы, да и украинцам туда же дорога. Но и ярость не заглушала в нем трезвые, деловые мысли о том, что надо проверить караульных. И он поднимался с кровати, шлепал босой к окну, вглядывался. А то и выходил во двор, как будто покурить. Не заснули б караульные, еще пакостней – не сотворили б чего с советками. И Крукавец, пыхтя папиросой, улавливал далекую, смутную связь между его стараниями уберечь этих трех женщин от мужских посягательств и тем, что желание у него поугасло. Что он, старик или порченый? Тридцать три всего, венерией не болел, мускулы – во, кулак – во, быка свалит!
* * *
В сарае возились, попискивали полевки, и Женя, боявшаяся мышей, тоже пищала не хуже их. Ира сердилась, шикала на сестру, а Клара смотрела на подруг ласково, с нежностью. Да, подруги, навечно сроднившиеся с нею! Клара не ложилась, сидела, обхватив колени, кусала соломинку, покачивалась взад-вперед.
До этого они побывали у немецкого коменданта. Не ведали, не гадали, где помещается немецкая комендатура. А помещалась она в фольварке, в доме, который несколько дней назад занимала пограничная комендатура. Совпадение, случай, но женщин ввели туда, где был кабинет коменданта участка майора Неклюева. Клара была здесь, у Неклюева, всего несколько дней назад. Тогда она сидела на этом венском стуле, у этого хромоногого стола с зеленым сукном, беседовала о самодеятельности на заставе. Службист до мозга костей, но любитель петь, комендант пограничного участка обсуждал с ней, как лучше организовать концерт. А нынче в кабинете восседал тучный и сонный фельдфебель. Выслушав оуновцев, он зевнул, клацнул металлическими зубами и начал сердито говорить по-немецки, стуча поросшим шерстью указательным пальцем по настольному стеклу. Вытянувшийся оуновец подобострастно внимал немцу. А тот, выговорившись, повел всех в соседнюю комнату. Клара узнала и ее. Это был кабинет старшего лейтенанта Васильева, начальника штаба пограничной комендатуры, с его женой Клара познакомилась еще два года назад. В этом кабинете, развалившись в полукресле, хозяйничал теперь хлипкий белобрысый лейтенант, щеголеватый, перетянутый в талии, прилизанный, с крестом на мундире, – вроде орден. Он кисло выслушал фельдфебеля, вскинул тонкие высокомерные брови и тоже стал ругаться, а потом вскочил и показал стеком на дверь. Оуновец, кланяясь и повторяя: «Яволь, яволь!» – вывел женщин в коридор, прошипел:
– Гоняют, как бычков! Не хотят возиться! Назавтра повезу в городскую комендатуру, такой приказ…. Навязались на мою шею, большевички!
И когда они отъезжали от фольварка, Клара оборачивалась и смотрела на дом: угол поврежден артиллерийским обстрелом. И здесь был бой, штаб комендатуры дрался, как и застава, насмерть, Клара в этом уверена. Где Неклюев, Васильев, остальные командиры погранкомендатуры? Где их жены? Дети? А где ее, Клары, дети? Где ее муж? Где Игорь Скворцов и другие? Все там же, все там же.
Милые мои подруги! Вы ходите, шепчетесь о подкопе, о побеге. Не мешаю вам, хотя под стенку не подкопаешься, замок с наружной стороны не собьешь, часовой никуда не денется. На заставе, в пекле, уцелели, здесь не уцелеем. Смерть наша близка. Примем же ее, как те, кто уже погиб. С детьми моими судьбу разделим, с пограничниками. Да, после гибели Вовы и Гриши я будто тронулась. Но потом рассудок прояснился, и я соображаю четко. Суждено умереть. И раз выхода нет, сделать это надо спокойно. Страшно только насилие, лучше тут же умереть. Броситься на финку оуновца, на штык немца, бить, кусаться, плевать в ненавистную харю! Уйти из жизни, попрощаться с нею навеки надо чистой, неопороченной. А вообще-то хочу: подружки мои, вы останьтесь живы! Мне же без сыновей, без Вити, а он погиб, я не обманываюсь, мне не жить… Лунные полосы из щелей резали мглу на квадраты и треугольники, мыши пищали все отвратительней, шастали по рукам и ногам. Клара отгоняла их от подруг. А когда те задремали на разостланной ею стеганке, она села у изголовья, как бы сторожа некрепкий сон сестер…
Выехали на одной подводе, по росе. Крукавцу все равно не спалось, да и до города далеко – хотя бы к полудню добраться. Он прихватил трех хлопцев, из тех, что ночью отдыхали. Какое там отдыхали – девок щупали и самогон глушили, по мордам видно. И Мельник, который Антон, увязался. Доброволец, усердие показывает. Или для догляда? Чтоб германцам стукнуть, если что не так у Крукавца? Кони бежали трусцой, воздух прогревался, жаворонок пел в поднебесье. Пахло мятой, и полынью, и сивухой. Ну, и надрались хлопцы, и наутро не протрезвели. Они дымили самосадом, рассказывали о ночных похождениях, гоготали, и Мельник, старый пес, под сорок же, похабничал наравне с ними. А затем хлопцы то ль в шутку, то ль всерьез завели разговор о советках, как и вчера, – мол, неплохо бы… Советки, видать, понимали, потому что насторожились, обменялись взглядами – ого, обожжешься!.. У ручья, за поворотом, устроили передых, чтобы коней напоить. И здесь-то хлопцы, зверюганы матерые, ненасытные, принялись распределять: тебе эту, мне эту. И молодая самая, дерзкая, закричала:
– Бежим, девочки!
И побежала с дороги в поле. За ней, помешкав, побежали к лесу и две другие. Хлопцы, разинув рты, глядели на женщин и друг на друга. Мельник хлопал себя по ляжкам и орал:
– Связать нужно было! Руки-ноги связать! Шляпы!
Крукавец на первых порах растерялся. Но затем пришел в себя:
– За мной! Не упускай!
Топали сапогами, орали, матерились, но женщины были легки на ногу – откуда силы брались? А грузные, отяжелевшие, разъевшиеся на колбасах и сале мужики отставали. Мельник прохрипел;
– Уйдут! Стрелять нужно!
Крукавец будто споткнулся об эти слова. Стоял, как вкопанный, и остальные остановились, хрипло дыша и наблюдая, как женщины удаляются к лесу. Над ухом, заставив вздрогнуть, протарахтела автоматная очередь. Это Антон Мельник не дождался команды, проявил инициативу. Еще и еще очередь. Мимо. Хлопцы стреляют из пистолей, из карабинов. Мимо. Советки бегут. Ну, Крукавец, решай. Еще не додумав все, он знал уже, что решит. Мозг работал быстро, безотказно. Мельник стрелял первым, Крукавец таращил очи в растерянности. Хлопцы стали палить, а он хлопал и хлопал глазами. Пока не поздно, пока не пал ты в их глазах безнадежно, исправь положение, прояви волю. Он грязно выругался, вырвал у одного из хлопцев карабин, опустился на колено, прицелился. Выстрелил, и дальняя фигурка опрокинулась. С расчетом бьет Крукавец, это-то вы хоть разумеете, курвы самостийные? Дальше будет снимать, которая посредине. Потом – ближнюю… Кинул карабин владельцу, вытер ладони о галифе:
– Вот как стреляют! Три патрона на трех. Разумеете?
Хлопцы молчали, и в молчании этом была уважительность. Сейчас он окончательно переступил черту, возврата не будет. Да, собственно, отступления уже не было после того, как своих красных прибили.
– Вперед! – сказал Крукавец. – Побачим, что с советками.
Самая молодая, дерзкая, лежала лицом вверх, две другие – ничком. Работа была чистая – наповал. Крукавец вспомнил почему-то вчерашнюю курицу – крыльями бьет, пляшет, обезглавленная. И вдруг та, самая молодая, дерзкая, приподняла окровавленную голову, посмотрела на Крукавца. Он вздрогнул: еще живая, губы шевелятся, померещилось – хочет проклясть или просто плюнуть сгустком крови в лицо ему, Крукавцу. И страшно сделалось, он схватил карабин, передернул затвор. Но стрелять не стал: советка уронила голову, дернулась и затихла. Его поташнивало, и, чтобы преодолеть тошноту, он заорал во все горло:
– Хлопцы, Иезус, дева Мария, мать вашу! У. кого горилка? За упокой советок дернем! И предупреждаю: про их погибель никому ни слова! Не видели, не слышали. Закопаем – и ша! Если что – всажу пулю. Это я умею, так?
Он запрокинулся, бутылочное стекло стучало по зубам, и Антон Мельник сипел:
– Добрый у нас батько, дюже добрый. А чего ж? Мы здесь хозяева. Только вот Иезуса и деву Марию трогать не надо…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?