Текст книги "Ворон"
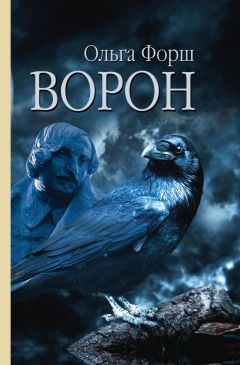
Автор книги: Ольга Форш
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– А гляньте-ка, вон и княгиня, – сказал Гоголь, – она в «аллее друзей», в самом конце, у колонны Байрона. – И, понижая голос, продекламировал: «Звездой полуденной и знойной, слетевшей с Тассовых небес, даны ей звуки песен стройных и гармонических чудес…» – А ведь это ей было писано в юности и не от кого-либо – от крупнейшего из людей.
Все свернули на «аллею друзей». Здесь уже в известном порядке, чередуясь с кипарисом, мимозой и лавром, возвышались обломки древностей с надписями.
– Никак это Campo Santo[15]15
Кладбище, украшенное памятниками (итал.).
[Закрыть] княгини? – спросил быстрый Доменико.
Глаз схватывал то тут, то там посвящения. Пред одним камнем Гоголь всех задержал движением руки.
– Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Жуковский.
Сняли шапки, молча стояли. Потом блеснули буквы:
– А вот и Веневитинов, прекраснейший юноша, полный души и таланта, беззаветно отдал свою лиру и сердце этой женщине… – начал с нескрываемой досадой Иванов.
Но Гоголь, строго взглянув на него, кончил сам:
– Дмитрию Веневитинову посвящена прекрасная строчка из его собственного стихотворения: «Как знал он жизнь, как мало жил!»
На колонне Байрона, около которой стояла княгиня, ярко светилось: «Implora расе!»[17]17
Молю мира! (итал.)
[Закрыть]
– Вот я привел вам, княгиня, – сказал без всякого предисловия Гоголь, – своего приятеля, пламенного патриота среди итальянцев, синьора Доменико.
Княгиня с естественностью очаровательной сказала:
– И отлично сделали, что привели.
– «Implora расе», – прочел вслух Доменико, – но разве покоя хотел этот неукротимый? Его ль он искал, когда бежал из отечества, живя у нас близ Равенны, принимал участие в заговоре карбонаров, хранил их оружие в своем замке? И в бою за чужую свободу нашел себе смерть в Миссолунге? Зачем же молить о том, чего человек себе сам не хотел?
Княгиня с милостивым снисхождением, как на интересного ребенка, смотрела на Доменико. Гоголь поспешил сказать:
– «Implora расе» адресовано совсем не к земному поприщу поэта. Однако именно здесь, в Италии, приятно было бы каждому прочесть благодарность от страны, столь им дивно воспетой. Вот и просим мы вас, княгиня, сказать нам хотя бы собственное ваше стихотворение в прозе по этому поводу.
– И очень просим, – поклонился Иванов.
Тотчас княгиня со всей естественностью, ее отличавшей, сказала прекрасным грудным голосом:
– Венеция! волны морские могут залить тебя, твои дворцы и храмы, смыть радужные краски Тициана, но имя твое, Венеция, звучит навеки на золотой лире Байрона. Стихи великого поэта – неразрушимый Пантеон.
– Теперь вы довольны? – обратилась она к Доменико.
Княгиня, все еще прекрасная в своем увядании, была охвачена поэтическим чувством. Ее большие голубые глаза, столько воспетые, лучисто засияли.
– Прикажете быть искренним, княгиня?
У Доменико, при виде этого изменчивого, живого лица, явилась надежда на успех своей проповеди.
– Если для этого нужно мое приказание, я приказываю, – улыбнулась она.
– Ну вот: для меня никакие стихи Байрона не могут сравниться с его прекрасной готовностью бросить жизнь за свободу чужого народа; будь это лишь вспышка благородного сердца, одна она достойна бессмертия. О, если бы вы знали, княгиня, что значит отдать свою жизнь народу, жить не одной, жить тысячью жизней, горем и радостью всех!
– Но я очень понимаю вашу страстную любовь к такой чудной родине, – прервала княгиня чрезвычайно любезно, но вдруг с той же светской сдержанностью, которая неуловимым холодком предупреждает неприятную чужую экспансивность. И, желая свернуть разговор в знакомое русло искусств и науки, она обратилась к Гоголю и Иванову, жестом приглашая их в свой союз.
– Не правда ли, все страны – должницы Италии? Она положила начало европейской науке, создала мировое искусство и мировую литературу. Ведь Данте только по языку принадлежит вам… – И она очаровательно улыбнулась Доменико, как человек, осыпающий нежданными милостями.
Голова Доменико, кудрявая, чистого римского типа, была так хороша среди древних руин, что Иванов, не сводя глаз, едва ли слыхал разговор. Зато Гоголь, сидя по обычаю своему нахохлившись и уйдя в воротник, весь насторожился и зорко глядел то на княгиню, то на Доменико.
– Что, не довольно вам торжества? – сказал он ему. – Слышали: все страны вам должники? По искусству вы – первейшая страна…
– К сожалению, это первенство в искусстве мы купили ценой своего политического существования, – отрезал Доменико так желчно, что княгиня с испугом оглянулась кругом.
Иванов, как бы спрятавшись за синие стекла своих очков, упорно молчал. С лица Гоголя не сходило лукавство. Багрецов, как всегда не в интимном кружке, умел настолько стушеваться, что никому не приходило и в голову его замечать. Но внутренне он был в сильном волнении от того, чем разрешится визит Доменико. Его революционным речам здесь до грубости неуместно было звучать. Вдруг Гоголь придумал ловкий маневр.
– Княгиня, – сказал он, – к вам не долее как через час придет ваш аббат, и вы будете под надежной защитой. Выслушайте же пока, не оскорбляясь их смыслом, речи Доменико. Тем более, если молодой друг наш заблуждается и пришел к вам с полным доверием, вы должны его выслушать, хотя б для того, чтобы узнать, от чего именно его вам придется спасать! Доменико – такое же дитя народа, как и те, что зовут вас «beata» и к кому вы столь бесконечно добры.
– Только разрешите держать мне свою речь в более уединенном месте, – попросил итальянец.
– На моем акведуке, – подсказал Гоголь.
Княгиня ласково улыбнулась. Артистка проснулась в ней. Горячее лицо Доменико, необычайный в ее доме тон – все ее заинтересовало. Она сказала:
– Разумеется, на акведуке всего безопаснее. К тому же, кроме Николая Васильича, туда любят лазить только коты. Еще несомненное преимущество: там сухо, и даже этот малярийный час не опасен.
По каменной лестнице они вошли на просторную террасу, вознесенную высоко над городом. Солнце село, и набежавшие сумерки уже поспели заполнить весь город лиловою мглою и отнять у зданий их дневную отчетливость. Пустыня Кампаньи отодвинулась дальше и казалась затихнувшим в безмерности океаном.
– Я люблю этот тихий час, – сказала княгиня, – когда Рим замирает пред тем, как ему вспыхнуть огнями. Даже пения не слышно. Я вас слушаю, – повернулась она к Доменико.
– Княгиня, – начал он в заметном волненье, – я буду говорить вам о том, что поглотило все мои мысли и чувства, всю кровь до последней капли. Я буду вам говорить о судьбах Италии. Простите, если это выйдет немного похоже на лекцию, но ведь в истории без беглого обзора прошлого нельзя понять, чего мы жаждем в настоящем.
– Охотно вас слушаю, – сказала княгиня, – хотя, признаться, если это политика – я всех менее могу вам помочь…
– Вы наблюдали, княгиня, в силу вашего положения всегда только внешний ход событий, не зная их корня. Вы имели влияние в высших сферах, но были устранены от самого процесса жизни. Но ведь только участие в этом процессе и дает человеку сознание своей неразрывной связи с целым. Княгиня, припомните, как прекрасно вы понимали страдания патриота Адама Мицкевича, как глубоко хотели их облегчить. Так вот: эти страдания сейчас – удел целого народа, которым вы окружены, который, как сказал сейчас Гоголь, зовет вас «блаженной». Узнайте же эти страдания!
– Говорите, – сказала княгиня.
– Еще среди хаоса средних веков мечтой о едином итальянском союзе были живы мы – итальянцы. Мы помнили, что мы римляне. И, как мощный разорванный организм, мы знали боль свою и жаждали воссоединения. Мы рано поняли: на стороне какого бы из владык, папы или императора, ни оказалась победа – жизнь нации связана только со смертью обоих. Уже Ломбардский союз – разительный пример обаяния идеи свободы и единения городов. Благодаря папам и королям, бессильная составить единое тело, нация стремилась к единству, хотя бы отвлеченному. Вы только подумайте: как сейчас, и тогда каждый жил своим маленьким виноградником, своими мелкими распрями… Но едва иноземец Барбаросса посягает на права городов, разорванные клочья встают мощным Ломбардским союзом! О, не будь предательства папы, мы тогда уже свергли бы чуждое иго! Не раз, не раз хоронили папы зарождавшуюся свободу Италии.
– Простите меня, – прервала княгиня, – однако недавний опыт Бонапарта, наводнивший вашу страну республиками, нашел тоже немало хулителей. Какая же свобода еще вам нужна?
В ее голосе слышалось раздражение, и руки, легко лежащие на коленях, дрогнули.
– Княгиня, ваша речь – вода на мою мельницу. Ваш пример был у меня на устах. Но совсем с иным выводом. Тот, чье убеждение было: tout par le peuple, rien pour le peuple[18]18
Все руками народа, ничего для народа (франц.).
[Закрыть] – разве мог дать народу свободу? Да он искромсал несчастную страну ножом по живому телу. Он раздавал, как вотчины, своей родне наши древние республики, он приносил народ в жертву чуждым ему замыслам. Нет, напрасно бонапартисты клянутся, что замысел Наполеона был – единство Италии. Но за урок мы ему благодарны: французское владычество и преобразования закрепили в нас сознание бесповоротное, что народ освобождается только собственной силой.
Дальнейший опыт – Венский конгресс. Он превзошел и Наполеона. В самом деле, что дали Италии все эти герцоги и короли, водворенные на старые места? Трудно поверить, но уже это – история.
Ботанический сад в Турине разрушен, как произведение французского вольнодумства. По той же остроумной причине отменена прививка оспы и освещение города фонарями. Больше того, король Фердинанд отказался ездить по главной улице, проведенной французами, и велел прекратить раскопки Помпеи. Восстановлена инквизиция, папская булла прокляла книгопечатание. О, Макиавелли еще раз прав. Никакие неистовства Борджий не могли быть так гибельны для Италии, как тот путь, на который толкнула ее сейчас власть духовная. И что за дикость – над нами монах государем! Объявляет себя главой христианского мира, из которого три четверти не признают его вовсе, а половина второй четверти терпит его из нужды…
– Нет, таких речей я слушать не желаю!
Княгиня встала.
– Простите его, княгиня, – заторопился Иванов. – Про папу это зря он болтнул. У него настоящее дело есть к вам, кровное, уж дайте ему досказать.
Но Доменико летел, как в бою. Забыл этикет, наступал на княгиню, кричал:
– Благодаря стольким испытаниям люди нашего поколения пробудились к страданию! А страдание научает мыслить.
Княгиня подняла руку, Доменико и тут не дал ей сказать:
– Простите мою резкость, но я говорю о том, что для меня дороже жизни! Своим положением в свете вы были отрезаны от действительности, я вырос в нужде, я знаю ее слишком хорошо. Все страны мира – должницы Италии, – это ваши слова. Так заплатите же ей хоть за вашу страну. Помогите вы, восхищающаяся ее Рафаэлем, ее Микеланджело, помогите завоевать ей то, что есть у каждого поденщика, – родину!
И прежде всего, княгиня, помогите освободить бойцов, восставших за достоинство народа, о котором намедни один из королей себе позволил сказать: «Мои провинции должны забыть, что они итальянцы. Они должны быть соединены только общими узами – повиновением моему дому».
Княгиня, всем известно, что вы благородны и чувствительны, повторяю: недаром народ наш прозвал вас «beata», но вы в заблуждении, вы не знаете правды, вопиющей человеческой правды ни о чем!
На Веронском конгрессе, когда вы пожинали восторги и лавры, выступая публично, вам не приходило в голову, что делали с нашим народом эти герцоги, дипломаты и короли, целуя ваши руки и выражая изысканно свой восторг! Знали ли вы, что на этом самом восхищавшем утонченное чувство конгрессе было решено, что австрийский корпус в двадцать пять тысяч человек займет Неаполитанское королевство и весь наш Пьемонт?
И сейчас, княгиня, у вас дурные советники. Их черные сутаны закрыли вам свет солнечный…
– Только не сбейте одного из них с ног, – шепнул Багрецов, одергивая за руку Доменико, который, в пылу речи отступая назад, чуть не столкнул с ног аббата, подымавшегося на террасу.
Доменико отскочил, как ужаленный, но аббата уж не было. Увидав, что княгиня здесь не одна, он скользнул в боковую нишу.
Княгиня сделала несколько шагов к Доменико и сказала с мягкостью, но очень решительно:
– Между нами пропасть, и говорим мы с вами на разных языках. Поясню примером: когда император Николай спросил митрополита Филарета, освобождать ли ему крестьян, тот ответил, что для церкви ему не важно, свободны они или рабы: для церкви важно, чтобы они были православными. Так для меня сейчас, когда я узнала истину о вечности, мне тоже кажется достойным заботы только одно: чтобы все люди стали католиками. Все же прочее, вплоть до исторических судеб народа, – суета сует.
Бешенство, как огонь, пробежало по лицу Доменико. Гоголь схватил его за руку, а Иванов выбежал вперед и, растопырив ладони и нелепо трепыхая своим черным плащом, заговорил, пришепетывая, торопясь спасти положение:
– Но есть, княгиня, поприще, где люди даже противоположных убеждений могут не быть враждебными, это – сострадание, простое человеческое сострадание! Сестра Доменико, прекрасная Бенедетта, почти ребенок, томится в тюрьме. Похлопочите об ее освобождении!
– Я не делаю ни единого шага, не посоветовавшись со своим духовником, – сказала, заметно побледнев, княгиня.
– Тогда во имя чести забудьте весь наш разговор! – крикнул Доменико. – В Италии каждый служитель алтаря – предатель народного дела.
И, не оборачиваясь на спутников, Доменико стремглав кинулся вниз по лестнице.
Глава VI
Высочайший приезд
Вдруг двери студии распахнулись, и вбежавший стремглав Александр Андреевич Иванов в вечном плаще с красным подбоем от поспешности чуть не растянулся на пороге. – Государь здесь близко, в базилике Maria Maggiore, и сейчас будет к вам! – вскрикнул он.
Ставассер
Александр Иванов жил на горе. Пройдя с улицы Сикста через чудесный сад, затканный гроздьями винограда и цветущими розами, Багрецов прошел к нему в мастерскую. На огромном окне стояла ширма в полтора стекла, чтобы убить яркую зелень рефлексов от деревьев: миндаля, фиг, орехов, древней змиевидной лозы.
Гигантская картина «Явление Мессии» была задернута драпировкой. Внезапно отдернув ее, художник, словно посторонний, мог глубже отмечать недочеты. Больше двухсот этюдов природы и фигур было развешано по стенам.
– Александр Андреич, – сказал Багрецов, – ты еще долго намерен, как муравей, из римских камней здесь лепить Палестину? Сколько раз предлагал я тебе: дай свезу на свой счет. Перестань чудачить. Общество Поощрения тебе денег на поездку не даст. Я доподлинно знаю, что в Петербурге по этому вопросу говорят: Рафаэль писал первоклассные вещи, не выезжая из Италии, подобное может и Иванов.
– Нет, уж я дождусь, чтоб художника русского для славы родины послала б, как мать, она сама, родина… А пока что из окрестностей Рима как-никак я создаю иорданский ландшафт. Вообрази: наиболее подошел Субиако, в горах сабинских. Скалы голы и дики, река чудесной быстротекущей воды. Обидно одно: приходится втягиваться в развлечения, до которых я не большой-то охотник. Но, не вызывая злобы у братий «питторов», нельзя отказать с ними поужинать и прочее… даже ломать комедию под гром барабана. Эх, если бабка не наворожила, как тебе, – трудна дорога художнику русскому!
Мало того, что картине жертвуешь жизнью и удобствами, – как удары плетьми – этот обрыв беспрестанный в работе: то болезнь глаз, то натурщик неплочен, то голых людей искать надо – близок свет – в Перуджии! Ведь эти аспиды, содержатели римских купален, ни самомалейшей щелки для глаз наблюдателя не оставляют.
Однако хоть и питаюсь я одной чечевицей, но на предложения Общества Поощрения я, братец мой, не пойду.
– А что пишет оно тебе неприятного?
– Предлагают любовь мою разорвать другою, и это убийство зовут «легким занятием кисти». Говорят, что, изготовляя картины жанра для лотерей, я смогу найти себе и дальнейшие средства к жизни. Варвары люди!
И вдруг вспомнив о чем-то совсем недавнем, еще и еще с гневом воскликнул:
– Варвары, варвары… о, что они сделали с Бенедеттой! Да я ведь было бежать к тебе хотел, если б ты сам не пришел…
Багрецов вспыхнул. Вдруг при имени Бенедетты забилось сердце, и тут же мелькнуло в уме: как, неужто влюблен? Он даже не сразу понял, что толковал ему Иванов, торопясь, перебиваясь и дополняя речь руками.
– Прибегал на заре Доменико, ее брат, переодетый, с привязной бородой. Его ищет полиция… наспех сообщил: слуга, который склонялся за подкуп выпустить Бенедетту, на другой день после нашего посещения виллы Волконской отказался наотрез. Хуже того: Бенедетту перевели в сырую камеру, запретили свидания. В этом деле видны руки монахов. Я побежал к Гоголю, просил, молил идти немедля к княгине. Гоголь был недвижен, сам чем-то крайне удручен. Представь, он сказал: «Хлопотать не стану. Как попало, зря, в этакую кашу нечего и мешаться. Довольно того, что раз уж напутали, приведя на виллу заговорщика».
Он мрачный такой, Гоголь. «Вопрос по существу решать надо, говорит, кого именно вы считаете на земле хозяином? Ежели себя, то и суйтесь в дрязг политики! Я же признаю над собой хозяина, важнейшего себя. И этот хозяин повелевает мне одно: заниматься грехами собственной моей души, мирным устроением общества, а не какими-нибудь заговорами и подкопами под властей… Поверьте: вы своей картиной, а я книгою сделаем сильнейшую революцию в мире, нежели глупым вмешательством в дела итальянской полиции».
– И ты в душе с ним согласился? – с гневом вскричал Багрецов. – Когда же ты выйдешь из порабощения Гоголю? Да ты слеп, что ли? Не видишь, что все биготство его, весь тон проповедника – от дьявольского самолюбия? Да он ведь ни с кем из людей не вяжет себя чувством, а каждый ему лишь средство или предмет наблюдения. Ну, вот, предлагаю тебе: проделай с ним опыт. Жизнь всего лучше докажет мою правоту. Помнишь, ты мне говорил о своем проекте новой инспекции над художниками, где бы взамен чиновника стоял человек к художникам близкий? Чего ближе поэта? Вот и твоему Гоголю предложи для мирного исправления общества писать о всех вас отчеты своим гениальным пером. Пусть научит власть имущих и все варварское общество наше вернейшей оценке произведений искусства! Это ль не достойное служение отечеству? Вот предложи-ка ему разработать хорошенько проект.
– Изумительный совет, необыкновенное измышление, – сказал Иванов, обнимая Багрецова. – Не сомневаюсь, что порадую этим проектом Николая Васильича в его жажде служить отечеству. А в секретари я приглашу профессора Чижова. Но как жаль, что Гоголь на днях едет в Неаполь! В один миг проект не испечь, а я такой копотун…
– Ну и копайся, над тобой не горит, – сказал Багрецов, в досаде, что этот «блаженный», влюбленный в одну лишь свою картину, как глупая рыба, идет на каждый крючок. Гоголь, которым он так дорожит, при бешеном своем самолюбии, конечно, с ним насмерть поссорится за подобное предложение…
– Ну и черт с ними!
Багрецов был особенно зол: не переставая наблюдать за собой, он немало был поражен сердечным волнением – чувством, давно необычным, которое не оставляло его при мысли о Бенедетте.
«Недостает, чтобы я в это дело ввязался!» – подумал с досадою Багрецов и тут же невольно сказал Иванову:
– Я попытаюсь добиться помощи у Волконской, но без свидетелей…
Иванов пустился обнимать его и благодарить, будто он делал ему личное большое одолжение. И, конечно, так было: Багрецов снимал с нежной совести этого чувствительного человека то, что в нем порождало непосильное чувство ответственности.
Отец Багрецова, живя в Италии, близко сошелся с отцом княгини Волконской. Будучи на много его моложе, он испытывал род юношеского ему поклонения, восхищаясь необычайной просвещенностью, изяществом, грансеньерством князя. Тем более что по сухости своей природы он подобных размягчающих чувств не любил испытывать по адресу пола слабейшего, боясь утратить свободу.
Княгиня Зенеида была тогда уж подростком и отлично запомнила красивого юношу. Как-то она даже намекнула Багрецову, что отец его был ее первой и, вероятно, единственной, несчастной любовью.
Багрецов помнил с детства рассказы об уме и пышности старого князя и почему-то очень раздражительные отзывы теток о молодой княжне Зенеиде. Одна особенно едко приводила слова фрейлины Волковой другой светской даме, Ланской, по поводу поведения княжны на Воробьевых горах при закладке храма Спасителя: «Уж так-то компрометировать себя, как она с синьором Барберини! Ведь уехала с ним в Одессу. Ей мало и горя, что сам государь недоволен».
Багрецов шагал к вилле Волконской и думал о том, какое бы это было счастье, если б он действительно мог любить Бенедетту. Но нет… Он знал слишком трезво, что за чувство им движет… Все та же капризная жажда власти, что гнала деда с полком неприступные брать высоты, гнала отца в увлечении модным научным вопросом – за шальные деньги выписывать негров, венчать их силком в церкви с девками, за каждого ребенка шоколадного цвета выдавать премию…
Честолюбие военное и штатское было чуждо Глебу Ивановичу, но в жизни себя ощущал он хозяином. Да, так было с юности…
Багрецов вдруг, как вчерашний, припомнил один случай с отцом. Старик в тех же целях естествоиспытателя принудил обвенчаться свою побочную дочь Анну, существо недалекое и забитое, с псаломщиком сельской церкви, жадно ожидая, как живописно сам говорил, чем отрыгнется военное семя предков в кутейных кровях псаломщика. Потомства не последовало. Но назло чванным теткам старик ежедневно приказывал лакею звать «зятя» на бостон. Изрядно подпоив дьячка, старик говорил: «А ну, дьяче, дерни-ка мне Иону во чреве китове, али Троицу фигурально».
Закрывал дьяк руками лицо: «Вот он един-с».
И, вдруг развернув на обе щеки ладони, сияя покрасневшим от жертвы Бахусу носом: «А вот он, между протчим, и троичен в естестве-с».
Как-то, идя за книжкой в библиотеку, Глеб Иванович наткнулся на эти увеселения, пришел в мгновенную ярость, схватил, что мелькнулось в глаза, – большой хлебный нож и кинулся на отца.
Все помертвели. Старик вовремя отскочил. Очень бледный, сказал: «Уважаю вас, Глеб Иванович, и при вас скоморошить не стану».
Слово сдержал, но до последнего приезда из Академии сына звал его на «вы» и по имени-отчеству, как бы тем закрепляя свое от него отчуждение.
Багрецов так погрузился в прошлое, что очнулся, лишь споткнувшись об обломок капители, нежданно забелевший в изумрудной зелени. Он уже давно был в парке княгини и беззаконно топтал ее чудесные травы, сбившись с тропы. Багрецов решил войти в виллу без доклада, почему-то уверенный, что встретит княгиню в парке. И правда: белое платье уже мелькнуло ему в четырехугольном дворике, обсаженном густо лозами.
Княгиня была одна на скамейке. В руках она держала кожаную золотообрезную книгу. «Фома Кемпийокий», – угадал Багрецов. Глаза ее смотрели вдаль, в голубое Альбано, и полны были грусти невыразимой.
Уважая ее печаль, Багрецов в нерешимости остановился. Княгиня сама его увидала. Обыкновенно столь сдержанная, ушедшая в свою особую жизнь, она вдруг в детской доверчивости, как бы не в силах удержать радость, пошла к нему навстречу, протянув обе руки.
Багрецов смутился, что княгиня по близорукости его спутала с кем-либо иным и сейчас он попадет в гнуснейшее положение, определяемое французами непереводимым словом – ridicule.
Изумление его возросло, когда княгиня заговорила:
– О, как хорошо, что это именно вы, вы – русский, и через Татищевых будто бы даже родной. Не правда ли? К тому же образ вашего батюшки со мной навсегда…
Она улыбнулась тою улыбкой, которая, должно быть, некогда кружила головы поэтам, и проговорила с нежною грустью:
– Есть минуты, когда сердце так слабо, что хочет только родного по языку, родного по крови, по родине.
Багрецов вмиг представил себе лицо ее молодым, как он видел его на картине Брюллова: огромные, голубые как небо глаза, сияющие, ликующие вдохновением, золотистые, отлетевшие под зефиром кудри, благородство и нежность сверкающего умом белоснежного лба и эта несравненная легкость, как бы крылатость и сейчас тонкого, стройного стана.
– Предо мной воскресло мое прошлое с такой силой, какой я в нем и предположить не могла. И знаете что? Москва и два вечера у нас, на Тверской… Но присядем здесь.
Она опустилась на скамью в густой беседке вьющихся роз.
– Пушкина, едва привезенного фельдъегерем из двухлетней ссылки в Михайловском, привел ко мне вдруг Соболевский. Я пела ему. О, как он слушал… Румянец то вспыхивал, то угасал на его необыкновенном лице. Так выражалось у него всякое сильное волнение. И поверьте: я пела ему лучше, нежели четырем императорам на Венском конгрессе со всею их свитою. Это была его элегия, положенная на музыку композитором Геништою: «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман…»
А торжество мое, когда я получила поэму «Цыганы» с большим листом почтовой бумаги, где его крупным, размашистым почерком написаны были единственные по гармонии стихи…
– Я их помню, – сказал Багрецов и, заражаясь ее волнением, понизив голос, сказал:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновенья…
Он прочел до конца чудесное посвящение. Слезы брызнули из прекрасных глаз «северной Коринны».
– А второй незабвенный вечер, – сказала она, – это когда Мари Волконская приезжала проститься. Она ехала к мужу, в снежную могилу Сибири, где погребены были декабристы. Избранной музыкой хотели мы ей, музыкантше, усладить горечь разлуки с сыном, благословить ее на долгие годы страданий.
Как сейчас слышу: я пою отрывок из Agnès, вот я его оборвала в том месте, где несчастная дочь просит отца простить ее. Внезапно я сделала сближение горя Алисы с горем Мари, которая ехала к мужу против воли отца, и рыдания сжали мне горло. Я кинулась на шею несчастной Мари, и, заливаясь слезами, мы обнялись.
Горькие и светлые, о, незабвенные дни на родине, в этом белоколонном доме на Тверской…
Княгиня закрыла глаза белым платком. Багрецов вдруг догадался, что с ней приключилось что-то необычное: быть может, ей нужна помощь. Багрецов, растроганный, с глубоким сочувствием сказал:
– Княгиня, как соотечественнику, как сыну друга вашего дома и, если разрешаете, – родне, доверьтесь мне, скажите, что с вами случилось?
Есть простые, задушевные звуки, пред которыми самые скрытные, окруженные загородками люди выходят из своего уединения. Княгиня, по природе полная доверия и прелестной доброжелательности к людям, вдруг сбросила запуганность последних лет, забыла горечь опыта, клевету близких, угрозы муками ада, гибелью души, всю тяжкую эгиду черных сутан и, кладя руку на руку Багрецова, с забытым доверием сказала:
– Мой духовник передал мне вчера постановление святой коллегии в ответ на мою просьбу похоронить меня в церкви святого Анастасия, где хранятся сердца пап со времени Сикста. Но под каким условием они согласны на это! О, как мне оно тяжко! Вообразите, под тем условием, если я собственноручно подпишу вот под этим документом свое имя.
Княгиня вынула из книги лист крепкой белой бумаги и, не в силах прочесть вслух, только сказала:
– Вот…
Багрецов прочел:
«Склеп для праха католиков из русских княжеских родов Белосельских-Белозерских и Волконских, которые желают, чтобы тела их лежали у подножия, где погребены сердца римских пап, дабы протестовать и загладить от имени всей России ее величайший грех, что она не признает римского папу как единого главу всей церкви и наместника бога на земле».
Багрецов был смущен. Он не мог понять муки княгини. Ему самому было так безразлично, где и как зароют его прах, а папы, бывшие и грядущие, казались одной бутафорией. Он молчал, понурив голову.
А княгиня сквозь слезы продолжала таким голосом, каким говорит человек о самом заветном, за что ему умереть:
– О, как мне тяжело принять этот приказ. Мне так… будто, подписав его, я предам свою родину. Может, это только соблазн, минута слабости, и, не появись вы сейчас, я бы справилась с собой.
Багрецову стало томительно душно, его вдруг потянуло с такой неудержимой силой к яркой, к солнечной Бенедетте, что, со всем почтением целуя руку Волконской, он горячо сказал:
– Княгиня, сама судьба, а по-вашему сам бог привел меня к вам в ту минуту, когда вы доступны, как все смертные, слабости, колебаниям и боли. Я неверующий и, простите меня, ничем не могу помочь в вашем деле. Наблюдал же я в своей жизни одно: если один человек действительно приходит на помощь другому – он тем самым множит и свою внутреннюю силу. Княгиня, будьте великодушны! Вы страдаете сами, облегчите ж страданье другого… упросите отпустить из тюрьмы Бенедетту, молодую итальянку; сестру того Доменико, который здесь недавно у вас так нашумел…
Кроме того, снимите горькое подозрение со своего дома. Ведь наутро, после речей Доменико у вас, был приказ о строжайшем заключении его сестры с лишением ее свиданий. Все это относят на счет вашего духовника, княгиня, с которым столкнулся Доменико, произнося на акведуке свои пламенные речи о свободе Италии.
Княгиня, если у вас, душой и телом предавшейся католицизму, все еще не угасла любовь к России… во имя сегодняшней вашей муки, поймите же, посочувствуйте пламенной страсти итальянца к его действительно истерзанной родине!
Во время речи Багрецова княгиня заметно бледнела, голова ее гордо откинулась назад, брезгливость и гнев сверкнули в потемневших глазах:
– Вы мне даете слово, что не введены в обман? – воскликнула она. – Вы можете заверить честью, что этой девушке свиданья запрещены? И это после… после посещения моей виллы?
– Клянусь в том, княгиня! Но вы легко можете это проверить, послав доверенное вам лицо с запиской и передачей чего-либо для девушки.
– Это ужасно, – прошептала княгиня, – мне обещано было как раз обратное. Но прощайте, мой друг… Мне сейчас надо остаться одной. Обещаю вам твердо: эта девушка в скором времени будет на свободе! А вас, в свою очередь, прошу забыть мой откровенный с вами разговор…
Багрецов еще склонился над рукой княгини и ушел с виллы Волконской как юноша, полный забытых надежд.
Однако прошло несколько недель, а все оставалось по-прежнему: Бенедетта сидела в тюрьме, и свидания с ней были запрещены. Багрецов сунулся было на виллу: один раз ему сказали, что княгини нет дома, другой – что не велела никого принимать. Багрецов хотел послать Гоголя или Иванова, но первый внезапно уехал, а второй, пользуясь счастливым промежутком здоровья, затворился в своей мастерской. Багрецов знал, что если сейчас добраться к Иванову через все запоры – все равно он не поймет ни слова о чем-либо постороннем своей работе. Стипендия его иссякла, и он должен был день и ночь двигать картину, чтобы можно было просить о новом продлении пенсии у государя. Николай I собирался приехать в Рим.









































