Текст книги "Ворон"
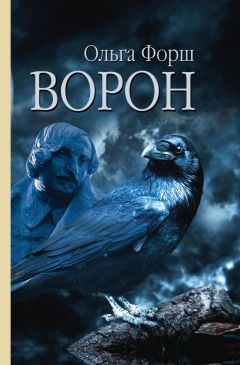
Автор книги: Ольга Форш
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Что с вас взять, – пожал плечами Багрецов. – Упрекать вас за то, что вы есть, бесполезно и глупо.
– Ваше высокомерие нимало меня не трогает, – прервала Полина. – Сколько б вы ни корили женщин за то, что они не жертвуют собою гениям, они не исправятся. Для них последний обыкновеннейший мужчина может оказаться более достойным любви, между тем как Сократ будет вечно достоин одной лишь Ксантиппы! И знаете почему?
– Это любопытно. Просветите меня!
– Потому что женщина ценит только того, кому она хоть когда-нибудь может быть цель, а не средство. А потому грубейшая страсть ей предпочтительней любви – лекции по искусству. Однако я прошлым жить не люблю. Давайте заключим и на будущее союз дружбы. Ведь ваши услуги могут быть и удачней!
Багрецову Полина сделалась отвратительна, но мысль о «флаконе Борджиа» заставила его улыбнуться и сказать со всеми чарами героя романа:
– Услуга за услугу! Вы должны вскрыть мне тайну маленькой Гуль. Откуда эти очи, полные гнева, и таинственность и нежелание со мной говорить? Ужели она так стала важна от брака со своим адъютантом? А кстати, он интересен по внешности?
– Успокойтесь: долговяз, краснонос от жертв Бахусу…
Багрецов прервал с улыбкой:
– И потерпел здесь аварию, пытаясь приносить жертву Амуру… Передайте жене его, что он притча во языцех у художников. Скульптор Рамазанов не пускает его в мастерскую по просьбе натурщицы, в которую он соблаговолил влюбиться.
– Ах, это маленькой Гуль очень на руку, – оживилась Полина, – муж этот ей до смерти надоел. Ведь Гуль… Да неужто не догадались? Она с пелен любит вас!
Багрецов притворился изумленным, что польстило Полине.
– Вы меня поражаете, – воскликнула она. – Но знайте, Гуль настолько же вас любит, как и ненавидит. Но, не правда ли, наш союз а́ discretion, клятвенный и нерушимый?
– Разумеется, что так, – удостоверил Багрецов.
Они сели под серебристой оливой на камне, и Полина с наслаждением бессмертной Евы, нарушающей клятву, хотя место было пустынно, стала шепотом предавать подругу.
– Вы всегда щадите мое самолюбие и даете доказательство вашего уважения. И сейчас, хотя дело не вышло, я ценю, что вы мне хотели добра. Ну вот, я отплачу вам тем же, не желая, чтобы вы стали посмешищем. У нас на маскараде против вас целый заговор. Гуль заинтриговала всех родных и знакомых. Кто б мог подумать о коварстве в таком хилом существе! Когда она выйдет в своем костюме, все должны изучать ваше лицо.
– Для какой же цели?
– Гуль уверяет, что вы побледнеете, как преступник. Что это будет вашей уликой, и тогда она раскроет одну вашу старую тайну. Будет мстителем за совершенное будто бы преступление или за намерение его свершить – уж не помню. Ни дать ни взять опера! Вообразить вас преступником в наши дни? Флакон яда? Да чем же это не Ренессанс?
Скрывая волнение, Багрецов сказал:
– Да, презабавная история! А каков будет костюм вашей Гуль?
– Флакон с надписью: «Яд Борджиа». Недурен романтизм?
Багрецов засмеялся, и уж это вышло напрасно. Смех его вышел не легкий, а злой, так что Полина, помолчав, заметливо сказала:
– Однако вас в этой истории что-то все-таки зацепило.
– И даже очень зацепило, – поспешил он, – как всякая подчеркнутая человечья гнусность. Ведь я знал эту Гуль девочкой, она росла у меня на глазах; как умел, я о ней позаботился. И вдруг эта чисто женская, кошачья месть, только за то, что я не оценил ее прелестей?
Багрецов, уже вполне овладев собою, найдя все необходимые интонации, рассказал Полине о том, что этот странной формы флакон жена хранила при себе на тот случай, если ребенок родится мертвым.
– Подозревая, что это мог быть яд, я, похитив его у сонной, тихонько унес из-под подушки, положил к себе и, не поспев хорошенько спрятать, поспешил на зов проснувшейся жены. Вернувшись, я нашел, что флакон исчез. Сейчас мне все понятно: Гуль, с своим замкнутым характером, разрываемая детской страстью и фантазией, вообразила целую мелодраму. И все это было бы даже мило, если бы не ее теперешний маскарадный замысел с такой гласностью и предательством. Впрочем, и это извинительно, – сказал он, смеясь. – Ведь я разбил ее семейное счастье, добродетельно помешав соблазнить натурщицу Рамазанова долговязому адъютанту Гуль.
– О, какой вы широкий и великодушный человек! – воскликнула Полина. – Сколько снисхождения к нашему женскому коварству.
«Бесподобно разыграно», – похвалил сам себя Багрецов и, придумав какой-то предлог, распростился с Полиной и, взяв веттурино, уехал на целый день в Субиако.
Багрецов шел к себе домой в отвратительном настроении. Он был противен себе сам, как эта Гуль, с непрошенной любовью и ненавистью вставшая у него на пути.
Всплыло прошедшее. То дурманное состояние, близкое к бреду, которое охватило его после именин на Девичьем поле. Снова возникла не оставлявшая в те дни ни минуты, разрывающая все существо его, зовущая в бой музыка строк:
Я мало жил, и жил в плену,
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог…
Сейчас, в эту темную, безлунную благоуханную ночь, заглушая плеск тихих весел на Тибре, звуки журчащих о любви мандолин, охватывая взором ожерелье огней на святого Ангела, где сидели, бывало, в заточении благороднейшие, откуда на разрезанной простыне бежал Бенвенуто Челлини, – эти строки звучали ему вновь и вновь с прежнею силой:
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог…
В комнате Бенедетты горел огонь. Багрецов стукнул в стекло, размахнувшись бутоном розы, продрался сквозь заросли и шипы подсмотреть в окно; удивленное прекрасное лицо глянуло в темный сад и, никого не видя, отодвинулось.
Бенедетта была в костюме транстеверинских женщин. Бархатный корсаж ловко обхватывал белоснежную рубашку. Шея и руки, от локтя голые, были тверды, налиты здоровьем. Лицо знойное, прекрасное в своей простоте, как лицо молодой богини.
Багрецова, после всей путаницы, боли и мелочи последних дней, это лицо потянуло, как тянет теплая большая река разбитого в пути странника. Минута отдыха и забвения… Он опять постучал и вплотную, как мальчик-шалун, приложился к стеклу, состроив из лица расплющенную маску. «Если узнает, – успел подумать он, – значит, полюбила…»
Она узнала его. Радостно вспыхнув, она открыла окно.
– Бенедетта, можно к тебе? – прошептал Багрецов. – Я по делу.
Бенедетта кивнула, указав на двери, и, спустив от лишних взоров зеленое жалюзи, пошла вглубь комнаты отворять.
– Как вы узнали, что я еду? – удивилась Бенедетта.
– Куда едешь? Нет, я не знаю ничего, – сказал Багрецов. – Я соскучился по тебе, я пришел навестить.
– Как же, поверю, вас сколько дней не было дома? – сказала она с сознанием, что вот не смеет делать упреков, и все-таки упрекает.
Багрецов обнял Бенедетту и, целуя, сказал:
– Вот и прекрасно, я поеду вместе с тобой.
Бенедетта высвободилась, отступила. Лицо ее вдруг все засветилось прекрасной глубиной чувства, гордый рот, способный на резкое, жестокое слово, детски доверчиво приоткрылся:
– Надолго?
Это была такая полная, настоящая, большая любовь, что у Багрецова голова пошла кругом. Он забыл и кто он и на что способен, он смог в ответ сказать ей только одно, тысячу раз им осмеянное:
– Навсегда!
Они не спали всю ночь. Он ей все рассказал про себя, как матери, другу, жене.
Молча гладя его волосы, она все поняла, не удивляясь. Наконец она просто сказала:
– Мы теперь будем вместе работать для свободы. Ведь ты любишь Италию, раз ты любишь меня?
Он отвечал:
– Борьба за свободу Италии – начало борьбы за свободу людей. Мне терять нечего, мне жалеть нечего. Все мое только с тобой. Едем же, едем скорей!
И он бы в те дни с ней уехал. И кто знает, быть может нашел бы себе если не покой, то хоть доблестную смерть, как любимый им Байрон, сражаясь в чуждых рядах, за чуждую отчизну.
Но он не поехал. Он остался. Это она, Бенедетта, и в любви не забывающая дела, в интересах своего «тайного общества» решила, что безопаснее для дела ей ехать одной. А ей предстояло немало нужных бумаг перевезти контрабандой к Доменико. Порешили на том, что она уедет одна и вызовет Багрецова при первой возможности. Когда утром он усадил Бенедетту в высокую тележку знакомого веттурино, она, целуя его в последний раз, так грустно сказала: «Теперь мне без тебя даже неделя большой срок», – что Багрецов прыгнул к ней в экипаж и, презирая всякую осторожность, еще и еще убеждал ее взять его себе в спутники. Но прекрасная Бенедетта была тверда. Она сделала знак виттурино, тот ударил по лошадям, и она уехала, не оборачиваясь. Она не обернулась, хотя любовь к Багрецову в ней была так же сильна, как любовь к Италии, но жила в Бенедетте, как и в брате ее, Доменико, та пламенная верность делу, что принудила знаменитого узника венецианской тюрьмы, их отца, покончить с собой голодовкой, чтобы не предать тайного плана восстания.
Багрецов, безумный, влюбленный, каким не был и в дни своей мрачной юности, то таскался по узким уличкам Рима, то с головою зарывался в прошлое Италии. Он вдруг сумел убедить себя, что ему безразлично, какой страны быть гражданином, и если судьба представляет ему Италию поприщем деятельности, то он готов помереть за Италию, как Байрон за Грецию. Он зараз брал уроки истории, итальянского языка, изучал фехтование и военное дело. Он стал юношей, – он любил.
Среди своих личных дел он даже не отозвался на внезапное появление Пашки-химика, который приходил за ним, чтобы идти вместе к Гоголю. Но вся острота этой долгожданной встречи для него теперь пропала. О чем говорить, хотя бы и с Гоголем, будущему члену «Юной Италии», мужу Бенедетты? Для своего нового итальянского будущего Багрецову хотелось, как уходящему в монашеский орден, одного: поставить крест над всем своим прошлым.
И не мудрено: служа делу возрождения Италии, ведь он ухватился за чудо собственного своего возрождения.
Пашка-химик корчил бесовские рожи, хихикал, но, даже не рассердив Багрецова, разобиженный, отошел. Так с Гоголем Багрецову в Риме и не привелось говорить. Гоголь уехал в Неаполь, откуда собирался двинуться через Чивита-Веккию в Палестину.
– «Чиновник восьмого класса, Николай Гоголь», – так аттестован наш «важнейший» в официальной бумаге, находящейся в Неаполе, – «отправляется в путь по святым местам, сроком на полтора года»… Сие отмечено печатями, что значит – документ, – сказал в последнее посещение Пашка Багрецову и еще раз настойчиво убеждал: – Съездите, Глеб Иваныч, съездите к Гоголю хоть в Неаполь, ведь единственного в своем роде великого человека проморгаете. Что ж до девицы… Да ведь у нее, что у нашей калуцкой, что у древней, гречески-римской, один коленкор-с!
Багрецов Пашку гневно прогнал.
Как-то вечером, молодой и веселый, все еще не доверяя своему внезапному, своему второму рождению, Багрецов захотел сентиментально пережить недавнее прошлое с начала, с той самой минуты, как он постучался в окно, продираясь сквозь крепкие душистые ветви вьющихся роз. А в окне, освещенная сверху, сверкая белизной шемизетки и смуглой своей красотой, предстала ему Бенедетта.
Он входил к себе в сад от синьора Стацци, старого знатока истории тайных обществ, которую сам он теперь выучил назубок. Он подошел к окну, по-мальчишески прыгнул в газон, как тогда, приложил было лицо вплотную к стеклу, как вдруг его сзади кто-то робко позвал:
– Глеб Иваныч!
Багрецов обернулся. Недалеко на садовой скамье сидела Гуль.
Он не удивился. Сейчас в его жизни все было неизъяснимо и чудесно. Ведь он стал не он. В нем какое-то новорожденное, доверчиво-светлое существо заменило привычную злую насмешку добротою ребенка.
– Милая Гуль, как хорошо, что вы пришли, – сказал он с непринужденною лаской, но в ответ на эти слова худенькое тело сидевшей вдруг все содрогнулось и, странно свернувшись на скамейке, забилось в рыданиях.
– Гуль, маленькая Гуль… – И, не желая чьих-либо нескромных взоров, Багрецов почти внес ее в свою комнату.
Но он не успел подать ей воды, как Гуль, соскользнув на пол и схватив его руку, стала целовать, говоря:
– Простите меня, о, простите!
Багрецов вмиг припомнил все, что вылетело у него было из памяти, и то, как должен себя он держать, чтобы не выдавать своей тайны. Но после той ночи, когда Бенедетта смогла все понять, играть роль было тяжело. Однако природная осторожность проснулась, и сдержанно он спросил:
– За что же прощать мне вас, милая Гуль?
– Вовсе я вам не мила. Вы не любите меня. А с тех пор, как поговорили с Полиной, вы должны меня презирать.
Гуль впервые подняла на Багрецова огромные, обведенные черными кругами бессонницы глаза.
– Полина передала мне весь разговор. Она не хотела, чтобы и я оказалась в глупом положении. Дайте воды… Я должна вам все рассказать.
Багрецов подал стакан, потом сел напротив на низкий табурет у ног Гуль и, опустив голову на руку, не глядя на нее, приготовился слушать.
– Когда я попала к вам в дом двенадцатилетней девочкой, я вздохнула впервые. – Она говорила прерывисто, как после быстрого бега. – Быть может, вы не знаете: сестра не любила, стыдилась меня, тетя тоже. Наша мать, которая умерла за границей, бросив своего мужа, не была верной женой. Тетя имела жестокость не однажды при мне говорить, что я не имею права носить графский титул и фамилию Котовых…
Сестра терпела меня как обузу, она была суха и расчетлива. Вы первый приласкали меня. Я полюбила вас страстно. Вы не знаете, может быть, что такое любовь в юные годы, когда еще нет разнообразия впечатлений, когда не накоплено опыта, не развиты способности ума и воли. О, это всепожирающее пламя! Да, как пишут в старинных романах.
После смерти сестры вы меня отдали в пансион. Я бы умерла, если бы вы не стали меня хоть изредка посещать. Я жила от встречи до встречи.
Да, я знала все, что свершалось между вами и сестрой. Я отлично понимала, что не по любви вы женились, поняла и то, что сестру вы скоро возненавидели. Я стала за вами следить: ваш растущий гнев, ее бестактное утверждение в своем богатстве, наконец ваше отвращение, когда она к вам приставала с приданым малютки… – Гуль остановилась. – Вы меня слышите? – сказала она.
– Я отвечу, когда вы кончите, говорите все.
Голос Багрецова был все так же ласков, но лица он не подымал.
– Это было за день до конца, вы только что вышли из комнаты, дверь не была прикрыта, я проходила мимо и по обычаю скользнула к вам. Я так делала часто. Мне как ласка было побыть в вашей комнате, потрогать ваши вещи, некоторые пустяки я воровала.
Я носила на шее рядом с крестиком вашу запонку, я таскала ваши носовые платки. В тот день я на столе увидела флакон необыкновенной формы. Но только я взяла его в руки, как за дверью раздались шаги. Убежать было некуда. Не выпуская флакона, я укрылась за шкаф. Я думала – я умру. У вас было отчаянное лицо, досиня бледное. Вы вошли и упали в кресло, охватив руками голову. Потом вы стали метаться, что-то искать, вероятно, флакон.
Ваше лицо изобразило такой ужас, не видя его, что я, не в силах выдержать, хотела уж кинуться к вам и отдать. Вдруг сестра стала звонить, зовя вас. Вы бросились вон из комнаты. Я, по непонятной мне причине прижимая к себе флакон, убежала в свою светелку наверх.
Зачем вечером вы так испугали меня! Вы льстили, подкупали, приказывали отдать… вам так нужна была пропавшая вещь, что я видела, если бы безопасно для этого было меня запытать, вы бы, не дрогнув, меня запытали. О, как ранили вы меня вашей жестокостью…
Но, чересчур испугавшись, вы выдали свой страх. Оскорбленная в своем детском чувстве, заброшенная и злая, я решила держать вашу тайну в своих руках. У меня явилось чувство власти над вами.
Наутро сестра умерла.
Я подумала: если и сегодня он будет мне говорить про флакон, значит он ее отравил. Я флакон не отдам, но когда вырасту большая, узнаю у врача про его содержимое. На дне оставалось немного приставшего к стеклу порошка. Я залила пробку сургучом и закопала флакон в саду, отметив место камнями.
Вы в тот же вечер опять начали ваши допросы. Вы помните, как я рыдала, потом заболела. Я была в таком ужасе, что вы – убийца. Больше меня вы не допрашивали.
– Этот пузырек я взял из-под подушки моей жены во время ее сна. Она добыла себе яд, чтобы самой умереть, если ребенок родится мертвым.
Багрецов сказал это с твердостью и спокойно: того человека, который отравил его жену, он в самом деле чувствовал теперь совершенно чужим. Сейчас он острее, чем все дни, знал одно: спасенье его – брак с Бенедеттой, новая родина, новая жизнь.
От простых слов Багрецова Гуль вдруг сделалась очень бледна и с непонятным ужасом прошептала:
– Как, и сестра моя вам лгала? Вас пугала отравой Борджиа? – Она почти лишилась чувств и долго сидела молча, закрыв глаза темными, будто выкрашенными веками.
Багрецов был поражен. Он стал догадываться, что Гуль или знает что-то ему неизвестное, или сходит ума.
– Видно, ложь в нашей семье. Сестра с вами играла, она не могла… О, простите меня! – Гуль чуть всплеснула своими тонкими ручками. – Но помогите мне сами сказать все до конца. Нищему душой так трудно дается великодушие. Если б я имела хоть одну жалкую радость узнать… ну, вот, скажите мне правду, как перед смертью: если вы не любите меня, то ведь, не правда ли, вы не любите и никакой другой женщины? Увлечение, страсти – не в счет. Я говорю про любовь, про любовь… от которой сердце как солнце!
– Как вы прекрасно сказали – сердце как солнце. Да, Гуль, с недавних пор такое чувство мне стало понятно.
– Благодаря натурщице Рамазанова! – вскрикнула Гуль. – Из-за нее я поссорилась с мужем, из-за нее снова теряю я вас. Будь она проклята, итальянская девка!
– Вы не смеете… Это – моя жена.
Багрецов, бледный, схватил Гуль за плечи, но в ту же минуту встретился с глазами ее. В них было столько муки, что он отступил и невольно сказал:
– Простите, простите меня.
Гуль, шатаясь, пошла к двери. Лицо ее, с опущенными веками, на миг выразило жестокую борьбу: вот рот уже дрогнул пронзительной нежностью, и казалось, она готова, ценою собственной жизни, произнести какое-то разрешающее слово. Но когда она подняла глаза, тусклые, темные, пятна без жизни, голос ее был только злобно отчетлив:
– Желаю вам счастья с новой женой, и пусть не повторятся у вас, как с первой, припадки ненависти, которым вы столь подвержены. Улик против вас нет, и, конечно, давность прошла, но я все-таки знаю: убийца сестры моей – вы!
Глава X
Пюргатив
Один – раб человека, другой – раб судьбы.
Лермонтов
Сегодня откроется конклав, да, да, конец десятидневных поминок по усопшем папе Григории.
И стучат деревянные каблучки, и спешат римляне и форестьеры на ближайшую площадь за свежими слухами. Народ на улице. Волнение в Риме: не хотим черного папу!
– Беппо, кто сядет на папский престол: Ламбрускини или Ферретти?
Беппо все знает. Он говорит, пыхтя трубкой:
– Сядет папой Микера, гнусный шакал. Когда его спросили, кого бы он сам хотел видеть в папской тиаре, не постыдясь, он ответил: «Для спасения души годен кроткий Мастаи, но для спасения финансов, что гораздо важней, ибо в ваших карманах скоро будет, синьоры, столь же пусто, как в банках, – для спасения финансов лучше меня не найти!»
Багрецов, заодно с итальянцами, сейчас жил на площади и в таком же волнении, как его старый maestro di casa, бежал на закате к Ватикану смотреть, как на розовом небе черной лентой извивается дымок fumat’ы.
Уже не раз вылетал этот дымок из трубы над Сикстинской капеллой, где заседали шестьдесят кардиналов над избранием нового папы. Кардиналы не могли сговориться, твердого имени их записки не давали и по традиции предавались огню. Дым из трубы, по-местному – fumata, был горестный знак населению, что продолжается его сиротство и что римляне – все еще бедные овцы без единого пастыря.
Наконец в один из чудесных июньских вечеров фу маты не было, и стало известно, что папой избран Мастаи Ферретти.
Ему же выпал черед разворачивать билетики закрытой баллотировки, и передавали знакомым своим кардиналы, что скромный Мастаи, по мере того как повторялось его имя, все сильнее бледнел и наконец, поняв, что именно он избран в папы, воскликнул:
– О, что вы наделали! – и лишился чувств.
Однако от власти отказаться не так-то легко. Когда Мастаи очнулся, то на вопрос: принимает ли он папский сан, он скромно ответил:
– Я подчиняю свою волю избирателям и провидению.
Немедленно стала известна Риму вся подноготная нового папы. И несчастная любовь юности и отличие в науках в знаменитом Тосканском университете. Последнее возбуждало большие надежды, так как означало, что губительное влияние семинарии его не коснулось. Чуждый честолюбивого лицемерия и нетерпимости, новый папа хорошо знал обыкновенную человеческую жизнь. Он заведовал сиротским домом с такою любовью, что дети прозвали его «тата Джиованни». А на последнем своем месте, епископом в Имоле, он снискал всеобщее уважение покровительством просвещению, в духе модных писателей Джиоберти и д’Азелио. Багрецову шепотом сообщали, что новый папа принимал даже участие в действиях «Юной Италии».
Когда Пий IX ехал из Квиринала в Ватикан принимать поздравления от кардиналов, римляне приветствовали его восторгом чрезмерным…
Багрецов, полный своей любовью, ожидая письма от Бенедетты с вызовом в Неаполь, переживал нечто близкое перевоплощению. Любовь Бенедетты, – как волшебный чан, куда прыгает Иванушка дураком, а выходит умником, – переродила его из отжившего, охлажденного человека в юношу. Заодно со всем Римом он был охвачен восторгом в дни амнистии политических, заодно со всеми яростно требовал отставки черного кабинета Савелли.
Пий IX, сколь ни запугивали его кардиналы, приступил сразу к реформам, чем вызвал бурное обожание римлян.
Три дня непрерывно шел праздник: процессии, факелы, карнавал. У многих ссыльных не было средств вернуться на родину – возник комитет помощи, посыпались добровольные жертвы. Багрецов давал деньги, собирал, агитировал. И заодно с итальянцами обожал вождя Рима, Анджело Брунетти Чичероваккио.
Это был неподдельный народный герой, ломовой извозчик, достойный представитель транстеверинцев, лучшей части простонародья, великодушный, гибкий и пламенный.
Имя Брунетти у всех на устах. Народ ему верит, и он не обманет народ. Этот человек с черной бородкой, с тонкими быстрыми руками, которыми обычно дополнял свою яркую речь, был больше чем вождь, он был сердце и воля народа.
Чичероваккио прекрасно умел на банкетах сидеть рядом с древнейшими князьями Рима и, не давая им себя убаюкать лестью, как сторожевой орел, зорко следил, до каких пор интересам народа не вредит быть заодно с Ватиканом.
И хотя мелкие реформы папы сыпались как из рога изобилия, хотя вместо старого губернатора Савелли назначили известного либеральностью Грасселини, Чичероваккио все острей понимал, что от одной перемены людей пользы мало, если учреждения останутся те же. И после дней особых римских торжеств говорил с горечью среди близких своих транстеверинцев:
– Чихнет папа – факелы, проедет по Корсо – ракеты, – ох, боюсь, как бы нам все дело Италии не пропраздновать в карнавалах! Национального ж войска как не было, так и нет, а шпионы и сбиры кишат по-прежнему, словно клопы.
Нижние полицейские чины набирались в Тоскане, как и всюду в Италии, из самых подонков города, а пользовались властью громадной. Они действовали заодно с ворами, чтобы брать свою долю за открытие краж. Они доносили, шпионили, они гнусной коростой прослаивали под разнообразной личиной тайные кружки «возрождения Италии».
Наконец флорентинцы, придя в ярость, разрушили здание полиции и на огромном костре сожгли все дела. За ними восстали и прочие города Тосканы, пока не добились декрета, навсегда упразднявшего полицейские низшие должности.
На время народ успокоился. Он был горд своим первым, доселе неведомым опытом: его воля – высший закон.
Хуже всего дела были в Неаполе. Даже незначительные реформы Пия выводили из себя Фердинанда, а отмена сбиров его окончательно утвердила в трусливом самовластии. Но едва он усилил полицию, как возник тайный заговор. Заговор перешел в восстание в Мессине и Реджио, как только генерал Стателла был послан с незначительным войском, чтобы усмирить в Калабрии неаполитанских беглецов, занимавшихся разбоями. Среди заговорщиков главным был брат Бенедетты – Доменико.
Он в предместье Мессины, где ненависть к Неаполю была сильней, чем где-либо, задумал за большим обедом захватить генерал-губернатора Ланди со всеми офицерами и затем овладеть крепкой цитаделью.
Но план Доменико был выдан предателем, и губернаторский обед отменен. На улице завязалась борьба. Революционеры, бессильные перед войсками, должны были бежать в соседние горы…
Вот эти последние события в тайном письме к Багрецову излагала Бенедетта, прося его ехать к ней немедля в Неаполь.
Багрецов, счастливый, стал собираться. Он поручил своему maestro di casa заказать лошадей, а сам пошел в банк за деньгами. И все время, что бы ни делал, Багрецов не уставал отмечать в самом себе с радостным изумлением присутствие все еще ему необычайного влюбленного юноши…
На Корсо он встретил Александра Иванова. Тот только что вернулся из Ливорно. Увидав Багрецова, замахал в оживлении руками, зашептал, щекоча его бородой в самое ухо:
– О, я застал там важнейшие происшествия… – И с презабавным, конспиративным видом потащил Багрецова к себе в студию.
По дороге на все вопросы Иванов отвечал многозначащим безмолвием, прикладывая к губам один из своих толстых пальцев.
Наконец, у себя в мастерской, после обычной церемонии накрепко задвинутой двери и осмотра всех углов, Иванов ликующим голосом сказал:
– Я застал, мой друг, исторический момент в Ливорно – предъявление требований правительству национальной гвардии.
Или чивика, или революция! Вообрази, это смело кричали в самом городе. Мне советовали убираться; все форестьеры, как крысы, сбежались на пароходы. Но я остался. Конечно, главным образом оттого, что нашел великолепные древнепалестинские лица, но и из интереса к событиям также.
Наутро, представь только, – да ведь это, братец, история! – сам грандука объявил афишами, что просьбу народную он отдал на рассмотрение в государственный совет. Толпа становилась все больше, двинулась маршем на площадь, каждый с трехцветной кокардой. Какие знамена взвились! А бюст папы, как лебедь, поплыл впереди. Вообрази, губернатор со страху иллюминовал свой собственный дом. Каково, Глеб Иваныч? Сво-бо-да!
Да, я видел впервые волю народа, и, представь себе, я понял, как вдруг может меняться весь пункт зрения. Истинно, художник постигает историю не по книгам, а едва лишь увидит ее своими глазами. Только от глаз возникают в нем выводы.
Иванов был необыкновенно возбужден, он помолодел, он опять стал раскрыт и доверчив, как, бывало, в дни юности и «взаимного экилибра». Впервые Багрецов видел его так захваченным живой жизнью, что временно даже живописная работа его остановилась.
– Глеб Иваныч, я совсем не работаю, а без конца думаю, думаю. О, что пережито мной в Генуе! Прибыл я туда больным, замученным бессонницей, но, увидав генуэзцев, воспрял. Да, Генуя великолепна. Независимость их сделала вдруг героями. И ходят сейчас по-иному… Повсеместная честность, порядок, жизнь, бодрость.
И меня вдруг как обухом хватило – хоть и сказано «повинуйтесь властям предержащим», но отнюдь не безразлично, дражайший, каким именно? Да-с, Глеб Иваныч, вот мысли – для русского новые!
– Свободная чивика или наемники деспотизма, еще бы не разница, – рассмеялся Багрецов. – Только это ведь азбука! Александр Андреич! Эк, Америку, подумаешь, открыл!
Иванов подкатился к Багрецову совсем близко, и, всем взволнованным существом своим обнаруживая, как важны были ему эти для русского «новые мысли», понижая голос, сказал:
– Неужели от состояния политического и впрямь зависит душевное?! Судя по лицам, это – очевидность для художника. О, я давно не дышал столь облегченно. Но, друг, на границе все кончилось, едва шпионский, желтый цвет будок с черными полосами сменил нам свободу Сардинии на рабский, удушливый воздух Ломбардии…
В дверь мастерской кто-то яростно застучал. Сначала одним кулаком, потом ногами. Иванов побледнел, схватил за руку Багрецова, шепнул ему:
– Австрийские шпионы! Некий следил за мной от самой границы…
– Глеб Иваныч, вы здесь? – донесся в щель голос Шехеразады. – Откройте, я один. К вам дело…
– Пашка-химик, – узнал его Иванов, но все же опасливо переспросил: – Да есть ли кто с тобой?
– Един, как хрен, – завизжал Пашка.
Иванов открыл, попенял:
– Испугал, братец, стуком. Вперед стучи троекратно и дробно.
– Я к Глебу Иванычу двойным гонцом бога Амура, – застрекотал Шехеразада, подбегая к Багрецову.
Он на обычный свой балахон нацепил трехцветную кокарду, а в руках у него был герб Ломбардии.
– Ты что это, на пути в волонтеры? – спросил Багрецов.
– Как же-с, Глеб Иваныч, хочу и я записаться. На поле битвы еще паду или нет, а уж вторую-то молодость приобрету себе без просчету-с. Каждому лестно от фортуны сорвать двойной урожай-с!
Багрецов понял намек, раздражился, как всегда оборвал:
– А сюда что тебя принесло?
– Единственно увлечение вашей судьбой, Глеб Иваныч. Ну как же-с, по поводу вас в один час две встречи, и обе важнейшие. Maestro di casa, почтеннейший старец, вас ищет в целях задатка вознице на свадебный ваш кортеж. А вторичное вам извещение – ваша знакомая просит свидания на холме Пинчио. Да разве не акт дружбы, Глеб Иваныч, заставил меня пугать вас здесь стуком? Согласитесь, что именно акт…
– Глеб Иваныч, да как же ты мог утаить? – подскочил с изумлением Иванов. – Неужто и вправду женишься? А может, ты, Пашка, сбрехал?
Багрецов покраснел, отмолчался. Ему не хотелось раньше времени говорить про Бенедетту. И он поспешил спросить Пашку:
– А второе поручение от кого?
– От жены долговязого адъютанта, от Галины Юрьевны.
– Да разве она не уехала с мужем?
– Никак нет-с. Осталась одинешенька. Адъютанта отпустила совсем одного. Я видел своими глазами, как он, словно аист, этак голенасто вышагивал из отеля вслед за лакеями, вносившими в экипаж его вещи. А Галина Юрьевна просит вас для важного дела быть на Пинчио ровно в пять.
Часы ударили половину.
– «Глагол времен – металла звон», – вскричал Пашка. – Выйдемте вместе, Глеб Иваныч, мне в ту же сторону. У дамы-то вашей лицо было бледное, и глаза… Она бросится в Тибр, если вы не придете. Ей-богу, бросится.
Иванов ужасно взволновался. Припомнил, как певица Дюмулен из-за того, что Брюллов не отвечал ей на письма, бросилась с ponte Molle. Он заторопил Багрецова:
– Иди, Глеб Иваныч, неровен час… ужо на досуге придешь, побеседуем о мыслях, для русского новых…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































