Текст книги "Ворон"
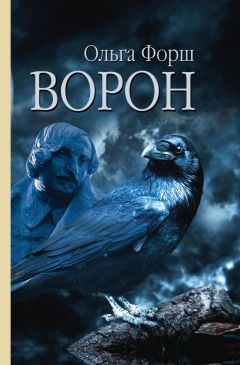
Автор книги: Ольга Форш
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Багрецов шел на свидание с Гуль, а думал об Александре Иванове. Ему был и пленителен и одновременно досаден этот большой ребенок, мироощущения которого менялись по особым законам не мысли, а живописного впечатления. Между тем он был остроумен. Но как совместимо с большим умом, что такие простые вещи: свободная национальная гвардия или наемники деспотизма есть разница – могли быть им поняты только сейчас воочию, при переезде с свободной земли в подневольную? Еще он думал о том, как хорошо стало жить, как радостно ходить юношей вслед Чичероваккио и сливаться с транстеверинцами! Быть может, удастся навсегда ему вжиться в эту жизнь и страну и зачеркнуть в себе того прежнего, бесплодного и тоскливого человека.
Пускай позади, в прошлом, было преступление, были долгие годы чайльдгарольдовщины и тоски – всему есть конец. Любовь обновила. Можно начать жизнь с начала. Больше того, любовь стала возможной только благодаря пережитому. Иначе разве отметил бы он Бенедетту?
Лишь пройдя через сложности и, быть может, через преступление, сознание научается ценить простоту и невинность. Он вспомнил гетевскую мудрость, для всех рассказанную в «Фаусте»: разве не после погубленной им Маргариты сумел Фауст постичь возрождение через «вечную» женственность? Так было для каждого из тех, кто познал тяжесть свободы и мысли. Так будет…
Багрецов думал обо всем, кроме той, которую сейчас он был должен увидать – сестру жены, несчастную Гуль.
На одном повороте они встретились. Гуль первая окликнула Багрецова и, подавая руку, сказала:
– Так вы пришли? Ну, хорошо…
Она была как после сильной болезни. Лицо истончилось, просветлело, отчего черные брови на нем стали еще тверже и, казалось, своей тяжестью клонили книзу всю голову. В синем дорожном костюме, подобранная, как англичанка, Гуль была сдержанна, незнакома. Но Багрецов, по трепету горячей маленькой ручки, которую дружески задержал обеими руками, почувствовал ее особую взволнованность и с лаской сказал:
– Я слыхал, вы в Риме надолго?
Они сели на отдаленную от гулянья скамью, где уже мимо никто не ходил, где свидетелями любовных и прочих свиданий был только ряд ваз с большими агавами.
– Я не уеду отсюда совсем, потому что не хочу жить с мужем. Мы совсем с ним чужие. Брак наш был, как у всех, самый светский. Ведь и я, как сестра, хотела только семьи.
Гуль горько улыбнулась.
– И как у нее – не вышло. Впрочем, я вам благодарна, что вы мне на мужа раскрыли глаза, хотя бы мимоходом, по пути собственной жизни. Ведь Полина мне все рассказала…
Гуль жарко вспыхнула и глянула на Багрецова большими измученными глазами:
– Не бойтесь, никаких претензий я к вам не имею, кроме пожелания вам счастья. Простите тогдашнюю глупость, я столько перемучилась с того дня у вас, в саду… ведь я шла к вам сделать признанье, но от гнева, от ревности не смогла. Сейчас скажу до конца. Но сперва прочтите письмо доктора Радина… он писал вам пред смертью, передал мне…
– Но Радин умер пять лет назад? – удивился Багрецов.
Гуль, едва сдерживая рыдания, сказала:
– Вот пять лет я и утаивала. Письмо связано с тем, что я могу вам открыть только сейчас, – вот оно!
Багрецов распечатал плотный конверт, быстро пробежал глазами немногие строки, написанные слабой рукой.
– Вот чудак! – усмехнулся он. – Страдал редчайшею болезнью – честностью, ради нее готов наклепать на себя!
В письме стояло:
«Чувствуя близкий конец, спешу покаяться в том, чего не имел силы сделать много лет назад.
В смерти жены вашей Елены Юрьевны виню одну свою слабость характера, столь пагубную для врача. Уступая ее уговорам, от страданий бессонницы я ей выдал специальное для этого лекарство.
Больная в забывчивости приняла двойную дозу, что при слабости сердца оказалось для нее катастрофично…»
Дальше шли просьбы о прощении.
Гуль молчала, уставясь глазами в огромную, почти черную на огненном закате агаву.
Еще Багрецов сказал:
– Ну не добряк ли этот Радин? Немудрено, что век ему был недолог, если так он себя грыз из-за каждого пациента.
– Доктор Радин написал правду, – беззвучно, с усилием перед каждым словом сказала Гуль, – только порошки в двойной дозе сестрой приняты были не добровольно…
Гуль помолчала. Потом, все так же не сводя глаз с агавы, словно держась за нее глазами, без всякого выражения сказала:
– Доктор Радин при мне убеждал сестру быть осторожней… Это не она сама… ей лишнее подсыпала я. А в вашем флаконе Борджиа…
– В флаконе Борджиа… – как эхо, повторил Багрецов, вдруг такой же бледный, как она. Оба смотрели друг другу в глаза, как смотреть могут только враги, встретясь на узкой тропе над смертельной бездной.
– Любя вас, я поняла, что вы хотите смерти моей сестры. – Гуль шевелила губами почти беззвучно, но Багрецов ее понял. – Я это сделала, не отдавая себе отчета, смутно желая соединиться с вами хоть в преступлении. Ведь я была уверена, что только закончу дело, начатое вами. А раз вы так сделали – значит, так можно…
Через много лет я узнала, что и тут ошибалась. Ничего вы не сделали – убийца я одна. В вашем флаконе Борджиа был не яд.
Багрецов привстал. Опять сел. Взял Гуль за обе руки и выговорил тем легким, нежным, окончательным словом, каким говорит человек, обрекая на гибель другого или идя на нее сам:
– Вы мне можете доказать?
– Уже взрослая я была у врача, он и сейчас жив, в Москве, можете проверить, и флакон взят им в коллекцию, на память. Я ему все как на духу. Этот врач – Оттон Иванович Рузберг. Я у него упала в обморок, потом сильно плакала. Он старый и добрый. Я ему, как отцу, про любовь свою, про подозрение вас в убийстве… Флакон отдала на анализ…
Рузберг очень смеялся и, помню, сказал: «Хорошо, если бы все убийцы столь весело убивали. О, я фарс люблю больше трагедии, это, говорит, полезнее пищеварению…»
– Что дал анализ? – оборвал Багрецов.
– Анализ? Я хотела мстить вам, и я берегла это мое последнее оружие. Но больше я не могу… Вы невинны! В флаконе Борджиа был не яд, а сложное старинное слабительное…
Гуль осеклась и в испуге кинулась к Багрецову. Багрецов на короткий миг остолбенел, потом, откинув голову, стал хохотать. Неслышно, как в припадке, трясся всем телом. Превозмог себя, выговорил:
– Так вместо яду нечто послабляющее, этакий старинный compositum, ха-ха-ха!
Проходившим мальчишкам понравился этот смех, и они тотчас в тон подхватили «ха-ха!» и, пока бежали вниз по дорожке, усилили звук до рева. Гуль стояла над Багрецовым, не смея коснуться его, чутьем любви ужасаясь, что случилось непоправимое, и сказанное ею для Багрецова – смертельный удар.
Багрецов совладал с собой, перестал смеяться и, не глядя на Гуль, брезгливо сказал:
– Если вы знали, что преступника нет, то для какой цели затеян был ваш маскарад с «флаконом»?
– Были минуты, я верила: злой замысел у вас был… тайна флакона мне неизвестна… вы могли быть обмануты сами и, всыпая порошок, думать, что это яд, значит, не убили только случайно. Как ни владеете вы собой, внезапное напоминание могло обличить. Я так хотела власти над вами. Простите, простите меня, я больше не хочу, не могу считать вас преступным, я одна… Не убийца вы!
– Па-корнейше благодарю!
Приподняв шляпу, Багрецов церемонно поклонился и, словно выжидая похоронную процессию, задержал над головой шляпу.
– Вы меня презираете? – с отчаянием прошептала Гуль.
Багрецов на нее и не глянул. Сидел на скамье, прямой, даже не перевел тяжелого взора с листьев все той же пышной агавы, куда случайно попали его глаза.
Гуль встала, задержалась на миг в какой-то надежде, потом медленно пошла вниз по желтой песочной дорожке.
Багрецов долго еще сидел на скамье, потом встал, пошел за город, по старой Аппиевой дороге.
Уже далеко за его спиной круглел мавзолей Цецилии Метеллы, и на золотистом трепетном небе, как парящие гигантские птицы, чернели зонтики пиний. Кругом безлюдье, изредка торопился запоздавший из окрестности римлянин с женой или погонщик с ослами.
Наконец Багрецов остановился. Обвел глазами без границ уходящую в небо Кампанью, глубоко вдохнул воздух ее, пьянящий и малярийный, и опять расхохотался, как давеча:
– Шут гороховый – отравитель!
Он был безумен от бешенства. Выходило, что жизнь его вся зачеркивалась. История с женой, преступление и следствие его, – не похожая на других «стальная жизнь», презиравшая жалкие будни, – все маскарад. А тот гранитный упор, который дал возможность выпрыгнуть из жизни каждого дня, пресловутый «флакон Борджиа», – не что иное, как старинный пюргатив.
Багрецов прислонился к большому кипарису, чтобы не упасть. Вдруг поздняя, острая ненависть к отцу налила его, как отрава. Да, конечно, чудовищный эгоизм старика сожрал его… Эти ночи с хождением до восхода по зеркальному паркету, эти призраки прошлого, бессонница, и вино, и чудовищная отрава безграничностью воображаемой жизни… Фантазия заслонила действительность до того, что в жизни он в ней оказался глупее всех глупых. Не убийца, а гороховый шут! Старинный compositum! Xa-xa!
– A у кого не так? – прервал сам себя Багрецов с яростью хищного зверя, затравленного сотнею мосек. – Моя биография смехотворна? А у кого доблестна? Что у важнейших? что у отмеченных?
Гоголь обстоятельство личное, невозможность влюбиться в женщину, как это может всякий болван, облек в состояние сознания, подобное столпникам. Отсюда заключил о себе как о «сосуде избранном» и, чтобы не угодить в Содом, метит в святцы.
Умный Паскаль знал, что сказал: «Будь у египетской Клеопатры кончик носа чуть-чуть длинней – картина мировой истории была б вся иная».
Моя биография смехотворна? А синьор Алессандро хорош? Вместо «чуда» – чудовище-холст! Под славянофильской лампадой тихо сходит с ума, бормоча: «Самоотвержение вполне дано только русским». Да-с. Жизнь каждого дня от умников защищается. Изловчится камешком и отметит умника в дураки. Всем, всем флакон Борджиа – пюргатив.
От яркой злости боль отпустила, и холодно, как на счетах приходо-расход, Багрецов досмотрел свой бюджет.
Любовь к Бенедетте? Зависть была – не любовь. Зависть и алчность мертвого поглотить живое, чтобы жить. Никакой любви не было. До итальянских делишек – как до прошлогоднего снега. Почему не турецкие, где еще глупей жизнь, наконец не свои русские, уж чего, кажется, ближе?!
…Я мало жил, и жил в плену.
Багрецов плюнул на изумрудную пробегавшую ящерицу и попал. Ящерица присела на миг всеми четырьмя лапками к желтому песку и вдруг, как стрела, прозмеила под камень.
Придя домой, Багрецов позвал старика maestro di casa и спросил его, нет ли верной оказии в Неаполь.
– Если синьор желает передать синьоре Бенедетте что-либо, то есть как раз парень из ихних «Giovine Italia». Он едет в полдень.
– Вы угадали, maestro, придите через час за посылкой.
Багрецов написал Бенедетте, что она его может считать негодяем, но ее он никогда не любил, потому что, вообще говоря, любить не может. Гореть отраженным патриотизмом для него а́ la longue[22]22
Длительно (франц.).
[Закрыть] слишком глупо, но на дело Италии он искренне посылает деньги и не менее искренне желает Бенедетте успеха и счастья, которых она несомненно достойна.
Когда письмо было запечатано, пред Багрецовым на миг ярко встало слепительное прекрасное лицо… лицо богини. И хотя, как в ту ночь, он знал и сейчас, после ядовитой проверки: нет, не подделка – глубина этого не заслуженного им чувства, вошедшему старику-итальянцу Багрецов все-таки дал свое письмо к Бенедетте.
– А вот и деньги: я уверен, что ваш выбор себя оправдает!
Maestro di casa поклонился.
– Еще бы, ведь это деньги на дело Италии!
Но дойдя до дверей, он по-старчески подозрительно глянул, насупя мохнатые брови, и сказал:
– А в письме вашем не будет ли синьоре Бенедетте огорчения? Синьор, быть может, не знает, как подобную девушку обидеть легко?
Багрецов упрямо молчал, пока старик не убрался. Была минута вернуть, взять письмо… и кто знает, не проворчи итальянец своего назидания, быть может, он бы и вернул.
– Если все случай, то пусть же и тут, – злобно шептал Багрецов. – Но вдруг Бенедетта не вынесет? Пусто… Женщину, ушедшую в политику, стрелы Амура не ранят смертельно. А если иначе? Ну что же, с фортуны взят будет ловко реванш… за «флакон Борджиа» – пюргатив!
Глава XI
Кратер Сольфатаро
Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?
Гоголь
После бессонной ночи Багрецов целый день прошатался по Риму без цели и впечатлений, как автомат, заведенный кем-то на бессмысленный бег. Добравшись в сумерки до терм Каракаллы, он свалился на камни и заснул как убитый. Когда он очнулся, была уже ночь. Древние своды казались еще громаднее. Где-то в глубине кричали совы. Старая, – верно, высланная на разведки, – деловито и тяжко пронеслась над его головой. Багрецов шевельнулся, чтобы встать, но, услышав в камнях разговор, притаился: голос ему был знаком. Багрецов плотнее закутался в плащ и стал ждать, когда месяц выглянет из-за тучи и осветит говоривших. В ясной зеленой луне он узнал одного, только не смог припомнить, где видал это лицо молодого римлянина с твердым подбородком и орлиным носом. Быть может, просто на музейных бюстах, и доселе хранящих всё те же черты.
Другого разговаривавшего не было видно, но его манера говорить показалась так необычна Багрецову, что он тут же решил: это человек необыкновенный, притом русский и, наверно, приезжий. Все здешние русские давно примелькались.
– Признаюсь, не понимаю вашего восхищения перед «мощью» римлян, – с иронией подчеркнул итальянец, – уже одна мысль, что без рабов им бы ни за что не построить подобных дворцов…
Русский не дал окончить:
– Рабы были и не у одних только римлян. Как это ни кошмарно, рабы и сейчас есть у нас, в девятнадцатом столетии, но что-то о великолепии построек не слышно. Но здесь, в Риме, каждая арка, каждая колонна говорят о шири, о силе, о стремительном беге…
– Да что за польза во всей этой красоте? – вступил итальянец.
– Вам ли, итальянцу, такое говорить? – И, захлебываясь от обилия мыслей, русский забросал его жаркой речью: – Вся поэзия жизни состоит из ненужностей! Рафаэль рисовал ненужные картины, Микеланджело делал каменные куклы, Данте писал вирши вместо того, чтобы делать дело, однако выбросить их из истории человечества – это отнять у неба глубину, у цветов аромат, это выхолостить, оскопить жизнь, это…
Теперь прервал итальянец, и по горячему звуку его голоса было заметно, как он вспылил:
– Мы – нео-либералы, как вам угодно было нас окрестить, жестокие утилитаристы, и если, как в сказке, мне бы одним росчерком пера предложено было снести все галереи и дворцы к черту, а взамен их дать Италии отличное войско, неужто, вы думаете, я бы дрогнул?
Багрецову понравился разговор, и он двинулся с камней, чтобы подсесть ближе.
– Кто там? – крикнул юноша.
– Извините, за темнотою не могу как следует отрекомендоваться, – сказал Багрецов, – но я человек мирный и преданный искусствам. Разрешите вставить слово в ваш разговор, меня заинтересовавший. Вы только что защищали право на существование искусства; не ответите ли мне на один вопрос? Предполагаю в вас русского, – сказал Багрецов, посылая слова вверх, под своды развалин.
– За границей русских угадывают главным образом по обжорству, – и слыхать было по голосу, что говоривший усмехнулся, – и мне лестно попасть в исключение; я вас слушаю.
– Я бы хотел знать ваше мнение о том, почему искусство не нуждалось в защите только во времена языческие? От христиан, равно как и от революционеров, его, сколь ни защищай, ничем не оправдаешь. И не только перед профанами, а перед своими ж художниками. Мне их здешний быт очень знаком. Вы не поверите, какой мартиролог жизнь тех, что предались искусству до самозабвения. Да вот недалеко ходить – Иванов…
– Иванов Александр Андреич? Как, вы его знаете? Сама судьба привела вас в ночное время сюда. Простите меня, на заданный вами вопрос об искусстве я готов отвечать курсом лекций, но сейчас мне важно другое. Я должен торопиться, меня давно дома ждут, – и незнакомец, под стремительным шагом обрушивая мелкие камни, стал спускаться к Багрецову, продолжая говорить на ходу: – Иванова я просто жажду увидеть, но, признаюсь, оттягиваю со дня на день, удрученный слухами о его ненормальности в связи с неудачей картины. Говорят – влияние худосочной школы назарейцев с Овербеком во главе да впридачу биготство Гоголя совсем его свели с ума.
– Слухи преувеличены, и сплетни злы, как все, что говорят про жизнь великого человека, – с раздражением ответил Багрецов. – Определение же картины неудачной раньше, чем она закончена и выставлена, – просто недопустимо…
Волнуясь, Багрецов встал и пытался разглядеть говорившего. Русский оказался невысокого роста, плотный. Походка была у него быстрая, как и речь, так что, когда все трое пошли по залитым луной узким улицам, спутники от него слегка отставали, и, говоря, ему приходилось поворачивать назад голову. Освещенная огнем папиросы, ярко выступала его крутая бровь и прекрасный, как у больших музыкантов, выпуклый вдохновенный лоб.
И Багрецову стало неприятно, когда этот пленительный незнакомец грубовато сказал:
– Согласитесь, это все же известная бедность и пассивность творчества – писать тридцать лет одно и то же. И где, где? Среди Рафаэлей, Тинторетто и Тицианов, давших сотни вещей, из которых каждая – первоклассная…
– С картиной у Иванова связалось собственное душевное дело художника… Кроме того, нельзя судить его работу по одной вещи, надо видеть все, что вокруг нее наросло, – весь самобытный новый мир. Несчетные этюды и композиции. Все вместе – это явление, это будущность целой школы. Впрочем, защищать голословно считаю бессмысленным, а к себе в мастерскую Иванов сейчас никого не пускает; так что до поры вы должны остаться с непроверенным слухом.
– А самого его можно видеть?
– Да хоть завтра у Фальконе; я его к вам подведу, если сам вас узнаю. При сегодняшнем освещении ведь я видал вас лишь по частям, под огнем папиросы.
Засмеялись. Русский назвал себя: Герцен.
– Ну, конечно! – вскричал Багрецов. – И как мог я вас тотчас не признать!
О втором спутнике, молодом римлянине, Багрецов совершенно забыл, но когда назвал себя в ответ Герцену, римлянин дотронулся до него и странно дрогнувшим голосом спросил:
– Так вы тот русский… знакомый синьоры Бенедетты?
– Да, я ее знаю, – ответил холодно Багрецов и почему-то, лишь крепко пожимая руку одному Герцену, вымолвил: – Итак, до завтра у Фальконе.
Вопрос итальянца о Бенедетте неприятно взволновал Багрецова. Он вдруг вспомнил, что видел его не однажды в обществе Доменико, и всегда пристальный взгляд его испытующих глаз был ему необычайно тяжел.
«Он не верит вам, иностранцам, этот Беппо Марио, – объяснила как-то Бенедетта, – он говорит, что даже для Байрона было дорого не освобождение Греции, а лишь щекотание собственных нервов. И все же сердиться на него не следует! Беппо – узкий человек, но героизму его нет предела, он пойдет в огонь первым…»
Страшная тоска вдруг охватила Багрецова. Впервые он понял, что совершил, разорвав так жестоко свой союз с Бенедеттой. До сих пор у него было чувство, что он своим письмом убил только свою же мечту, обобрал только себя. Вдруг сейчас, едва этот итальянец помянул Бенедетту, Багрецов понял, что удар был нанесен и другому человеку, не выдуманному, такой живой и близкой, ей – Бенедетте.
Боясь своих терзаний, новой бессонной ночи, только на рассвете Багрецов подходил к своему дому. Maestro di casa стоял у ворот, как бы его поджидая. Он так осунулся, так взъерошены были его седые усы, что невольно Багрецов спросил:
– Что случилось?
– Синьора Бенедетта с корабля бросилась в море и утонула, – отрезал было маэстро жестоко, как заготовленный в гневе удар, но тут же все лицо его перекосилось, дрогнуло, слезы хлынули из глаз на страшные седые усы. Он махнул рукой и пошел к себе.
– Вы должны, я умоляю… скажите все, что вы знаете… – Помертвелый Багрецов кинулся ему вслед. Он дрожащими руками хватался за старика.
– Я знаю то, что синьор немедленно должен уехать из Рима, к себе на родину, – ответил тот. – Люди из «Giovine Italia» поклялись убить вас. Они будут тянуть жребий, кому…
– За что?
– Как за что? – повторил старик и вдруг побагровел, налился гневом и, сверкнув, как старый боец, своими недавно плакавшими глазами, вскричал: – Да за то же, за что я готов задушить, как собак, всех до последнего папских приспешников. За погубленную юную жизнь.
– Маэстро, вы говорите о том, что вы не знаете. Я Бенедетту ни в чем не обманывал. Я хотел ей только счастья, которого со мною, немолодым и больным, она получить не могла.
– А если все-таки она его хотела только с вами одним! Простите, синьор, я вас знаю давно за порядочного человека, – смягчился старик. – Но видите ли, письмо ваше, где вы пишите, что не любите Бенедетту (и как это можно было не любить такую красоту!), совпало с известием, что поймали в Калабрийских горах ее брата Доменико и губернатор Ланди его расстрелял…
И, конечно, приди ваше письмо в другое время, у такой твердой девушки, как Бенедетта, оно, самое большее, могло б вызвать две-три бессонные ночи и никем не подсмотренные слезы. Но ваше письмо – будь оно проклято! – совпало с известием о гибели ее брата. Когда судьба хочет, злые вести, как вороны, летят тучей; кроме всего, в эти зловещие дни бедняжку сразило нечто ужаснейшее, чем измена в любви, – измена товарищей! Предатель, раскрывший заговор против Ланди, был не один. Проклятие малодушию, которое бьет верность насмерть! Ваша жестокая рука нанесла лишь последний удар. Но это был, синьор, добивающий удар Брута.
Как истый римлянин, на всякий случай жизни вызывая в крови историю вечного города, maestro di casa, несмотря на свое несомненное глубокое горе, развел руки, как если бы на нем была древняя тора, и, страшно хмуря мохнатые брови, бросил Багрецову:
– Et tu Brute! Et tu Brute!
Но тут же, скользнув заметливым глазом по отчаянному лицу его, maestro смягчился и, уже дружески соболезнуя, сказал:
– Бедняжка была уже на пароходе «Il giglio delle onde», да, да, «Лилия волн», когда пришли все эти дурные вести. На воде борцы «Юной Италии» развязали свои языки… о том не подумали, что вода под самым бортом; одна проклятая минута – и человек в воде! Так наша бедняжка и сделала. Тело вытащили. Записка ваша была при ней. Эти молодые из «Юной Италии» все были страстно в нее влюблены, особенно Беппо Марио. Говорят, он еще не знает, что вы здесь замешаны, а когда узнает, то вас убьет безо всякого жребия сам.
– Беппо Марио – так вот кто он! – И пред Багрецовым встал римский профиль недавнего ночного знакомца. – Отчего же он не убил в ту ночь? Так было удобно. Или еще не знал? – И Багрецов едва слушал, что говорил ему в возбуждении старик.
– Хотя вы не итальянский дворянин, которых революционеры ненавидят, вы, синьор, все же богатый русский форестьере, подданный страны, которая поддерживает Австрию против Италии; значит, всячески вы попадаете под приговор «молодых». Синьор, я от вас зла не видел и охотно допускаю, что гибель бедной девушки просто несчастье, но и помимо этого за смерть брата и сестры – красы тайного общества – нужна кровавая месть. Бегите, синьор, бегите.
Багрецов холодно поблагодарил maestro di casa, сказав, что смерти он не боится, и заперся на ключ в своей комнате. Однако Иордану он не забыл послать записку, прося его устроить на завтра свидание Герцена с Ивановым, чего он сам по болезни сделать не в состоянии.
Через несколько дней Багрецов все же поехал в Неаполь. Он бежал от самого себя, бежал от безумия.
Ведь Неаполь был последний город, где жила Бенедетта, а он в нее сейчас был влюблен, как никогда. Да, едва узнав о ее смерти, он стал испытывать, нежданно для себя, все муки смертельно раненного любовью. Больше того: он понял вдруг то, чего глупей для него до сих пор не было, – возможность самоубийства от любви. И в то же время он ярко знал, что эти чувства – мираж, что будь Бенедетта жива, и десятой доли их бы в нем не было.
В Неаполе он долго не мог ничего узнать. Корабль с раздражавшей его сентиментальной кличкой – «Лилия волн» – «Il giglio delle onde» снялся с якоря и ушел неизвестно куда. Багрецов спрашивал у матросов, у полиции и просто у встречных, что знают они о причинах самоубийства девушки с этого корабля. Все пожимали плечами, косились недоверчиво, отвечали вопросами:
– А кто же их знает, отчего девушки кидаются в воду?
Багрецов ходил по берегу залива и молил, сам не зная кого, чтобы известие о смерти Бенедетты оказалось ложью. Он впал в отчаяние, он рыдал, как ребенок. О, если бы Бенедетта была жива, он не колеблясь уехал бы с ней на край света или отдал бы все состояние, всю жизнь за свободу Италии. Он бы даже стал жить на этом дурацком корабле «Лилия волн».
Багрецов ходил вдоль залива, вперял глаза то в неподвижный «Castelovo», то в раздраженный, дышащий огненной лавой и черным дымом Везувий. Он хотел чуда.
А вокруг жизнь шла день за днем, как и раньше. У зеленого моря стояли лари – вроде как на родине, на южных базарах, только вместо сала старый pescatore[23]23
Рыбак (итал.).
[Закрыть] отхватывал покупателю кусок розового, ноздреватого спрута или вертел перед носом огромной камбалой с прищуренными в улыбке глазами.
Торговки зеленью, цветами и кораллами стучали голосами, как вороны клювами. На балконах предместья сохли яркие тряпки. То тут, то там из-под древних арок сверкал мрамор площади, на белоснежных плитах, залитых солнцем, как красные угли, брызгали во все стороны помидоры из опрокинутых в драке корзин. Багрецов пошел дальше за город, за горбатый мост, где далеко, заступая дорогу, выползали древние дома. Окна, натыканные как попало в стенах, разноцветные, в узорах, в подтеках, – ни дать ни взять одеяла из кусочков, какие, бывало, мастерила старая няня.
За гротом, где так особенно звонки все звуки, мимо могилы Вергилия, Багрецов прошел по узкой дорожке в густую рощу каштанов и дикой орешины. В изумрудных травах торчмя стояли розоватые и мясистые колокольчики.
Багрецов сорвал один и, понюхав, бросил с отвращением. От цветка несло тяжким запахом тлена.
Долго шел Багрецов, оглянулся – кругом ни души. Тогда он лег на прогретую солнцем землю, раскинул руки и стал смотреть в синее без облачка небо, в дрожащую серебристую дымку, стоявшую над травой, стараясь всем своим телом чувствовать одну только землю. Без мысли, без воли…
В его мрачной юности это бывал его лучший отдых. Он сливался сознанием с жизнью земли, он знал, лежа так на траве, о том, как живет все кругом, с каким трудом пробиваются из земли разные злаки, как идет бархатный крот по своим коридорам, как тяжко держать тонкому стеблю свою грузную чашу большого цветка…
Солнце вдруг село, и сразу стало смеркаться. Багрецов встал и пошел по тропинке. Нежданно она оборвалась, и вместо сочной зелени засветил вдруг совсем лысый огромнейший круг желто-бурого цвета. Он изборожден был глубокими морщинами. Это был потухший кратер вулкана Сольфатаро.
Обнаженный кусок был живой. Под ним рокотало, вздувало то тут, то там почву. Земля трескалась, и из трещин кто-то тяжко и часто вздыхал серным дымом.
Forum romanum древних, вспомнил Багрецов, – ныне вульгарнейшее место добычи серы. Он остановился и стал смотреть, как дым, выталкиваемый из трещин, серо-желтыми клубами свивался в лиловатом воздухе, и над потухшим кратером стоял невыразимой нежности живой трепет.
На минуту Багрецов забылся. Ему показалось: он подсмотрел тайную жизнь земли до зарождения на ней формы и образа. Освещения не было никакого, границы терялись, и время выпало из сознания. Где он? Когда вышел и зачем? Он не ел с утра; от голода и слегка удушливых серных паров закружилась голова, назойливо встал тяжкий запах цветка орхидеи, и хотелось опять лечь на землю – не быть.
Вдруг на той же тропинке, которая привела к кратеру Багрецова, появился некто, сутулый, приземистый, руки в карманы. Камнем продвинулся он, будто проплыл, до половины одетый густыми парами, к тому краю, где был Багрецов. Человек поклонился, снял шляпу. Врезался в лиловый сумрак остро вытянутый профиль, стеной свисли ото лба к подбородку длинные волосы…
– Гоголь, – себе не веря, прошептал Багрецов. Но тотчас крепкая память ему вызвала желтую маску – лицо Пашки-химика там, в мастерской у Иванова, и скрипучий голос его:
«Дано разрешение чиновнику восьмого класса Н. Гоголю на путешествие к святым местам из Неаполя…»
Чуда не было никакого, все естественно до тошноты.
Подойдя, Гоголь сказал Багрецову:
– Я давненько выискиваю, как с вами бы мне побеседовать, едва мне донес Пашка-химик, что вы здесь, – он как всегда ведь все знает… И вот сегодня издали по спине вас узнал. Как ни торопился, никак не догнать, шибко бежали. Однако судьба все же свела. Вздумалось прокатиться в Сольфатаро, вот только что из виттурина вылез, прошелся сюда – гляжу, вы. Вдруг и решил: хоть прогоните, а уж я попытаюсь… Должок у меня перед вами, с тех пор… С тех именин самых на Девичьем поле…
– Хотите покрыть, отправляясь в святые места, – усмехнулся Багрецов, – чтобы ангелы вам в приход записали? Что же до меня – то с вашей мне помощью вы опоздали. Тогда, тогда надо было.
– Поговорим, брат мой, как пред смертью, без малодушных упреков… – Гоголь вздохнул. – Разве знаем мы, где и что мы найдем?
– Коль хотите, можно и поговорить, – сказал Багрецов, – только выйдем из этого смрада на свежий воздух.
Молча оба прошли по тропинке. Гоголь – руки в карманы, сутулясь и тяжко напирая на шаг, Багрецов высокий, все еще не начавший полнеть, гибкий, как юноша. В каштановом лесе сдвинулись рядом.
– Раз вы меня вызвали на разговор, уж не пеняйте за грубость, правда всегда груба, – Багрецов пустыми, тяжелыми глазами обмерил Гоголя, – к тому же все сроки прошли, когда я с трепетом хотел видеть вас. Сейчас мне все равно – одно любопытство ума.
– Со смирением принимаю, – склонился Гоголь.
Багрецов прищурил глаз, как на мушку для выстрела.
– Сперва послушайте, может, и принять не под силу. Да поднимите глаза, – почти крикнул он, – с безглазым я и говорить не хочу!
И вдруг Гоголь устремил на Багрецова взор, такой, какого тот никогда у него не видал. Не сверло прозорливца, не мощь гения – глаза женщины – матери, без конца доброй и бережной.
«Так, верно, смотрел он на Иосифа Вьельгорского, так смотрит на свою духовную дочь, молодую Балабину, – подумал Багрецов, – тоже практика…» – и грубее, чем желал, он промолвил:
– Не верю я в ваше смирение, ни в то, что вы верите в бога. И на кой черт и кому это надо? Смех Вольтера взорвал больше, нежели слезы Руссо, слышите? Что вы дадите лучшее, чем дали уже? И какая гордость и пошлость «пророка» заставила вас мудрить над своим гением? Почему не продолжаете вы, как начали? Мало вам оплеухи Белинского за «Переписку»? Мало вам глумления и гнева всех тех, кто вас так почитал?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































