Текст книги "Ворон"
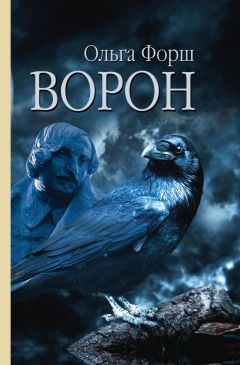
Автор книги: Ольга Форш
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Багрецов узнал юношу. Это был тот, кто ходил с Бенедеттой, кого он встретил в термах Каракаллы, тот, который любил ее и за нее клялся отомстить, – это был Беппо Марио.
Внезапно Колизей загудел от рукоплесканий. Посреди, на арене, стоял Чичероваккио с своим подростком-сыном. Сняв шляпу, он низко кланялся на все стороны и говорил:
– Римляне, если я точно нужнее вам здесь, чем в Ломбардии, то взамен себя отдаю вам кровь мою – сына моего, в ряды первых бойцов!
– Evviva Чичероваккио! – ревел Колизей.
Багрецов подписал свою фамилию, выложил все деньги, какие были, на стол пожертвований на поход и приколол себе трехцветную кокарду.
С зажженными факелами пошли ополченцы за отцом Гавацци. Наутро им надо было выступать в поход. Багрецов, все в том же окрыляющем восторге легчайшей юности, подходил к своему дому. Вдруг кто-то, пробежав было мимо, внезапно обернулся, занес руку с сверкнувшим тускло кинжалом и с возгласом: «За Бенедетту!» – ударил его в грудь.
Несмотря на слабый свет от проносимых мимо факелов, Багрецов, падая, успел узнать своего врага – это был он, высокий, с вдохновенным лицом Антиноя, записавшийся первым в ломбардский поход, – Беппо Марио.
Уже на другой день после несчастья с Багрецовым у постели его неотлучно сидела Гуль. Полина Карагина узнала обо всем от maestro di casa, нередко приносившего ей записки от Багрецова; она привела врачей. Положение было признано тяжелым, но не без надежды. А едва Багрецов встал на ноги благодаря неусыпному уходу Гуль, врачи настояли, чтобы он уехал из Рима.
Воля Багрецова сломалась. Итальянские дела его уж не занимали. Юношеский восторг и недавний подъем не возвращались. Больше того, они сейчас казались ему, при воскресшем во всю силу привычном скепсисе, – добровольно на себя принятой и по прихоти разыгранной ролью.
Багрецов принимал как привычные и уже необходимые для каждого дня – любовь и заботы Гуль. Объяснений не было, но они уже знали, что больше не расстанутся. Только однажды Багрецов с слабой улыбкой ей сказал:
– Помните – вы всегда и совершенно свободны уйти, если встретите что-либо лучшее.
Новое и особенно тяжкое для Гуль было то, что Багрецов выпивал. Никогда не пил допьяна, но всегда был нетрезв и угрюм. Одна надежда была, что возврат в Россию его изменит. Охватят на родине интересы, жажда дела…
Молчали оба много. Об итальянских делах Багрецов не спрашивал. Перечтя старые газеты и расспросив, что произошло за время его болезни, он понял, что освобождение Италии надолго потеряно.
Наконец он решил ехать в Россию вместе с знакомыми художниками, которые выезжали по требованию правительства или вследствие прекращения им казенной пенсии. Только Александр Иванов с братом оставались в Риме. Недавно умер их отец и оставил обоим небольшое состояние. Хотя Александр Андреевич свою большую картину навсегда бросил неоконченной, уединенная жизнь в любимом Риме была необходима ему для новой заветной работы, для «Храма человечества». С Багрецовым он простился душевно, до новой встречи в Петербурге, куда в конце концов должен был привезти свое «Явление Мессии».
Глава XIII
Убийство «Мертвых душ»
Дня за два, за три до сожжения рукописи Гоголь поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел к ним, воротился, долго ходил взад и вперед, долго оставался в поле на ветру, в снегу…
Записки д-ра Тарасникова
Багрецов два года прожил в деревне, в Хотынове, у той сестры Анны, дьяконицы, вступаясь за мужа которой, он когда-то кинулся с ножом на отца. Анна была уже во втором браке и многодетна. Глеб Иванович выкупил у нее хотыновских мужиков, помог им наладить хозяйство и, разругавшись с сестрой за вновь накупленных ею людей, уехал с Гуль навсегда в Москву.
Стоял 1852 год, когда Глеб Иванович вселился в свой особняк на окраине города против больницы умалишенных.
Та жизнь вдвоем с Багрецовым, о которой Гуль когда-то мечтала, была ужасна. Она с каждым днем понимала все больше, что есть такая степень омертвелости, которую уже никакая любовь растопить не в силах.
И странно: не испытывая угрызений за свершенное преступление, Гуль свое страданье приняла безропотно, как справедливую кару за гибель сестры.
Что же до Багрецова, то его еще могла бы пробудить к жизни какая-нибудь крупная деятельность государственная, с сознанием большой власти и ответственности, но он все поприща прогулял за границей и сейчас был разбит, без желанья борьбы.
Ему предстояло то же, что отцу его: коротать жизнь среди обширной библиотеки, имея себя одного собеседником, да вот ее, Гуль, не подругу жизни – няньку. Как быть тут без коньяка?
Винить Багрецова Гуль ни в чем не могла. Сам он не раз говорил ей об ужасе, который ждет ее, но она не поверила.
Гуль чисто по-женски надломленность Багрецова всецело объясняла трагедией с Бенедеттой. Правда, роились смутные подозрения, что как-то ранила и глупая та история с «флаконом Борджиа» – тем именно, что в нем яду не оказалось. Но об этом Багрецов замолчал навсегда, а ей самой было не под силу разобраться. Она сделала одну попытку попять, но запуталась еще хуже. Не переставая считать оскорбительным свое былое подозрение Багрецова в убийстве, Гуль разыскала в Москве того доктора, который определил ей содержимое флакона. Да, доктор, ныне старик, был еще жив. Как же, он ее очень запомнил. Ведь она после его анализа, что яд – только слабительное, упала в обморок. Тогда же, не называя имени, она рассказала ему всю историю. Сейчас она была женой этого псевдоубийцы. Доктор опять так хорошо засмеялся, так рад был, что трагедия окончилась свадьбой, что просил непременно к нему приехать вдвоем.
Когда Гуль это предложение передала Багрецову, он непонятно оживился и, такой нелюдимый, сам стал настаивать на скорейшем визите.
При встрече сентиментальный доктор от чувств прослезился.
– По воле фортуны я был ваш первый сват! – сказал он Багрецову и налил всем в зеленые рюмки дорогого немецкого мозельвейна. Вдруг, приложив палец ко лбу, доктор слегка подпрыгнул: – О, в центре события должен стоять сам виновник.
Подойдя к стеклянному шкафу, осторожно открыл его ключиком, вытащил из гущи пузырьков странный, пузатый флакончик с надписью: «Флакон Борджиа» и поставил его с торжеством среди рюмок.
– Вы тогда у меня его бросили, – сказал он Гуль, – а я включил его в число моих реликвий, иначе говоря – «вещественных доказательств», спасенных моею рукой, – самоотравившихся. Ведь я, старый холостой врач, могу иметь свои сувениры.
Багрецов взял пузырек, пристально вперился в него.
– Да, тот самый, – сказал он. – И в нем, вы утверждаете, точно не было яду?
– О, только послабляющее, правда старинное, но легчайшее, безобиднейшее, – хохотал доктор.
Гуль помнила, как мрачен вдруг стал Багрецов, как, выйдя от доктора, не проронив ни слова, заперся у себя.
Вечером вышел. С непонятной ей грустью поглядев на нее, вымолвил:
– Есть еще время – уйди от меня! Тебя ждет жестокая жизнь.
И, заметив испуг в глазах Гуль, криво дернул ртом, улыбнулся.
– Не бойся, истязать и бить не буду. И сцен никаких. Но я погибший, я конченный человек, и вся любовь твоя как в пропасть. Пока ты сама не начнешь мерзнуть, я знаю, ты меня не поймешь. Но верь мне на слово: есть нечто неизмеримо худшее сцен, измен, побоев, ревности и всех атрибутов обыкновенного несчастного брака. Там все-таки жизнь – здесь безнадежное окоченение… Уйди от меня, Гуль!
Но она не ушла.
С Гоголем Багрецова все хотел опять свести Пашка-химик, но Багрецову охоты видеть Гоголя сейчас не было. Доходили вести, что воспрянул Гоголь духом, что вторая часть «Мертвых душ», наконец, приводится им к концу, остается переписать ее набело и сделать последние исправления, что одновременно работал он и над подготовкой к печати нового издания своих сочинений.
Багрецов холодно решил, что Гоголь укрепился от своей поездки к святым местам. Ну и на здоровье! Теперь речи его должны быть окончательно учительские. Багрецов где-то в глубине бережно хранил последнюю встречу на потухшем кратере Сольфатаро. Гоголь разбитый, и глаза его, бережные как у матери, и горькое признание его в том, что недавно зацветавшее слово сейчас ему «как колода», и вызванный образ глухого Бетховена – все это странно дало Багрецову силу пережить, не убить себя. Так ставит на ноги изнемогшего от горя благородный вид горя чужого, безмернейшего…
Но к Гоголю, благополучному, снова нашедшему «драгоценное слово» и вкус к работе, Багрецов был холодно доброжелателен, но чужд и для себя лично ничем не заинтересован.
Но все же, когда он увидал его на Никитском бульваре, узнал издали на скамье, то так сильно взволновался, что хотел было повернуться и убежать. Однако остался стоять, долго с биением сердца смотрел на него, им не замечаемый.
Был вечерний, тот ненарядный час, когда фонари еще не зажгли и на бульваре гуляющих мало. Шел до того обильный мелкий снег, так кружился он в легком ветре, что Багрецову показался снег оперным, вроде как тот, что в «Жизни за царя», пущенный с потолка, покрывает вмиг и Сусанина и поляков.
Темным монументом сидел на скамье Гоголь. Складки длинной шинели лубом спадали на землю, скрывая ноги. Из поднятого воротника далеко вперед выклюнуло носатое лицо. Глаза как уперлись, не двигались. И будто он весь не дышал.
Ударили ко всенощной. Гоголь не сразу услышал, а услыхав, без раскачки встал вдруг, как поднятый пружиной, и тяжко пошел. Смотрел прямо вперед. Поровнявшись с Багрецовым, его б не заметил, если б тот не ступил поперек:
– Николай Васильич… Я – Багрецов, видались последний раз в Сольфатаро…
– Как же, помню, – сказал Гоголь и, поеживаясь и знобясь, высунул правую руку из широкого рукава. – Помню. Пройдемте, мне нельзя опоздать…
– Как съездили? – спросил Багрецов, он не назвал – куда. Но хотя после Ерусалима Гоголь был и в Одессе, и в Калуге у Смирновой, и недавно в Оптиной пустыни, но ответил сразу на то именно, о чем спрашивал, даже не называя словами, Багрецов.
Есть отношения каждого дня и есть отношения внезапные, без наличности пресловутого «пуда соли» и долгого времени познать друг друга, но глубочайшие. Бывает: на полустанке войдет человек в вагон, где другой уже обселся, и обывательским враждебным оком встретит соседа. Но проговорят ночь, а примут друг друга уже навсегда, через годы, службу, семью. И даже в тот смертный час, когда производит каждый в своей жизни отбор, гляди, полновесным зерном лежит в сердце та встреча. В таких встречах люди не прячутся и не лгут.
Гоголь сказал:
– Я удостоился провесть у Гроба Господня целую ночь, но познал лишь одно – как окончательно велика черствость моего сердца. Удостоился приобщиться святых тайн, стоявших на гробе вместо алтаря, – но земное во мне не сгорело, а небесное в меня не вступило. Сонно и смутно было в душе. Где-то в Самарии сорвал цветок, в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции… Так-то. Да и блохи покусывали, прегустая там, знаете, кавалерия…
– А Оптина пустынь? – и опять Багрецов не объяснил, что это через него, через Гоголя самая последняя и ему надежда – Оптина.
Гоголь остановился, подозрительно впервые во все глаза глянул на Багрецова, и тот увидел, что не те у него глаза. Не как в погодинском саду, острые, вбиравшие подноготную, чтобы тут же сплюнуть, как шелуху; не играющие хмелем и жизнью, как тогда в Риме, когда подбивал нагрянуть на виллу Волконской «гуртом без никакого зова»… не те, незабвенные, в Сольфатаро, – глаза матери нежной и бережной. Сейчас глаза смотрели и, конечно, всё видели, но сами для зрителя были так: зрачок черный, больше обычного в сумерках, голубоватая радужная оболочка и белок. Глаз из любой анатомической книжки, не глаз Гоголя, просто «глаз человека».
И слова были раздельно, наизусть:
– А в Оптиной пустыни я вот что узнал: «демоны не суть видимые тела. Мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них помышления темные. Ибо, приняв сии помышления, мы принимаем самих демонов и явными их делаем в теле».
Но, сказав это и, как посторонний, выслушав собственный голос и лишь в следующее мгновение поняв сказанное, вдруг, весь дрогнув, Гоголь взял под руку Багрецова, пригнулся к уху его, зашептал:
– За монастырской оградой, там, где бегут уж поля, шел по канавке монах. Слепец с посохом, изможденный бдением… поровнявшись со мною и не зная, кто я, прозорливец сказал свои потрясающие, знаменательные слова. И пока я, сраженный, молчал, присовокупил и последнее: «О взыщи, сын мой, огненного духа! Будь в этом теле как те, кои уже без тела… взыщи!»
И, еще надвинувшись, почти коля Багрецова своим острым носом, чуть слышно Гоголь прошептал:
– Взыскал и сам взыскан, сам! По молитве моей вчера болеющей Екатерине Михайловне Хомяковой наступило чудесное улучшение. Да, по молитве моей. Я взыскал и сам взыскан!
Багрецов не помнил, как они простились и что еще было Гоголем сказано. В памяти осталось одно: раскрытая дверь храма, охваченная пламенем несметных свечей, кровавыми пятнами лампад, и – Гоголь, в темной шинели, отлитый из чугуна, с головой непокрытой, далеко выклюнув из воротника длинным носом.
Прошел месяц после этой встречи. Багрецов из дому никуда не ходил. Нравилось ему здесь за городом: безлюдье, безумие, в поле волчий вой.
В окна приземистого многоглазого дома неслись снеговые поля. За окнами крутила метель.
Багрецов давно молчал. Сидя в глубоком кресле, сперва курил длинную трубку, потом пил коньяк. Пред ним Пашка-химик – по римской кличке Шехеразада – докладывал.
Кроме них обоих, в доме не было никого. Жена уехала в Москву на блины, прислуга была отпущена на балаганы. Стоял последний день Масленой недели.
– Говоришь, оживился, узнав, что живу против лечебницы? И сказал, что зайдет, – Гоголь, Николай Васильич? Да не врешь ли?..
– Помилуйте-с, Глеб Иваныч, да какой еще разговор допустил. Плохо вы окружены, Николай Васильич, говорю, Аксаковы вас обнимают, Погодины обсчитывают, прочие сахарят да вареники ваши любимые лепят. Съездили б в зеркальце глянуть, к Глеб Иванычу, тряхнули бы римской стариной. Бывало, мы с вами на Via Felice часами-с… А живем мы в чистом поле, глаз стал острей да зорчей, обдуло, обветрило, просторы кругом да дом людей, сшедших с ума. И фрака, говорю, к нам не требуется. Засмеялся, представьте, сказал: «Доложи ему, я приду; когда дома?» Натурально, говорю, дома-то всегда-с. Ведь умный человек, говорю, превращает себя к концу дней в собственного собеседника, и тогда ему некуда уходить. Цель достигнута-с. Finis. А Гоголь, Глеб Иваныч, столь гневно: «Ты, несчастный, уверен, что иного финиса на земном поприще нет, как от себя и к себе же?»
Глеб Иванович, руки в карманах, грузно ходил от стены к стене. Остановился, налил коньяку себе, Шехеразаде. Пожевал тонкими, как у Вольтера, губами, сказал:
– Ну, а ты что? Да не слишком-то ври…
– Ничего я не вру, Глеб Иваныч, а извините, ответил Гоголю преневежливо. Но посудите сами, после римской свободы это житье монастырем, в руках четки, запостившийся вид… да мне как ладан на беса… а ему вынь да положь: от себя и к себе, так иного финиса умному нет. Есть и иной, говорю, есть, – к чертовой матери под соусом пикан-с.
– А он?
– А он, Глеб Иваныч, ка-ак качнется, словно проклюнуть безмерным своим клюзом и этаким шипом: «Не свои, не свои слова говоришь. У беса моего с-схимистил соус пикан. Что под сим мнишь?» А я, Глеб Иваныч, для легкости, с этакой хлестаковщинкой: мною под соус пикан, говорю, протчее тому подобное, никому не ведомое до конца-с: науку, добродетель, ре-ли-гию-с.
– Не тяни, – оборвал Багрецов.
– Вот тут, Глеб Иваныч, и случилось. Гоголь прикрыл глаза веками, побелел-с и этак ровно стрелой в меня: «Сгинь!» И поверите ли, пока не придвинулся я к дверям, все крестил: себя большим крестом, а меня как блошку, чрезвычайно мелко-с. Я полагаю, Глеб Иваныч, дабы выразить этим относительным масштабом свое презрение к бесам низшего калибра. Подумать только, Глеб Иваныч, и здесь табель о рангах. А в Риме-то и после виллы Волконской разговором со мною не брезговал… Еще в спину заклял-с: «Не смей приходить».
– Сам он сюда придет, не вытерпит, – сказал Багрецов.
– Едва ли, Глеб Иваныч, уж очень запуган-с. Когда отца Матфея нет, он за юбку старушки Шереметьевой держится. От Симеона столпника бежит к Савве освященному, всю обедню, пав ниц, горько плачет. Едва ли, Глеб Иваныч, он к вам, к этакому римскому другу… Однако в случае прибытия уж разрешите и мне присутствовать, почитатель ведь я.
– Что слыхал о нем в городе? От Семена? – прервал, не слушая, Багрецов.
– Чрезвычайно-с друзья озабочены. Представьте, и сейчас уж, на масленой, говеть вздумал. Как строжайший монах встречает преддверие поста. При всей известной его склонности к чревоугодию стал в пище урезан: сухую просфору вменил себе в объедение. А припомнить: остерию Лепре и Фальконэ.
– Да, – усмехнулся Багрецов, – бывало, загоняет сервиторов капризами.
– А Семен, Глеб Иваныч, как верный раб тоскует: «Еще, говорит, недельки две тому назад, если утренний кофий недостаточной крепости – беда: этакого выдаст словесного векселя. Ныне же за обедом едва примет несколько ложек овса на воде. Отговаривается, что от обильной пищи в нем кишки перекрутятся».
Глеб Иваныч ходил, не останавливался. Из двух зеркал на поворотах на один миг бросался в него высокий человек в сюртуке, но без галстука. Над сюртуком было бритое, одутлое, бледное лицо. Глеб Иваныч любил тщательно бриться.
Под Глебом Ивановичем поскрипывали половицы. Стены длинной комнаты, многоглазой от окон, всё светлели. Громадные хлопья взмывались вьюгой с сугробов снега, поднявшихся выше рам.
– Смерть Хомяковой, говорят, расстроила его больше, чем мужа и братьев. Читал по ней псалтырь в своей комнате. Не знаешь: был на выносе?
– Не был, Глеб Иваныч, у Аксаковых я узнал. Старик-то как есть пустынник и медведь, все с ним не в точку. При мне полез с расспросами: почему да отчего? А Гоголь с строгостью: «Екатерину Михайловну я и один так сумел помянуть, что такова ее благодарность… она всех близких привела пред меня». И вдруг сник, зашептал: «О, сколь страшна минута смерти». Семен поведал: с похорон Хомяковой решил Гоголь помереть-с. Одно твердит: когда-нибудь надо же. Так лучше сам приготовлюсь и помру. Еще Семен полагает, главное все расстройство от отца Матфея, что не так давно был из Ржева. Пугал Гоголя страшным судом, что-то требовал… Семену в щелку не слыхать было, что именно, только крик этот «страшно мне, страшно!»
– Больше нет ничего? – спросил Багрецов.
– Еще последнее, Глеб Иваныч, вчера утром. Сам я ведь крепко больной, сунулся было лекарства просить. У них там наши хохлацкие травы да мази. Семен вышел, не до меня ему. На самом лица нет. «Ночью барину голоса были: уверился он вконец в свой близкий час. Разбудил, погнал за священником – пособоровать. Однако, когда я привез, поспокойнее вышел, прощения просил. Отложили».
– А ведь ты, братец, и сам вправду болен, – рассмотрел вдруг Глеб Иванович гостя. – Никак, твоя желчь разлилась? Лицо будто желтая репа. Доктора надо бы… Ну, выпьем.
Бах… бахнуло в стены.
Хлопьями мокрого снега лепить стало окна. Будто великаны, промахнувшись в снежки, хватили с силою в стекло.
– Ишь, вьюга-то, Глеб Иваныч, смерчем по полю… А вот, бывало, Гоголь вьюгу умел заклинать-с. Наберется нас, украинцев, к нему в петербургской квартирке. Дрянь, мзга сыплется с неба, а он, чародей… ведь глаза отведет: «У нас-то на родине, скажет, скоро тополи ушпигуют весь Киев, на базарах вывалят бабы рядна абрикосов да вишенья. Ученый дрязг – и тот заснует по улицам. И всем в очи Днепр… Днепр – темный, синий…»
В дверь на парадном постучали, сначала робко, потом погромче.
– Что за черт стучит, – проворчал Багрецов, – звонок есть. Когда болен, ложись в диванную, Пашка, – крикнул он и, чего-то волнуясь, пошел к дверям.
Тотчас из зеркала метнулся навстречу ему высокий в сюртуке, но без галстука и проблеснул нетрезвыми глазами на бледном, иссиня-бритом лице.
В большой многоглазой комнате стояла голубоватая мгла, и нельзя было понять, откуда подобное, ни дневное, ни лунное освещение.
В холодную дверь по медной пластинке дробно и сухо лязгали, будто по одному ударяли связкой железных ключей.
Шехеразада, как неживой, замер на белом окне. Лысый череп на тонкой жилистой шее. Желтое, слоновой кости лицо. На нем высоко вздернутые навеки всосались две черные пиявки бровей.
Стук за дверью вдруг рраз… всеми ключами.
– Кто там? – громче, чем хотел, спросил Багрецов. Слабый голос сказал:
– Впустите… Я, Гоголь.
Багрецов поспешил открыть. Ветер хлынул из двери и ледяным поземком понесся по комнатам.
– Где ваша лошадь, Николай Васильич?
Багрецов протянул руки, чтобы снять с гостя шинель.
– Я так посижу, – сказал Гоголь, – я недолго.
– Да что вы? В карете? На вас снегу нет. А кучер?
– Там… – махнул Гоголь рукой. – Согревается…
– Пройдемте ж отсюда в диванную.
Гоголь снял только теплую шапку с наушниками и перчатки. Густые русые волосы, давно не стриженные, упали до плеч. Пробелел пробор. От пробора, как обычно, шел гладкий зачес на правое ухо. Шерстяной шарф, скрывая шею, охватил и подбородок. Нос, иссохший, еще подлинневший, будто из прозрачного алебастра, свисал над чуть видными усами.
Несмотря на мороз и вьюгу, одни скулы едва розовели, отчего казались накрашенными на неестественной для живого белизне лба и лица. Руки, тесно вдвинутые одна в другую в широких рукавах шинели, делали фигуру узкоплечей и необычной. И так же необычно, как изваяние слоновой кости, смотрелась в гостя желтая маска – лицо Шехеразады.
Встретясь с ним глазами, Гоголь дрогнул и надменно сказал Багрецову:
– Ну, зачем это здесь? Ну, зачем?
– Это – Пашка, Николай Васильич, вам знакомый Шехеразада из Рима. У него желчь проступила. Не беспокойтесь. Иди, ляг!
– Нет, уж по уговору, Глеб Иваныч, давеча вы разрешили присутствовать.
– Как? – вскрикнул Гоголь. – У вас с этаким был обо мне у-го-вор?
Он выпростал из рукава правую руку и крепким, как у скелета, пальцем перевел с Багрецова на Шехеразаду.
У Багрецова мелькнуло, что вот этими костяшками желтой руки он и стучал так снаружи в медную ручку дверей.
– Сядьте, Николай Васильич, вы чуть держитесь, да вот коньячку бы – согреться.
Багрецов подкатил Гоголю просторное кресло. Гоголь сел и слабо отмахнул рукой поднесенную рюмку, забиваясь вглубь кресла:
– С этаким уговор… обо мне!
Багрецов опрокидывал рюмку за рюмкой, стоя так, чтобы не видеть зеркала. Язык его чуть заплетался:
– Все окончательно просто, Николай Васильич, просто и понятно. Оный Шехеразада сказывал, что вы собираетесь в наши места, и, почитая вас безмерно, просил в этом случае быть. Вот и весь уговор.
– А что я желтолик, – вскричал Пашка, – так это от вашей обиды… Как же-с, Николай Васильич. Я заболел разлитием желчи, едва вы меня закрестили, как блошку-с, излишне мелким крестом-с.
Гоголь тесней жался к креслу, защищаясь как бы от нападения исхудалыми кистями рук.
– Издеваются. Над кем? Над писателем русским. – И, воззрившись испытующе в Багрецова, с трудом, но внятно сказал: – В «Брани невидимой» повествуется, что к неким, пронзенным гордыней, во услужение идут бесы, приняв образ раба эфиопа или иной необычайный для страны лик.
– Полноте, Николай Васильич, если я чем пронзаюсь, так одним коньячком, а Пашка тем менее бес… он просто некий… Пашка, ты некий, не оправдавший своих и общих надежд!
– Как многие, как оч-чень многие… – подскочил к Гоголю Пашка.
Словно тополь, прохваченный ветром, весь дрогнул Гоголь. На миг выбрался из шерстяных складок шарфа, обнаруживая обтянутую одной кожей предсмертную худобу лица. И вдруг… ударила тяжесть, сник вглубь до самого носа.
Багрецов еще выпил. Глянул в окно. Сейчас вьюга мелко кружила снежинки. Они в глазах прыгали искрами.
Багрецов перестал чувствовать стены. Но от коньяка ему было не холодно, и он не мог понять, снаружи ли он или в доме.
– Как это вы выбрались в вьюгу? – сказал он Гоголю.
– Это они к Корейше юродивому ездили, – хихикнул Пашка.
– Иван Яковлевич меня принять не изволил, – сказал с грустью Гоголь.
– Да не у Корейши ответ вам искать! – закричал Багрецов. – Он зря пряник даст, зря к черту пошлет, не он вам ответит…
– Тогда вы? – медленно, внятно, как часовой бой, сказал Гоголь. – Ах, ответьте! Ведь больше в поле нет никого. А голос был мне: в поле ответ. Отец Матвей приказал мне совсем не писать. Я спротивился. И вот… Дальше противиться нет сил: перо как колода. Мысли все вихрем. О, как же мне быть?
Багрецов покачался на ногах. Сказал:
– Если напишете вторую часть лучше первой… – я про «Мертвые души», – плюйте всем в бороду и печатайте. Но хуже, Николай Васильич, хуже – вам писать уж нельзя. Про второй том друзья растрезвонили. Второй том Россия вся ждет…
И как эхо – желтая маска:
– Ждет-подождет, ждет-подождет.
– Пошел под стол! – заревел Багрецов.
Шехеразада стал на четвереньки и, метя шелковым персидским халатом козер, пополз в дальний угол. Гоголь сжался в комок.
Багрецову на миг показалось, что Гоголя будто в креслах уже нет, а сгустилась в кучу одна лишь пустая шинель. Но, пригнувшись, он рассмотрел безмерный алебастровый нос и с удовольствием, что ясная, твердая мысль не уходит от него, продолжал:
– Хуже писать вам нельзя, чем писали, сами знаете… За обновлением сил не зря в Ерусалим съездили. Однако весьма могло выйти, что зря… Никак сами заверили, что желудок ваш встал кверх ногами, перо колодой, мысли вихрем. Ведь заверяли?
Гоголь приподнялся. То возникая, то опадая в шинели, он безмолвно стискивал руки.
– Мне жаль вас, – сказал Багрецов, – и вот слушайте: я предлагаю…
– Гау-гау…
Это в углу Шехеразада собачкой, халатом укутав голову.
Багрецов опять:
– Николай Васильич, я вам предлагаю все ваши писания сжечь.
– Мне, сжечь? – Гоголь вцепился в шинель, где под ней билось сердце.
– Все сжечь, – пролаяло из угла.
– Натурально, – качнулся Багрецов, – жечь, так уж все. Да ведь лучшее вами читано: Шевыреву, Смирновой. И одобрено. И известно… хе-хе.
– Кхе, – чихнули в углу.
– Это прямой вам расчет, Николай Васильич, чисто все сжечь. Задним числом, что не читано, пуще расхвалят. А учителей-то словесности, пачкунов, изыскателей – вот обложете! Века спорить будут. Века… ах-ха…
– …ха…
В углу трепыхался персидский халат без конца и начала.
– Ах-ха-ха…
Забился в хохоте Гоголь, клюя носом над чуть видными в шарфе усами.
Метель рвала, ухала. Метель хотела скрутить в смерч этот дом.
Хлопал слетевший ставень, и по крыше топали то босые, то медные ноги. Завыл пес.
Гоголь вырос и, пятясь к дверям, как посыпают из щепотки табак, закрестил вокруг мелким крестом:
– Сгиньте…
У входа он высунул из шинели сухую, голую до локтя руку.
– Открой! – приказал Багрецову так властно, что тот, хотя пьяный, не посмел ослушаться, снял крюк, щелкнул ключ.
Гоголь исчез.
– Да как же я выпустил? Да он без лошади…
Багрецов схватился за голову и осел прямо на пол рядом с персидским халатом.
– Вставай, беги за ним. Пашка, беги, – теребил он химика, уснувшего камнем, – беги, вороти!
– Да кого, Глеб Иваныч? Никого тут и не было. Вы да я. Выпивали да спали.
– Гоголь был, – прошептал Багрецов, – Гоголь… – и, падая навзничь, Багрецов стукнул затылком об пол.
В тот же миг внизу стенного зеркала нацелились в комнату две огромных, новой кожей подбитых подошвы.
Приехавшую из города в сумерках Гуль с испугом встретили в передней Дуняша, кухарка и Петр, старый лакей Багрецова. Они, вернувшись с балаганов, вошли через черный ход, от которого был у них ключ. Шехеразаду, Пашку-химика, нашли в диванной в жесточайшем бреду, а Глеба Ивановича на полу распростертым во всю длину. В правой руке его был крепко зажат ключ от парадного.
– Похоже, что Глеб Иваныч только что заперли двери, выпуская кого-то, – пояснил Петр, – в случае, если б вздумали прогуляться, – были б одевши. Мы их перенесли в спальню, раздели.
Гуль прошла к Багрецову. Он был очень бледен и спал тяжким сном нетрезвого человека. Она прошла по комнатам, на окне увидала бутылку коньяку. Гуль села в то самое глубокое кресло, которое Багрецов подвигал своему недавнему гостю, и заплакала.
Пашку-химика пришлось отправить в больницу, где, не приходя в себя, он вскоре умер. А в тот же самый день, когда вышел номер «Сына отечества» с объявлением о смерти Гоголя, у Багрецова оказался легкий удар. Ему строго запретили пить.
Была ранняя весна. Пасха только что отошла. Багрецов, досиня выбритый, но не в сюртуке, а в халате, ходил туда и назад по анфиладе комнат. Зеркала почему-то стали ему неприятны; но так как были слишком велики, чтобы их спрятать в сарай, он приказал их закрыть простынями. Стало похоже, что в большой глазастой зале – покойник.
Без Шехеразады Глеб Иванович заметно скучал; раз даже ошибся, приказав Петру его вызвать из города.
Наконец, с заметным трудом он спросил о Гоголе. Гуль подала ему молча отложенные в порядке февральские газеты.
Глеб Иванович заперся у себя. Выйдя вечером, долго безмолвно сидел у окна. Подозвал Гуль. Взял «Сына отечества» и, водя пальцем по строкам, прочел вслух: «С понедельника на вторник ночью он велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул большую кипу писаных тетрадок, положил в печь и сжег все».
– Он сжег все. – И Глеб Иванович так усмехнулся, что Гуль заплакала и сказала вне себя:
– Глеб Иваныч, да вернись ты из могилы, стань человеком… сил нету!
Глеб Иванович глянул удивленно и печально, будто только что узнал ее. Потом опять стал ходить. Наконец как-то утром он сказал:
– Собирайся, поедем к Гоголю в Данилов монастырь.
И в ответ на безмолвную ее тревогу только махнул рукой:
– Небось хуже не будет.
Далеко за городом предместье у заставы. Домишки о трех окнах, улицы поросли травою, ходят свиньи и куры, или, громыхая, протрясется рысцой дилижанс. Старинные казармы. Дальше белая стена, еще более древняя, чудесной кладки с наплывом верхнего ряда зубцов, вознесенная при царе Алексее Михайловиче вокруг монастыря. Врата въездные веселые, пестрые. Голубые пузатые столбики с прохваткой желтым, красным, зеленым. Все в чешуйках да в шашечках.
Во дворе над колодцем шатер с угодником. Далее церкви московские златоглавые да шатровые – и Растреллиева стиля и своих стилей, русских. Золотеют, голубеют сквозь пушистую, еще прозрачную зелень.
– Хомяковы… Языкова… вот здесь, должно быть, он, – сказал Багрецов.
У забора, на могильных деревьях, протянута тонкая бечева. Какая-то баба, озираясь по сторонам, очевидно делая запрещенное, но ей необходимое дело, пользуясь ярким весенним солнцем, развешивала детское белье.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































