Текст книги "Слепые и прозревшие. Книга вторая"
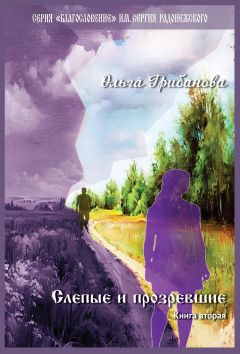
Автор книги: Ольга Грибанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
4. Батюшка
Через день Николая перевели в общую палату. Он торжественно шел по коридору с Тоней под ручку, а Нина, цокая каблучками, несла его вещи.
Довели, усадили. Нина стала укладывать в тумбочку его пожитки и на всю комнату инструктировала:
– Вот сюда. Протяните руку. Вот, вот, на верхней полочке ставлю чашку. В чашке – ложка. Рядом баночка майонезная, вот такая – в ней чай. Дальше. Руку протяните – пол-литровая баночка. В ней сахар. Вот она. Нащупали? Пол-литровая баночка. В ней сахар. Еще дальше, вглубь. Дотянулись? Это пакет. В нем яблоки и апельсины. Рядом пакет с печеньем. Переходим на нижнюю полку. Запоминаете? Носки. Туалетная бумага. Свитер. Теперь выдвижной ящик. Дайте руку. Вместе кладем. Запоминайте. Зубная щетка, паста, мыло. Вот банка с кипятильником. Сами, конечно, не вздумайте. Соседи вам вскипятят. Ну все! Поправляйтесь!
И ушли. Тоня – неслышно, Нина – звонко.
Соседи помолчали чуть-чуть и вернулись к прерванным делам и разговорам. Кто-то с оглушительным треском развернул газету. Кто-то у раковины заливисто полоскал горло. Из дальнего угла нарастал странный гул.
– Дмитрич, у тебя закипело!
– О! Славно! Сейчас чаечку бабахнем. Ну-ка, господа-товарищи, налетай! Сосед, чай будешь пить?
И еще кто-то рядом коснулся его руки теплыми, не по-мужски мягкими пальцами.
– Тебя как звать-то, горемыка?
Так это слово прозвучало, что не обидело, а будто приласкало. Такой удивительный это был голос – звучный и выразительный, хоть и старческий.
– А меня Василий Афанасьевич. А можно и просто по отчеству. Меня здесь все Афанасьичем зовут. Давай-ка чайку принесу, пока кипяток есть.
Что-то знакомое в его голосе. Слышал? Где? Когда?
Каждая фраза вырастала из глубины: вначале легким низким звуком, потом наполнялась силой, расцветала богатыми интонациями на главном слове и не спеша уходила в глубину. И каждое слово было отчетливо слышно. «Как у артиста», – подумалось Николаю.
Теплая рука помогла ему нащупать чашку с чаем. Скрипнула дверца тумбочки, и под другую руку лег пакет с печеньем. Вот как удобно и спокойно стало. Как при Гале.
– Спасибо, Василий Афанасьич. Ты печенье-то бери.
Афанасьич добродушно улыбнулся и кивнул в ответ.
Что это? Вот так раз! Ведь не видел же ничего! Ни улыбки, ни кивка! Но…
А ведь это не в первый раз. Вспомнить, вспомнить, когда же это… и как…
Галя сидит рядом. Ее ладони на его лице. Его ладони на ее лице. Входит Нина. Объявляет обед и клизму. «Я с ним посижу, пока он кушает?» «Сидите!» – отвечает Нина и величественно кивает. Вот откуда он узнал, как кивнула в ответ красивая смуглая Нина, похожая на Кармен? Как он мог это видеть?
А еще?
Он тянется к Галиному лицу и попадает пальцами ей в глаз. А она даже в лице не изменилась. Нисколько. Он ясно видел это: ее лучезарное лицо приняло боль радостно, как поцелуй.
– Что ж, Николай, у тебя с глазами-то? – прерывает его мысли голос Афанасьича.
И опять: какой вроде неделикатный вопрос, а не коробит, и ответить хочется.
– Бандит один по глазам ударил – такой штукой, с шипами. И глаз нет, и лицо всмятку.
– О-ох! И за что?
– Да сын у меня с их компанией связался. А я за ним пришел, хотел увести.
– Благое дело. И радуйся: для сына глаз не жалко. Верно?
– Не жалко. Был бы толк.
– И думать так не думай. Ты для сына великое дело сделал – душу его спас.
– Не знаю, спас ли. Он вот в больнице сейчас. Все ведь на его глазах было. Не свихнулся бы, четырнадцать лет всего мальчишке.
– Молись! Бог услышит.
– Молиться?.. – растерянно переспросил Николай. Так вдруг твердо и мощно это прозвучало, как будто надавило спину, заставив выпрямиться.
– Тебе годков-то сорок небось? Больше? До сорока лет дожил и не молился разве никогда? Хоть в душе, хоть мирскими словами?
– Молился…
– То-то и оно. Не бывает так, чтоб человек ни разу не помолился, будь он хоть атеист, хоть чекист. Может, и сам не знает, кого просит, кому мольбы шлет, а Бог все равно услышит. А когда молился, помог тебе Бог?
– Помог…
– И сейчас поможет.
Чай в чашке допит. Василий Афанасьевич уютно возится, шелестит и брякает, убирая печенье и вымытую посуду. Напоследок приподнял деликатно руку Николая, лежащую на тумбочке, и протер под ней салфеткой.
– А что, Николай, не пройтись ли нам с тобой по коридору за нужным делом? Как думаешь?
И пошли они не спеша. А на обратном пути Николай даже руку старика отпустил, сам шел вдоль стеночки. Хоть голова еще слегка кружилась, шел себе и шел, ощущая локтем локоть Афанасьича.
Возле палаты кто-то их ждал, кто-то с нетерпением вглядывался в них и волновался.
– Серафима? Ты ли? – окликнул кого-то Афанасьич.
– Ой! Батюшка Василий! Вы-то как здесь? – радостно воскликнула Серафима маминым голосом и вдруг схватила Николая за руки.
– Колюшка, сынушка! И не узнала тебя… Ты уж и ходишь?
– Так это твой, что ли, Серафима? Вот свел-то нас Господь! Внук Николая Морозова, вот где я тебя снова встретил. Помню тебя юношей, как приходил ты ко мне сестер крестить. А ты меня помнишь ли?
Николай растерянно улыбался:
– Да, да… отец Василий. А я не мог вспомнить, где ваш голос слышал. Вот, оказывается…
– Батюшка, вы-то здесь почему? – допытывалась мама.
– Да ничего, Серафимушка, обычная стариковская хворь. Операцию сделали – хожу как снова родился. Эх, Коля… Эх, Коля…
– Да, Колюшка… сынок…
– Ну уж ты иди, голубка, в палату, с сынком побеседуй.
Николай, удивленный встречей, присел с мамой на койку.
– Ну как ты, сынок?..
– Да ничего, мам… А ты-то, сердце-то твое?
– Да что уж, – махнула мама рукой, и легкий ветерок пробежал по лицу Николая, – жива осталась, и слава Богу. Что обо мне говорить? За Галеньку я боялась. Она ведь совсем тенью стала, чуть не просвечивает. Каждый день сначала к тебе, потом к Саше… Ох, Сашенька, Сашенька… Да он ведь сегодня выписывается, знаешь? Галя уж не придет сегодня, посидит с ним дома. А завтра, наверное, вместе придут, если все хорошо будет.
– Как он?
– Была у него вчера – так улыбнулся мне. Бабуленька, говорит, бабуленька…
Мама часто задышала, зашмыгала носом.
– Я теперь, Коленька, с вами поживу. Пока Галя на работе, я с Сашенькой буду, а придет Галя – побегу к своим, за Ксеней в садик.
– Ксенька уже в старшую группу осенью пойдет?
– Да, Колюшка, да. Большая, разумная. Только вот ругаться выучилась, прямо беда. Я и лаской, я и таской – хоть ты что! Чешет как пьяный мужик. А Дашке наплевать. Сейчас, говорит, все так – и в книжках, и по телевизору. А я все по-старому – не могу привыкнуть.
– А от Ташки было письмо?
– Было, сынок. Все у нее хорошо. Брюссель очень нравится, красивый, пишет, как в сказке. Машину королевы издалека видела. Ташу Костик на руках носит, кофе в постель подает, как в кино. Уж это, я и не знаю, баловство какое! Ты встань утром, оденься, умойся, причешись, а там уж и ешь, и пей, хоть кофе, хоть что. Ну да их дело! Костика там ценят, ох как ценят, платят хорошо. Они с Ташей домик уж свой купили.
– Вот это да! Рад я за нее, мам, очень рад! А Костику жму руку, он молодец! Так и напиши им.
– Да, Коленька, да… Так уж я рада, что наконец все у них сложилось. Ко мне, знаешь, на прошлой неделе ее Леонид заходил. Посидел, чаю попил, про Ташу спросил. Ох он и тоскует, ох и тоскует! Сидит, в глаза мне так жалобно смотрит, так жалобно. Я, говорит, не думал, что ей будет хорошо без меня. А женщине, говорю, семья нужна, дом, покой, а не просто так, в постели поваляться.
– А он что?
– А ничего. Плечами только подергал.
– Ну и ладно, Бог с ним.
Мамино плечо мягкое, голос мягкий, рука, которую сжал в своей Николай, мягкая, теплая, с сухонькой тонкой кожей. Как мама изменилась!
Когда она ушла после ужина, он все думал и думал об этом.
Старенькая совсем. Хотя ей лет-то и немного, всего-то шестьдесят два. Маленькая стала, тихонькая, усталая. Но такая теперь стала милая. В молодости лицо у нее было вроде и красивое, но жесткое, будто мужское. И вся-то была твердая, резкая, колючая. Да, да, вот такой он ее в детстве видел. Всегда куда-то спешила, по комнате летала – и все суровая такая. С ней, бывало, не посидишь в обнимочку, как Саша с Галей, – ей и сидеть-то некогда было. На ночь поцелует, по волосам жесткой ладонью проведет – и вся ласка. А за руку возьмет – и не думай вырваться. А напроказишь – так наподдаст по заднице, что гул по всей комнате пойдет.
Мама, мама… Молодая мама…
Когда он родился, ей всего-то восемнадцать было. Все пережила одна: предательство любимого, разрыв с родителями, невзгоды матери-одиночки, косые взгляды, оскорбления. Вот и получилась она в двадцать пять колючей, жесткой, безжалостной и к себе, и к маленькому сыну.
«Серафима…» А почему Серафимой ее назвал отец Василий? Она же Светлана. Спутал, что ли?
«Ну-ка, Серафима, показывай деток», – мягко улыбаются глаза, мягко улыбаются губы, спрятанные в седой бороде.
«И какие же грехи у тебя, Николай?»
– Много… много… утонул я в них, отец Василий.
Ах, да, это уже сон! Как хорошо…
5. Серафима
– Батюшка, а почему вы маму Серафимой зовете? Она же Светлана.
– По паспорту Светлана, а по крещению Серафима. Я, Николушка, сам ее крестил. А она тебе, что ли, не рассказывала никогда?
– Не рассказывала.
– Ну тайны-то особой в этом теперь нет. А история интересная, давняя… Рассказать ли?
– Да, да…
– А может, пойдем по коридору гулять? А то ноги мои работы просят, сидя-то я и говорить не умею. Да и шумно тут.
В дальнем углу соседи рассказывали скоромные анекдоты и радостно хохотали, а из радиоприемника неслись заунывные песни. В коридоре было хорошо: свежо и тихо. Николай почувствовал, что все окна раскрыты настежь и льется из них неназойливое утреннее солнце.
– Благодать-то, верно? Хороший будет день! Солнышко…
– Чувствую…
– Вот и слава Богу.
– Слава Богу… – эхом откликнулся Николай.
– А история эта, прямо скажем, древняя. С двадцатого-то года сколько уж прошло? Восемьдесят лет! Вот ведь как, восемь десятков! В том году, в двадцатом, потерял я обоих родителей. Гражданская война по стране колесила да краем колеса и меня зацепила. Белые с красными возле нас побились, а заодно и полдеревни спалили. Мать с отцом пытались добро спасти, да и накрыло их горящей кровлей. Я стоял рядом, все видел, меня потом водой отливали. Ну что ж? Куда теперь? Кому бездомный мальчишка нужен? Двенадцать годков – не работник еще, только рот лишний.
Ну спасибо, не бросили, а отвели в город, к протоиерею нашему, отцу Игнатию. У них с матушкой Серафимой своих деток долго-долго не было, как у Авраама с Саррой. Ох, печалились-то они, ох, печалились. И все подкидышей себе брали и растили как своих. А потом уж, чуть не в старости, Бог и благословил их, дал им дитятко свое. Вот уж, счастливые, они и растили семью большую!
А время-то голодное было, знаешь ведь, в школе-то проходил… И ничего, Бог и от смерти голодной, и от болезней берег. Вот и меня, сироту, к ним привели.
Ох, жил я там, Николушка, ох, жил! От матери с отцом столько ласки мне не было! Да и то сказать, житье крестьянское – в трудах великих, ласкаться некогда. От такого труда человек привыкает в землю смотреть, подобно зверю. А душа должна ввысь рваться, к небушку. Вот у кого рвется – тот воистину человек!
Первые-то воспитанники уж своими семьями жили, деток своих к батюшке благословлять приводили. А при мне у отца Игнатия семеро жило детей. Старшие, Павлуша с Никитой, уж взрослые были парни, работники. Павлуше уж и невесту сватали, да война помешала. Потом Даша с Таней, им годков по пятнадцати. Нет, Таня помладше была, а Даша – она постарше. Потом я по тринадцатому году, Аннушка семилетняя и Витюшка – это уж их роженый, трех годочков. Да потешный такой, да смышленый такой! А уж любили его все! Он по земле-то и ступать не хотел, все у кого-нибудь на руках либо на закорочках.
Грамоте, письму, счету меня выучили, книжек хороших почитал я у них множество великое. А подрос – отправил меня батюшка в духовную семинарию, видя большое мое усердие и желание.
Учился я, да не доучился. Пошли великие гонения на церковь, разогнали нас, семинаристов, хорошо хоть в ЧК не попал.
Вернулся домой, к пепелищу, всех разметало по свету. Батюшка мученического венца сподобился, упокой его Господи… Убили его зверски, когда храм свой защищал от поругания. Матушку осудили за пособничество и сослали. Умерла она, наверное, там, Царствие ей небесное, голубушке.
Павел с Никитой еще в гражданскую войну погибли, упокой их Господи. А остальные исчезли неизвестно где. Остался я один как перст, второй раз осиротел.
Ну уж как я по свету потом семь лет мыкался – это другая история. Все успел: и женился, и овдовел, и даже в тюрьме посидел. Наконец занесло меня под Ленинград, в тот храм, где ты сестер крестил. Тогда, в тридцать восьмом году, служил там батюшка Иохим. Старенький был старичочек, вот как я сейчас, а такая благодать была на нем! Исцелял молитвой: и душу исцелял, и тело! Вот как! И ведь коммунисты его пощадили, не мешали служить в те годы сатанинские.
Он, слышь, уж больно хорошо их от пьянства лечил. Кого на три года, кого на пять, а кого и на всю жизнь от выпивки отваживал. Тайком они к нему ходили, а я-то все видел. Взглянет батюшка на начальника строгонько, святую молитву сотворит, а потом за ухо его, родимого, оттреплет: «Не пей, дурачина, не пей!» И – накрепко!
Приютил меня батюшка Иохим, обласкал, чин выхлопотал. Преемник-то ему нужен был, верно? Потихонечку, понемножечку всем службам обучил, весь причт мне передал.
И вот венчаю я, Николушка, в первый раз. Как сейчас помню: жених высокий, плечистый такой. А невеста худенькая, росточку небольшого и на сносях уж. А лицо вроде показалось знакомое.
Мне-то и не до того, венчаю, стараюсь, оплошать боюсь, а о невесте и не думаю. Обвенчал, отправил, облачение снял, из храма выхожу, а они стоят и меня ждут.
Подходит невеста ко мне, за руки берет и говорит: «Васенька, братик, не узнаешь меня?» Тут только я словно проснулся – то ведь Аннушка была, матушкина младшенькая воспитанница. Обнимались-то мы с ней, сестричкой, обнимались!
Рассказала мне Аннушка про свою жизнь. Забрали ее тогда от батюшки с матушкой в детский дом, да в непростой, а особый – для детей врагов народа. Мыкалась она там три года, а и дальше жизни впереди у них не было. Кто подрастал – тех на Соловки отправляли. Но Бог этих деток уберег, сжалился над несчастными, наслал повальную болезнь. Что уж там за хворь такая была, не знаю, тиф, наверное, но детки один за другим за животы хватались, а через сутки в беспамятстве отходили. Кое-кто, однако, и выживал.
И Аннушка выжила. Власти спохватились, детдом закрыли, детей – в больницу. А одному врачу удалось под шумок в этой суматохе Аннушку с документами отпустить. Как уж он это сделал? Господь помогал! Каждый день в молитвах этого человека поминаю: Господи, спаси и сохрани раба Твоего, праведника Арсения, а ежели почил, то упокой, Господи, душу его праведную.
Ну ладно, отпустить отпустил, а куда с этими документами денешься, если в них все про нее написано. Походила Аннушка по миру, хоронясь от чекистов. И у крестьян в огородницах, и у артистов в домработницах, и у геологов в кашеварках. И отовсюду бежать ей приходилось. Одинокая ведь, беззащитная. А у мужиков как: ничейное – значит, мое! Да и не отовсюду убежишь-то! Так и поставила Аннушка на себе крест – порченая. Да ее еще в детском доме, ребенком совсем, чести лишили. Кому, думала, такая нужна. Так мыкалась, доживала. А она и в детстве-то слабенькая была, а тут жизнь такая бесприютная ее и совсем высосала.
Шла она как-то по городу Ленинграду на очередную работу наниматься, да и упала без чувств. В больнице нашли с позвоночником что-то. В детском доме хребет-то намяла: и камни ворочала, и мешки с картошкой на горбу носила. Это такое трудовое воспитание у них было. А девочке много ли надо! Лечить не умели тогда толком, не то что теперь: ни процедур, ни массажей, ни физиотерапий. Одни только бабушки-келейницы, всему делу рукодельницы, по чердачкам да подвалам травами отпаривали.
Ну хоть отлежалась в больнице, хоть отдохнула да поела досыта. И то хорошо.
Там и судьбу встретила. Николай Морозов со сломанной рукой как раз в той больнице лежал. Сам выписался раньше, к себе в Затюшино съездил, дом приготовил. Подошла выписка, выходит Аннушка из больничных дверей, а он ее встречает. За руку взял и сразу, в чем была, расписываться повел. А оттуда в Красавино, в правление колхоза.
Ну, председатель, конечно, сильно морщился, уж так ему Аннушкины документы не нравились. Но Николай кулаком об стол – чтоб была работа моей супруге! А его ох как берегли в колхозе! Мастер был на все руки! Лучший печник, лучший плотник.
Вот так и зажили они славно. А как стала Аннушка тяжела, так и попросила мужа в церкви обвенчаться, чтобы благословил Господь. А Николай, хоть сам в церковь не ходил, а верующих уважал. А Аннушка-то веровать умела. Лик такой светлый у нее был, когда молитву творила! Посмотришь – сам уверуешь! Верно говорю. Знал таких, кто через Аннушку к Богу пришел.
Ну и вскорости, месяца через два, окрестил я их девочку. Серафимой окрестил, как Аннушка попросила, в память нашей матушки.
А после того пошла Аннушка регистрировать дочку в правление, а председатель вдруг на дыбы! Время-то, знаешь, было какое? Сороковой год. Всего боялись! И то уж на свой страх принял в колхоз поповскую воспитанницу – а вдруг начнет религиозную пропаганду разводить! Уперся – и нет! Поповским именем не называть! А чего же там поповским? Серафима-то имя было ходовое: не одна Сима в колхозе работала, не одна Симочка в школу бегала. Да что тут поделаешь! И записали нашу Серафиму Светланой, в честь, сказали, Ленинградского завода, чтобы свет людям несла, как лампочка Ильича, а не как поповская свеча!
Вот так и получилась мамушка твоя Светланой. А для меня все равно Серафима.
Ну что, занятную историю тебе рассказал?
– Да… целый роман.
– То-то и оно!
– Мне мама совсем мало о дедушке с бабушкой рассказывала.
– А ты много спрашивал?
– Вообще-то, нет…
Теперь хотелось скорей прилечь, отключиться от всех и вспомнить.
Вытянувшись на койке, положив удобно голову на тощей больничной подушке, Николай сосредоточился и отыскал в памяти фотографию, какой он видел ее на желтых потертых обоях в маленьком домике «родового имения».
Застывшие перед объективом дедушка с бабушкой. Он сидит, а она стоит рядом, держась за его плечо. Еще, еще ближе, всмотреться, не потерять…
Все ближе лица, все роднее. Густые темные волосы деда зачесаны назад. Спокойный высокий лоб. Глаза дружелюбно щурятся под темными бровями. Чуть вздрагивают усы – дед сдерживает улыбку. Он счастлив. Он только что стал Аннушкиным мужем, и рука ее маленьким котенком пригрелась на его плече.
А бабушкино лицо в завязанной назад косынке так и трепещет. Глаза испуганно вскинуты, и чуть ли не слезы в них блестят. Беззащитно приоткрылся маленький рот. Вот-вот вспорхнет она и спрячется за широкую спину мужа. Благо есть теперь куда спрятаться.
А за их спинами сквозь туманное крошево памяти пробивается еще фотография, еще супружеская пара. Аккуратная седая борода, лохматые седые брови мужа в черной рясе. Нежное тонкое лицо и прозрачные глаза жены. Кто такие? Почему они тут?
6. Иов
– Николушка, спишь или думаешь о чем?
– Думаю, батюшка Василий. Расскажете мне еще про деда?
– Про деда, про Николая-то? Спокойный был, неторопливый, молчун. Трудяга. Любое дело с любовью делал. И все на диво! Весь род их был такой, говорили мне. Как война-то началась в четырнадцатом году, в деревне голодно стало, мужиков в армию забрали. А он еще молоденький был, оставили. А в восемнадцатом году ушел в город, посмотреть, что за революция, да и ремеслу поучиться. На заводах поработал и токарем, и слесарем, а потом домой вернулся – мать сильно болеть стала. Да и умерла вскоре. А Николай здесь остался. Дома, говорил, народ лучше.
Непьющий был. В праздник, бывало, стопочку только пригубит, и то, если уговорят. Это у них, у Морозовых, в роду так: и отец его не пил, и дед. У них вроде зарок такой был: им, Морозовым, пить нельзя – беда будет.
На войне побывал и вернулся здоровехонький, только седой весь. Ранения были, конечно, но по мелочи, даже в госпитале не лежал, все само заживало.
Сильный был, богатырь настоящий. А вот ругани и драк не терпел. Его, знаешь, в праздники звали по дворам пьяных разнимать. Сказать, как разнимал? За вороты, как щенков, возьмет и встряхнет хорошенько. Башки-то пьяные у них туда-сюда, бряк да бряк! Глядишь, и смысл в глазах появился.
– И не обижались на него?
– Что ты! Какое! Благодарили от сердца. Сидеть бы нам, мол, за решеткой, кабы не ты.
Домосед был. Всею душою в семье. Аннушку берег. А уж в Серафимушке души не чаял!
– А письмо он ей какое написал, когда я родился?
– Сгоряча чего не сделаешь! Ведь в то время – не то что теперь. Без мужа ребенка родить и в городе зазорно считалось, а уж в деревне – срам! В подоле принесла. И кто? Николая Морозова дочь, Аннушки боголюбивой дочь.
А уж искали-то они потом, ходили-то, ходили. И нашли-таки, адрес узнали, а трогать ее не стали, отступились. Что ж, мол, хоть знаем, что жива. А захочет вернуться – так дорога ей знакома.
И вот тогда запил Николай. И так, знаешь, отчаянно! Видно, впрямь заповедь ему была – не пить. Как в пропасть ухнул! Под конец, бывало, запрется в сеннике и лежит в беспамятстве, синий весь. Вот тут уж пришло Аннушке время за ним как за ребенком ходить. И ходила, и терпела, и ни слова ему в укор. Там, в сеннике, однажды и умер.
Отпел я его, похоронили с Аннушкой вдвоем. И она мне у могилы и молвила тихонечко: «Ты, Васенька, и мне местечко застолби с ним рядышком. А я уж не задержусь». Я было стыдить ее, а она смотрит и улыбается горестно. И после этого года два только и отходила, да и то с трудом великим. Сперва ноги отнялись, в больницу ее положили – да, видно, поздно. Через месяц полный паралич наступил. Но долго Господь ей не дал мучиться, призвал в дорогу дальнюю, к любимому супругу.
Слушаешь, Николушка, или заснул?
– Слушаю, слушаю, батюшка. А про маму мне расскажете? Какой она была в детстве?
Соседи в дальнем углу, на койке старика Рыбакова, играли в дурака. Играли страстно, ругмя ругали своих королей и дам. Карта, с размаху ложась на карту, издавала звук пощечины.
Но Николай уже научился заслоняться от посторонних звуков. Голос отца Василия растекался по всем жилочкам и баюкал сердце.
– Мама-то? Обликом вроде в мать, русенькая, и глазки похожие. А духом в отца. Все по-мужски, крепко так! В обиду себя с самых детских лет никому не давала. Хоть и худышечка была, а кулачки как железные. Только неладно, что горда была не в меру, ну да в отрочестве это бывает. Аннушка пыталась к Богу ее направить, а она на дыбы: «Как это я буду вечно перед кем-то виноватой, грехи свои замаливать! Сама разберусь, правая я или виноватая. Человек ни от кого зависеть не должен!». Вот и все тут. Ну это уж так в школе тогда воспитывали, гордыню в детские головы вбивали. И тебя ведь так же учили, верно?
Сокрушалась Аннушка, ко мне ходила плакать. А я ее успокаивал: не терзайся, говорил, к Богу арканом не затащишь. Сама придет, не сомневайся. Не может быть, чтобы матушка Серафима свою внученьку в темноте бросила. Вот и вышло, как я говорил.
– А учительницу Веру Ивановну вы знали?
– В лицо только. Им, учителям, никак нельзя было со мной знакомство иметь. Вмиг работу потеряли бы, такое время было. А вот Дусеньку Петрыкину хорошо знал, славная была, кроткая. Катюшу Филечкину очень, очень любил. Она всему свету сестрой была. Где кому помочь – она тут как тут.
– Да, да, баба Катя такая была!
Дверь палаты скрипнула. Медсестра, имени которой Николай еще не знал, объявила с порога металлическим голосом:
– Морозов, Киндюшин, Рыбаков – на перевязку. Захаркин, вы завтра выписываетесь?
– Да-да, голубушка, завтра, – торопливо отозвался отец Василий.
– Как завтра?.. – пробормотал Николай, поднимаясь с кровати.
Чему он удивился? Не век же отцу Василию в больнице лежать! Но ведь казалось, что этот светлый покой и густое тепло его голоса – все это будет теперь рядом навсегда. И какая катастрофа!
– Афанасьич! Афанасьич! Ты, что ли, домой? Оставляешь нас, батя?
– Да уж пора и честь знать. Залежался я тут, место казенное протер, – смущенно отшучивался отец Василий.
– А кто ж нам теперь Священное писание будет рассказывать? Ведь темными останемся.
– А ничего, грамотные, небось. Возьмите, да и почитайте, теперь в книгах все написано. А меня прихожане ждут.
– Да ты разве, отец, еще служишь? Тебе уж лет девяносто, наверно?
– Девяносто два. Ну так и что ж, смена молодая у меня есть, а старики все равно ко мне ходят. Вот и спешу, пока ноги идут.
Николай был в таком отчаянии, что не замечал боли. Снимали присохшие к векам повязки, обрабатывали рубцы, а он страдал только от своего одиночества и беззащитности, которые обрушатся завтра.
После обеда весельчак Миша попросил:
– Афанасьич, расскажи напоследок что-нибудь такое, раздирающее, в натуре, чтоб мороз по коже! Как про апостолов-то, про казни их рассказывал.
– Для раздирающего у вас телевизор есть, смотрите на здоровье, раздирайтесь! А я, если хотите, про Иова расскажу.
– О! Давай, батя!
– Я про Сатану-то рассказывал вам, кто он таков и что ему, поганцу, от нас надо?
– Рассказывал, Афанасьич, было такое дело.
– Ну так я вам вот что скажу. Хоть и побежден был Сатана, хоть и низвергнут в бездну, но не раскаялся ничуть. Все случая ждал, чтобы снова силами с Господом померяться. А как Адам с Евой согрешили, под власть его попали, так и вовсе возгордился. Теперь он, мол, тоже властвует, хоть и не на небесах. И начал он, как паук, людей в сети свои затягивать: то одним грехом их захлестнет, то другим в петлю поймает. А если праведник встречался, кто в сети-то ему не давался, то уж и злился он, уж и бесился! А руки-то и коротки! Праведников Господь хранил, в обиду Сатане не давал!
И вот раз давай он Отца своего Великого дразнить. Вот, говорит, хоть какой будь праведный человек, а как невзгода придет, так и возропщет на Тебя. Вот, скажет, старался я, старался, соблюдал я Твои заветы, себя не жалея, а мне вон что, беда за бедой. А тот, сосед мой нечестивый, богат, и здоров, и доволен!
– Это точно! Хорошо у нас одни крутые живут! – сокрушенно поддержал Миша.
А отец Василий продолжал:
– Да больно мне, скажет, нужна такая-то вера. Вот тут-то я, Сатана, на ушко ему и шепну: иди ко мне – и всем твоим бедам конец! Како, Господи, мыслишь, пойдет или не пойдет?
А Господь ему на это и ответил, что праведный человек силы в себе найдет. «А если и возропщет человек – ведь он букашечка слабая – так поддержу, мол, Я его, – Господь говорит, – вот и выправится человек». А поганец ему: давай, мол, Боже, проверим! Вот возьмем, к примеру, праведника Иова! Чего ж ему праведником-то не быть: и богат, и детей десять душ! Конечно, он доволен и Тебя славит!
И разрешил Господь Сатане проверить, крепка ли вера Иова. А иным-то словом, всему роду человеческому испытание устроить, чего стоят лучшие из них.
И пали тогда на Иова беды великие. Скот враги перебили, дом ураган-ветер разрушил и всех детей сгубил. И остался Иов в миг единый и нищ, и одинок. Пал Иов в скорби великой оземь, но не взроптал, а молвил только: «Наг я родился – наг и помру. Господи, твоя воля!».
Но Сатане бесстыжему мало этого было. Что ж, говорит, это лишь душа его мучится, а душа-то у праведного за Бога держится, и легко ей муку терпеть. А каково-то он заговорит, когда тело его от боли скорчится?
И поразил Сатана Иова лютой болезнью, проказой.
– Разве такая есть? – засомневался Миша.
– Есть, есть, – успокоил кто-то.
– Проказа – это когда гниет человек заживо, и спасения ему нет. Всего болезнь съедает, до самых костей. Вот и покрылся Иов сплошной раной, с головы до ног.
Терпел Иов кротко лютую муку семь дней и семь ночей. Сидели с ним рядом три его друга, чтобы поддержать в беде. Но иссякли силы у горемыки, и проклял он день рождения своего, и возмечтал о смерти как о блаженстве. Горько, горько взывал он к Господу: «За что Ты меня так наказываешь? В чем вина моя? Зачем было плоть мою создавать, чтобы теперь так жестоко губить?»
Вразумляли его верные друзья. Человек, ему говорили, как искра от костра. Всю жизнь свою короткую горит он болью великой и, пылая, ввысь поднимается. На то он и рожден, чтобы в страдании к небу стремиться.
А Иов сердился на друзей своих: пострадайте-ка, мол, с мое, тогда я вас послушаю. Друзья, мол, называются! Не жалеете, мол, меня, а только укоряете!
– Да уж, когда что заболит, так… верно же… Ко мне бы кто полез с таким базаром – шею бы тому свернул! – согласился Миша.
– Нет! – стенает Иов в муке. – Все меня бросили, и друзья, и Господь! И за что? Что я кому плохого сделал?
А Сатана стоит, незримый, рядышком и лапы свои когтистые потирает. Вот-вот, чуток уж осталось, сейчас скажет Иов, что нет, мол, на земле справедливости – значит, нет и Бога. И готово дело, Сатана думает, – мой будет навеки!..
Дверь отворилась, и медсестра металлическим голосом окликнула:
– Здесь Морозов? К вам пришли.
В палату вошла Галя, сразу согрев его лицо ярким светом. А с ней еще кто-то. Кто?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































