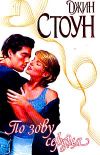Текст книги "Слепые и прозревшие. Книга вторая"
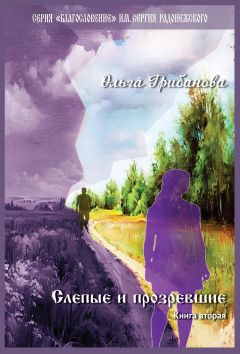
Автор книги: Ольга Грибанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
IV. Прозрение
…………………………………………………………………..…………
Идет, идет, близится благословенная, дар Божий, спасительная!..
Смяла, скрутила пальцы, ступни, ладони, поднимается выше…
Возьми, возьми скорее это старое грешное тело, дай унестись прочь от него, постылого, ненавистного!..
Хорошо, хорошо…
Вот уж извивается оно в жестокой муке, вот уж мутится разум…
Слава тебе, мать-спасительница Боль!..
О-о-о… Ты уж оставляешь, оставила, уходишь?.. Значит, еще не конец?.. Смилуйся, сколько же мук впереди?
Ушла. Лишь мертвая слабость во всем теле, лишь оглушительный звон в ушах да рассеченная об острый камень нога. Набились в рану дорожная пыль и песок, горячо, звонко тукает в ней кровь – и болит, болит…
Но эта боль – не боль. Она уйдет без следа. Сколько было этих ран… Ими как корой покрыты ступни – и все затянулись…
Что ж, может, встать и идти? Ступить покрепче на больную ногу, чтобы боль отдалась во всем теле.
Но не слушается тело…
Надо отдохнуть еще здесь, в тени огромного валуна.
Это в ушах звон? Или воздух звенит от жгучего зноя?
Напиться бы… Пожалуй, и силы тогда появятся. Дойти бы до леса… Вот он синеет вдали… А в лесу найдется ручей.
Долго. Не дойти.
Впереди, кажется, колодец, но к нему не подойдешь: по этой дороге ходят люди. Вот и сейчас идет по ней путник в грубой серой хламиде, подпоясанной вервием, с посохом в руке.
Он молод и силен, легки его движения, прекрасно лицо. Подозвать его? Не подойдет.
Ну так что ж, чем жажда хуже боли? Будь же и ты благословенна, жажда! Ты спасаешь от страшных мук растерзанную душу не хуже, чем боль.
Повернул юноша голову, замедлил шаг, остановился, направился к валуну. Да полно, мальчик, не надо.
Трещотку в руки. Эх, пальцы не слушаются!..
Пой, трещотка, пой! Вызванивай свою деревянную песню! Оповещай всех здоровых и душою, и телом – прочь от меня, прочь! Берегите тело свое от проказы! Берегите душу свою от проказы!
Но не испугала путника песня трещотки. Подошел он ближе и опустился на колени возле того, кто сидел в тени валуна.
– Брат мой, тебе плохо? У меня есть вода, напейся!
Он снял с веревочного пояса легкую флягу из древесной коры. Несчастный замотал головой, пытаясь отказаться, но юноша уверенно откинул с его лица грязное покрывало и поднес флягу к губам.
Старец пил жадно, задыхаясь и захлебываясь, редкие волосы слиплись на висках, и капли стекали по впалым щекам, смешиваясь со слезами, и бежали дальше по глубоким морщинам и шрамам.
Напившись, он глубоко вздохнул и поднял воспаленные глаза. Юноша улыбнулся ему легко и счастливо.
– Сейчас я принесу еще воды и промою твои язвы. Тебе станет легче, вот увидишь. Только не прячь от меня свой недуг. Отец наш, великий и прекрасный, призвал меня к служению. Я оставил родной дом, чтобы отдать всего себя несчастным, – лицо юноши сияло светлым торжеством. – И ты не бойся за меня – Господь не даст мне заболеть. Сильно ли поразила тебя проказа? У меня с собой лечебные травы, я сейчас разведу костер и приготовлю отвар. И порошки у меня есть, чтобы присыпать язвы. Мне много дали с собой мои братья во Христе. Покажи мне свои раны. Мне нужно знать, сколько отвара приготовить. Где они? На ногах, на руках, на теле?
– В душе…
С каким трудом выговариваются слова, если давно отвык от человеческой речи. Юноша не расслышал его слов и приблизил ухо к самым губам старика.
– В душе, – повторил несчастный отчетливее и сжал сухими холодными пальцами руку путника. – Знаю, вижу… Господь сжалился и послал мне тебя, славный мальчик… Только ты один… Никто другой… не подошел бы к прокаженному. Значит, близится мое спасение, значит, смерть уж рядом. Дитя мое, если уж ты хотел лечить мои зловонные язвы, может, примешь исповедь мою? Молиться за меня не надо, недостоин я… Возьму свои грехи с собой к Отцу небесному, пусть покарает меня справедливой карой. Ты же просто побудь со мной… Долго я тебя не задержу.
С печальным вниманием слушал юноша скорбную повесть о безрассудной любви. Возвращалась к старику Боль, и корчилось тело в жестоких судорогах, но жизнь все не оставляла его. Отступала Боль, и старик, с трудом дыша, продолжал рассказ.
Спала дневная жара, душистой прохладой дохнул ветер. Слабел несчастный с каждой минутой, но говорил и говорил, едва шевеля губами. Речь его была невнятной, но юноша понял каждое слово, ибо внимал ему душой.
– …Не в силах был я терпеть эту муку. Просил у Господа другой кары, бродил по диким лесам, но не ели меня голодные звери, обегали стороной. Ночевал я в оврагах, рядом со змеиными гнездами, – не трогали меня змеи. Падал я лицом в колючий кустарник, мечтая ослепнуть, как тот юный музыкант, жертва моего гнева… Взгляни на лицо мое… Видишь шрамы? Я изрезался о колючие ветви, но глаза уцелели. Наконец набрел я на убежище прокаженных. Год прожил я с ними, спал на их гнойном тряпье, ел из их посуды, омывал их язвы – все надеялся, что поделятся они со мной своим страшным недугом. Но нет! И этого я был недостоин. Прогнали меня прокаженные, узнав, что принимают помощь от убийцы любимой дочери своей и ее возлюбленного, кого бы мне сыном считать… Двоих детей убил я… и третьего, неродившегося… Прогнали… Погнушались моей помощью. Тогда закрыл я лицо свое ветошью, взял в руки трещотку и пошел по свету, как Каин…
Всю долгую ночь согревал юноша коченевшие руки старика, растирал ноги его, скрюченные нестерпимой судорогой. И читал, читал, читал над ним светлые молитвы.
С первым солнечным лучом просияло лицо старца неземной улыбкой, и отошел он в далекий мир, где обрел покой. А юноша со слезами скорби и с благоговением спел псалмы над его телом, похоронил его под валуном и пошел дальше, ведомый своим великим призванием.
…………………………………………………………………..…………
Час перед рассветом
1. Тьма
Рука еще хранила щекочущий след от прикосновения мягких пальцев врача. Николай почему-то берег это ощущение, поворачивая его в памяти то так, то этак. Прохладные, слегка влажные, приятные такие пальцы. Бывают влажные, да липкие – это противно. Но ведь это врач, он руки свои сто раз на дню моет. Вот потому и приятные – чистые.
У Гали тоже чистые. Вечно со стиркой, вечно с посудой, целые вечера в доме вода шумит. Но у нее пальцы сухонькие, кожа шуршит, как шелк. Он этому удивлялся, помнится, когда с нею познакомился.
Галя! Вспомнил о ней, и отяжелело от тоски все тело.
Галя. Саша. Мама. Всё. Все. Весь мир.
Вместе с комком в горле разлилась откуда-то из недр головы страшная режущая боль так, что он даже охнул и схватился за повязку. Теперь и не поплачешь. И сразу начал думать о повязке. Шершавая сухая марля под пальцами, и здесь, и здесь. Вся голова забинтована и вся верхняя половина лица. Кожа на щеках и носу болезненно отзывается под бинтами. Здорово порезано.
Очень осторожно, исподволь, на ощупь подводил он себя к тому, что услышал сейчас от врача.
От глаз ничего не осталось. Ничего. Так, ясно. Больше не думать об этом. Успеется. Спешить теперь некуда.
Теперь… Да, ведь он куда-то спешил. Бежал, бежал, боялся опоздать… Ах да, Саша. Больше он ничем помочь сыну не сможет. Какой он теперь отец!
А раньше был какой?
Что-то еще было сказано… Голова, травма черепа, сотрясение мозга. Это упал так сильно? Ударился обо что-то… Это же на лестнице было… Значит, о ступеньки.
Координация движений восстановится не сразу… Это как же понять? И без глаз, и без координации? Ложку будем мимо рта носить, что ли?
Сколько же дней он здесь лежит? Спал он все это время или был без сознания? Теперь уж и не поймешь. Спал, верно, потому что снились сны, снилась Галя в чем-то цветном… На себя непохожая, но это точно была Галя. А потом наступила тьма – это было пробуждение. Выходит, теперь все будет наоборот: днем темно, как в страшном сне, а ночью светло и ярко, как днем. И это навсегда. К этому надо привыкнуть.
Совсем близко страшная истина, но сознание опять отшатывается, едва почуяв ее ледяной холод.
Спокойно. Лежать и терпеливо ждать. И все будет хорошо. Скоро, наверное, разрешат прийти Гале. Она расскажет про Сашу… Что она расскажет про Сашу?.. Расскажет ли?..
Да что там такое с координацией?
Николай протянул руку, пытаясь сориентироваться. Пустота.
А может, это только кажется, что протянул, только захотел протянуть…
Нет, вот она, стена. Нашлась все-таки. Немного не там, где ожидал, но все же есть. Обычная, гладкая, с колючими шершавинами, выкрашенная масляной краской, как всегда в казенных домах. Интересно, какого цвета?.. Ну это ладно, это потом…
Наверное, и тумбочка где-то рядом. Беленькая такая, скучненькая. Где-то видел такие… По телевизору? На картинках? Ни разу в жизни в больнице не лежал.
Сколько еще здесь лежать? Пожалуй, долго, судя по внушительной повязке и боли в голове и глазах. То есть… Ну, в общем, в том месте…
Потом, все потом…
Ух, затошнило от этих мыслей! Нет, это от сотрясения. Врач же предупреждал.
Хлопнула дверь. Звонко зацокали каблучки по кафелю.
– Николай Николаевич, судно вам не нужно?
Таким бы голосом да арию Кармен петь…
– Нет… тошнит…
По-мужски сильные руки повернули его на бок, наклонили голову.
– Давайте, давайте, вот так… Ничего, это обычное дело. Скоро будет лучше. Что беспокоит?
Он не ответил, стиснул зубы. От рвоты выступили слезы на глаза. То есть… ну все там же. Опять рвущая боль…
– У вас сильные боли? Сейчас укол сделаю. Ничего, потерпите, скоро отпустит, и заснете. Вам бы следовало поесть.
Николай со стоном замотал головой.
– Анна Петровна, Морозову капельницу будем еще сегодня ставить? Завтра? Ну, значит, на покой. Уколемся – и спать. Судно не нужно? Уверены? Анна Петровна, мочегонные Морозову прописаны? Да? Ну ладно, завтра с утра будем принимать. Спите.
Понемножку отступила боль. Замелькали обрывки разговоров, лица, предметы. Рядом присела Галя, положив подбородок на костлявый кулачок. Она печально смотрит куда-то рядом с ним, а его не замечает.
«Галя, Галя, я здесь, я жив!.. Видишь меня?» – он кричит изо всех сил. Губы шевелятся, а звука нет. Галя не видит и не слышит его.
И тут с ужасом понимает Николай, что его нет. Потому она его и не видит.
«Неправда! Я жив!» – кричит он беззвучно, просыпается и засыпает опять.
Много-много людей идут вокруг с озабоченными лицами, каждый в себе, каждый о своем. Идут мимо Николая, проходят сквозь него, не причиняя боли. Он уже не удивляется. Он знает, что его нет.
Но вот навстречу ему шагает юноша в длинной серой одежде, стянутой у пояса простой веревкой. Николай видит его лицо издали и с этого мгновения видит в толпе только его. Юноша подходит все ближе и ближе, смотрит ему в глаза и улыбается, как давнему другу.
Конечно, это друг, только не вспомнить, где его видел. Но точно друг. Он один видит Николая в этом мире. Для него одного Николай жив.
Вот он рядом. Вот руки их сомкнулись. Наконец-то он пришел, как хорошо!
– Кто ты? – спрашивает Николай. И голос у него ясный и звонкий, как у мальчика-подростка.
– Как кто? Да твой отец же! – весело смеется юноша. И Николаю тоже смешно, что он об этом спросил.
И вот они крепко-крепко обнимают друг друга…
Проснулся. Ночь. Темнота.
Да не ночь же! Не ночь! Просто тьма! Навсегда! Весь мир во тьме.
Мир будет продолжать жить, а Николая в этом мире уже нет. Тьма!
Зачем он здесь лежит и ждет выписки домой? Да нет его, дома этого!
И Галиного лица больше не будет…
Будет расти и с каждым годом меняться Саша – он этого не увидит…
Ни зимы, ни лета, ни кустов сирени…
Даже доктора с его чистыми пальцами…
Даже медсестры с голосом Кармен…
Да как же теперь жить?
Зачем жить, если не видеть?
Он заметался по койке, глухо завыл. К пустым глазным впадинам подкатилась знакомая рвущая боль. И тогда он закричал что есть сил, пытаясь содрать с лица бинты…
2. Обретение Гали
Следующие несколько дней – сколько же их было? – Николай жил призрачной жизнью.
Проснувшись, он сосредотачивался и начинал терпеливо ждать нового сна.
Больше он не буянил. Боли возвращались все реже. Но теперь Николай даже жалел об этом, потому что, терпя боль, он все же чувствовал себя человеком. Стискивать зубы теперь приходилось только на перевязках, а в остальное время он лежал спокойный и глупый, как полено, ни о чем не думал, просто ждал.
Появлялись Нина-Кармен и другая, безмолвная Тоня, ловко ворочали его из стороны в сторону, подкладывали судно, кормили с ложки, делали уколы и другие неприятности.
Его теперь на некоторое время приводили в сидячее положение. Ему казалось, что он падает, но пугаться было лень. Все равно Нина или Таня подхватят. Сам он ни о чем не спрашивал и на вопросы отвечал односложно.
Он научился слушать. По звукам в коридоре делал вывод, какое сейчас время суток. Прислушивался к голосам, шагам, звону посуды. Потом все стихало. Наступала ночь. А может, и нет. Просто он уходил в сон.
Яркие сны посещали его всегда, будто жалели. Бывали веселые, бывали печальные, бывали и страшные – он с удовольствием смотрел каждый. Во сне он видел.
Наконец однажды Николай проснулся с ощущением забытой много лет назад, живой, острой тоски. Ему приснилась Галя. Она сидела рядом, смотрела на него и лила слезы. Каждая слезинка, едва выкатившись из глаз, твердела и превращалась в жемчужинку. Матово переливаясь, жемчужинки бежали по щекам и оставляли на них глубокие бороздки. Но такой она нравилась ему еще больше.
Добежав до подбородка, жемчужинки с чудесным звоном падали ему на грудь и понемножку возвращали прежнюю силу.
И тогда он вдруг вспомнил, как бесили его когда-то Галины слезы. Так звери стервенеют от запаха крови.
И от стыда запылал он весь, с головы до ног. Задымились, затлели бинты, вспыхнуло одеяло. Весь горит он, а боли нет, есть только Стыд.
Он заметался, заворочался и проснулся. Долго-долго вспоминал Галино лицо и эти жемчужные слезы. Воспоминание, сперва яркое, быстро отдалялось и заплывало туманом. Вот уж и следа нет. Остались Галя, слезы и Стыд.
Когда подошла к нему с градусником Нина, он спросил:
– Когда ко мне жену пустят?
Нина помедлила секунду, и Николай понял, что она обрадовалась вопросу.
– А жена к вам каждый день приходит. С вами рядом сидит. Но вас нельзя было тревожить. Она и сегодня придет. И мама ваша приходила, тоже сидела.
О-о-о, теперь он знал, чего ему ждать. Преодолевая страх перед черной пустотой, он напрягся и сел на койке. Посидел, держась руками за края, устанавливая равновесие. Потом нащупал за спиной подушку, извернулся, подобрал ее повыше и придвинулся поближе.
Вот так, имея за спиной опору, можно долго сидеть и ждать Галю. И он сидел.
Приходили и уходили врачи, медсестры, санитарки. Все радовались тому, что он так смело сел на кровати сам. Но все это не имело значения – он ждал Галю.
Вначале послышались звуки ее шагов в коридоре. Николай никогда раньше не прислушивался к ее шагам, но узнал их сразу. Так никто вокруг не ходил. Нина цокала, Тоня мягко шелестела, Анна Петровна шаркала и шлепала, санитарки гремели ведрами, врачи скрипели ботинками. А это что за шаги? Что за звук знакомый? Затихли у самой двери. Галин, это Галин голос спросил что-то у Анны Петровны на посту. Та что-то невнятно ответила.
И вот скрипнула дверь. Галя вошла.
Густо настоянный хлоркой воздух как будто раздвинулся, разлетелся по углам, пропуская поток солнца. Как тепло стало лицу! Он даже сказать ничего не мог, только улыбался, и слезы кололи иголочками его заживающие раны.
Галя быстро подошла, присела на край койки и прижала его ладони к своим щекам. Так сидели они, молча, несколько минут. Его ладони омывались ее горячими слезами, и она, наверное, не могла говорить, как и он.
Николаю очень хотелось провести пальцами по всему ее лицу, по глазам, по носу, по губам. Но ему показалось, что она испугается.
Наконец, справившись с собой, он спросил:
– Ну как ты?
Галя закивала, собираясь с силами, и сдавленно проговорила:
– Все в порядке…
– Ты и вчера у меня была?
– Угу…
– Ты мне приснилась. Вот как сейчас. Сидишь и горюешь, и слезы капают. Красивая такая.
– Представляю себе… – Галя засмеялась сквозь слезы, отчаянно захлюпала, засморкалась, ускользнув из его рук.
Возникшая под руками пустота неприятно поразила его: как будто еще раз ослеп. Нетерпеливо нашел он руками ее колени, мокрые от слез руки с носовым платочком, поднялся к плечам. Так боялся оторваться от нее и потерять снова. Вот и лицо. Потянулся к нему так отчаянно, что заехал пальцем в ее глаз. Кажется, сделал ей больно, но она не охнула, не отстранилась, даже не изменилась в лице. Ничуть.
– Как Саша? – спросил он машинально, наслаждаясь ее близостью. И тут же почувствовал беду. Она подобралась и так затосковала, что у него заломило в пальцах.
Она раздумывала, что бы такое соврать. Но врать она не умела, поэтому думала слишком долго.
– Ну-ка, ты мне говори все! Всю правду говори, а то я свихнусь! – Он тряс ее лицо, а она плакала все сильнее.
– Коля… Коленька… Не волнуйся… Все будет хорошо, все будет хорошо… Он только, знаешь… в больнице сейчас… в этой… психиат…
Ух как зазвенела черная пустота вокруг него, закружилась воронкой над его головой и потянула, потянула за собой…
– Коля, Коля, слышишь?.. На этой неделе его выпишут! У него просто был сильный стресс. Ты мне веришь? Врач сказал, что все в порядке, только беречь его от таких компаний… Чтобы больше никогда… Тогда все хорошо…
Она сжала ладонями его забинтованное лицо, защитила, удержала. И черная воронка со своим противным звоном улетела в свой черный мир. А Николай остался с Галей.
– Все, все мне расскажи, – бормотал он, зная, что страшное позади.
Так и сидели они, сжав ладонями лица друг друга, замкнувшись в кольцо. Она говорила. Он впитывал ее голос. Еще, еще. Они ловил удивительный тембр, тонкий, ломкий, с трещинкой. Ловил ее интонации как музыку. Такие неуловимо нежные интонации, такие застенчиво любящие. Еще. Еще. Чтобы потом лежать и слушать их внутри себя, до ее следующего прихода.
Процокала каблучками Нина и торжественно провозгласила:
– Обед! После обеда клизму – и спать!
– Я с ним посижу, пока он кушает? – робко спросила Галя.
– Сидите! – благосклонно кивнула Нина.
Поставили на колени Николаю столик, глухо стукнула и плеснула тарелка, в руке, которую пришлось оторвать от Галиного лица, очутилась ложка.
Это Галя дала. Она ведь не знает, что самостоятельно он еще не ел. Другую его руку она укрепила на краю тарелки.
И в первый раз в этой тьме он понес ложку ко рту. И не промахнулся. И нормально. Только, кажется, много расплескал. Ну ничего, на грудь Галя тряпочку повесила.
– Молодец, Николай Николаевич! Приятного аппетита! – прогремела над головой Нина.
Он уже понес ко рту второе, когда появилась какая-то помеха. Галя отвлеклась от него, кажется, посмотрела в сторону, беспокойно двинулась.
– Что, Галь?
– Ничего, кушай, кушай.
Возня со вторым блюдом отняла много сил. Макароны вели себя как живые рыбки. Трепыхались, махали хвостиками, разбрызгивали подливу и упорно ускользали с ложки. А вилки ему почему-то пока было не положено.
Пришлось работать вдвоем. Галя загоняла добычу куском хлеба, а он отправлял ложку в рот, подставив под нее ладонь. Ну и хлопот с макаронами! Он даже посмеялся немного. Галя тоже посмеялась. Но, может, и поплакала.
Наконец он приступил к компоту. И тогда, опять почувствовав помеху, встрепенулся, сосредоточился. Кто-то стоял в дверях и беззвучно плакал.
– Галя, кто там стоит?
И тогда, несколько раз вздохнув, чтобы подавить слезы, родной мамин голос откликнулся:
– Это я, сынушка…
3. Слезы
Перед сном Николай сказал себе: «Хочу увидеть Галю» – и уснул очень быстро. Наверное, снотворное продолжали ему вводить.
Сон приснился страшный. Снилась их комната, какой она была до Сашиного рождения. Галя сидела у стола, положив подбородок на кулачок, и смотрела в окно.
Лицо ее было печальным, потому что его, Коли, рядом не было.
Вдруг за окном – чудовище, женское тело с хвостом, покрытое сверкающей чешуей, а голова змеиная, с прекрасными и злыми глазами. Заглянуло чудовище в комнату с улицы, оскалилось по-змеиному и вплыло в комнату через закрытое окно прямо к Гале. А Галя ничуть не испугалась, только взглянула удивленно – что ж, мол, через окно-то – и руку приветливо протянула.
А змеюка вдруг вцепилась острыми акульими зубами в Галю – и давай грызть!
Смотрит Галя на нее печально и ласково, гладит чешуйчатую голову и приговаривает: «Кушай, кушай, бедненькая».
Вот уж до пояса нет Гали, бледнеет, бледнеет она, вот уж просвечивают сквозь нее рисунок на обоях и спинка стула. А со змеи вдруг начинает осыпаться чешуя, открывая розовую кожу.
Все медленнее, все неохотнее грызет чудовище Галю. Но вот Гали уж и нет. Исчезла.
А потерявшая чешую змея стала нагой женщиной, съежившейся на полу, пытаясь прикрыть тело руками и длинными золотыми волосами.
Плачет женщина от стыда и утраты, бьется головой о стул, где сидела Галя, зовет ее – поздно, поздно!
Страшно было смотреть этот сон. Но проснулся он не испуганный, а умиленный. Он увидел Галино лицо, и сейчас можно было любоваться им, вспоминать эту рассеянную улыбку, кулачок, подпирающий худенькую щеку.
Он счастливый, в сущности, человек, ему есть что вспоминать. Это почти то же самое, что снова увидеть, если постараться, конечно… если сосредоточиться…
Сорок четыре года прожил, а никогда не пытался запомнить то, что перед глазами. Эх, знал бы!.. Соломки бы подстелил…
А каково слепым от рождения? Нет! Он счастлив и богат! Теперь спешить некуда, теперь он будет выкапывать из груды всего ненужного мусора, завалившего память, эти истинные сокровища – картинки. Он будет чистить их, протирать, шлифовать, оправлять в золото и носить при себе. В любую минуту взял и посмотрел!
Галя… Тонкие светлые волосы, вечно щекочущие ей лицо. Он протягивает руку, чтобы отвести их и заправить за ушко. Коснулся пальцами кожи, провел от щеки к уху. Нежное, тонкое под пальцами. Хорошо бы губами, очень хочется. Но тогда она вскинет огромные глаза цвета ленинградского неба, удивленно и испуганно, а на ее щеках появятся горячие пятна. И ему придется объяснять, почему он это сделал: от таких глаз не отшутиться. И тогда наступит неловкое молчание, потому что говорить уже будет незачем, просто надо будет ее обнять – и губами к губам.
А в эту минуту он, конечно, вспомнит о влажных, жадных губах Ники и еще о разных губах, накрашенных и ненакрашенных, пахнущих сигаретами и пахнущих шоколадками. А об этом нельзя вспоминать, а то вспомнятся еще и тяжесть Никиного тела на коленях, и ее горячие руки на шее…
Поэтому Коля молчит. Поэтому Коля осторожно ловит на лету ее волосы, как мотыльков, стараясь не коснуться лица.
Вот уж Ника посмеялась бы!..
Она так безмятежно целовала своих знакомых обоего пола при встрече и прощании. Она так невинно забиралась пальцами под манжеты рубашки. Она так ненавязчиво брала своего попутчика под руку, касалась грудью его локтя. А глаза у нее были призакрыты, без блеска.
При чем тут Ника?! Он о Гале думает. Нику прочь!
Теперь Галины волосы подобраны в тугой пучок, чтобы не лезли и не мешали. Ведь теперь некому ловить их на лету. Когда-то ему казалось, что такая прическа ее безобразит: лицо совсем блекло, терялось, как карандашный набросок.
А глаза казались непропорционально большими и беззащитными. В них так легко все читалось, что Галя спрятала их под очками.
Галя! Взгляни на меня, хочу видеть глаза!
Так. Надо сосредоточиться и не отвлекаться. Трудно как!
Посторонняя мешанина копошится, сбивает с толку, уводит в сторону. Николай сжимает зубы. Да что же это?! Галя!
Вот и глаза. Они не открываются, а распахиваются. Прозрачные такие глаза, серо-голубые. На левой радужке больше голубых лучиков, а на правой – больше серых. Черные зрачки тревожно дышат.
А на белках глаз вдруг загораются извилистые красные ниточки, и на нижних веках вырастают прозрачные валики слез… Что это? Когда это было?
– Значит, женимся! Согласна?
– Согласна…
Он поцеловал ее нарочито звонко в обе загоревшиеся щеки, а потом в нос – еще звонче, чтобы она рассмеялась. А она смотрела, смотрела этими своими небесными глазами, улыбалась, улыбалась – заплакала. Тогда?
Галины глаза устремлены на темный, неясный образ Богоматери. Это для него – темный и неясный. А Галины чистые глаза видят иначе.
Он с кровати смотрит на нее. Ему смешно и досадно. Галино благоговение кажется ему наигранным. Кого там любить, на этих старых кусках дерева? Людей надо любить. Его, Колю, надо любить.
Галя перекрестилась последний раз и повернулась к нему, а он спросил ее насмешливо:
– А вот кого ты больше любишь: меня или Бога?
Ее глаза живут еще несколько мгновений той, высокой, жизнью. Но вспыхивают на них алые прожилки и тонут, тонут они в слезах. Тогда?
И еще глаза. Галины. Но такие, что припомнить страшно. Наверно, они такие у мертвых. Близкие закрывают их и прижимают медными пятаками, чтобы не видеть этих опустевших, безмолвных глаз.
– Галь, Галкин мой, Галчонок! Прости! Слышишь? Слышишь? Ну успокойся, ну прости! Не соображаю, что говорю, устал, башка трещит! Прости!..
Он крепко прижимал ее к себе, целовал, целовал – щеки, губы, глаза, глаза, глаза, чтобы ожили. И они оттаяли и растеклись обильными слезами.
А потом он перестал просить прощения и просто отворачивался, чтобы не видеть этих глаз.
А потом он стал уходить из дома, чтобы не слышать ее судорожного дыхания и не видеть дрожащих рук.
А потом она перестала поднимать на него глаза, перестала плакать…
Это же было давно… Он был молодой и глупый. И такой довольный собой. У него так все хорошо получалось, так все в его жизни было хорошо, красиво и правильно… Кроме Гали.
Как больно! Он-то потом радовался, что все это прошло, что Галя его простила и все забыла.
Но ему теперь ничего забывать нельзя! Вот оно, его бесценное сокровище – мучительная память о ее глазах, истекающих жемчужными слезами. Вспоминать их снова и снова, корчиться от стыда и раскаяния – вот его единственное счастье.
Легкие волосы собраны в пучок на затылке, беззащитные глаза спрятались за стеклами очков. Такой Галя была в то утро, когда он видел ее в последний раз. Что-то сказала она на прощание. Что?
Проводила его до двери, положила руку на плечо и что-то такое ласковое сказала. В коридоре было почти темно, он не видел ее глаз. Тонкий носик, тонкие нервные губы в улыбке. Что она сказала?
Рука на его плече белела в полутьме прихожей. Такое от нее шло мягкое и чистое тепло…
Прошелестели шаги по палате.
– Доброе утро… Завтрак, укольчик, таблеточки… – бесцветно и бессвязно проговорила медсестра Тоня.
Как она выглядит? Наверно, как мышка: маленького роста, худенькая, с острой мордочкой, а глазки бесцветные и волосы бесцветные… Стоп! Получилась Галя!
– Доброе утро, Тонечка! Какая там каша сегодня на завтрак? – первый раз за все время заговорил он с ней, вдруг обрадовавшись ее приходу.
– Геркулес… – бесцветный голосок тепло окрасился улыбкой.
После завтрака пришел доктор и отправил на перевязку. Он был очень доволен:
– Сегодня шлем наш богатырский снимем, больше он нам не нужен. Оставляем только легкую повязочку на глазах.
«Чтобы людей не пугать», – сказал себе Николай. Он чувствовал себя неуютно. Без бинтов мерзла обритая голова. На лице все было голо, беспомощно, и затянувшиеся шрамы отзывались болезненно даже на резкие звуки.
В палате он, морщась, потрогал открывшиеся части лица. Щеки и нос, распухшие, скомканные, в шершавинах шрамов. Каково будет Гале это увидеть? А маме?
И это теперь навсегда.
Он будет носить темные очки. Или протезы, может, ему поставить, стеклянные какие-нибудь? И будут они мертво блестеть из-под искореженных век. Да на что это! Лучше темные очки.
Скорее бы пришла Галя. Зачем скорее? Зачем ей это видеть?
Она войдет. Остановится на пороге, увидев его обритый кочан с заживающим швом. Увидит совершенно чужое, уродливое лицо с повязкой. Глаза ее раскроются до невозможности и побелеют. Когда она пугается, ее глаза совсем теряют цвет. Она не вскрикнет, только раскроет рот и глотнет воздуха. Она постарается не упасть в обморок. Она очень постарается…
Звук ее шагов. Вот он на что похож: так хлопают крыльями испуганные голуби.
Вот она поздоровалась с Анной Петровной. Невнятно поговорили они о чем-то. О чем? О нем, конечно.
Она помедлила немного у двери, светло улыбнулась, чтобы сразу озарить его темный мир. И вошла.
– Здравствуй, милый…
Села на край кровати и поцеловала в губы крепко-крепко, сладко-сладко.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.