Текст книги "О Введенском. О Чвирике и Чвирке"
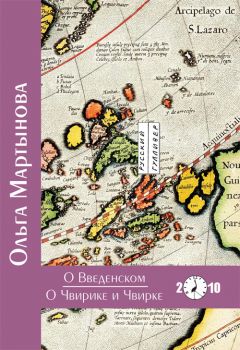
Автор книги: Ольга Мартынова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Ольга Мартынова
О Введенском О Чвирике и Чвирке Исследования в стихах
Об авторе
Ольга Мартынова родилась в 1962 г. в Дудинке, где ее отец был длительной журналистской командировке, выросла в Ленинграде.
С 1991 г. живет в Германии. Пишет стихи (по-русски), эссе илитературно-критические статьи (в основном, по-немецки, иногда по-русски) и прозу (по-немецки). Как литературный критик иэссеист сотрудничает с ведущими газетами немецкоязычного пространства – Die Zeit, Neue Zuerscher Zeitung (NZZ), Frankfurter Rundschau и др. Премия Губерта Бурды для поэтов Восточной и Южной Европы (2000).
Стихотворные книги по-русски:
Шепот январских садов», в составе конволютного сборника «Камера хранения» (Четыре книги стихов), М., 1989;
Сумасшедший кузнечик», СПб., 1993;
Четыре времени ночи», СПб., 1998;
Rom liegt irgendwo in Russland», per procura, Wien – Lana, 2006 (двуязычное издание: русский-немецкий, совместно с Еленой Шварц);
Французская библиотека», М., 2007;
по-немецки:
Brief an die Zypressen», Rimbaud Verlag, Aachen, 2001;
Rom liegt irgendwo in Russland», per procura, Wien – Lana 2006 (двуязычное издание: русский-немецкий, совместно с Еленой Шварц);
In der Zugluft Europas», Heidelberg, 2009.
Стихи и эссе переводились на немецкий, английский, французский, итальянский, словацкий, русский и датский языки.
О Введенском
Исследование в стихах
«О Введенском» Ольги Мартыновой напоминает ораторию или кантату с речитативами рассказчика (евангелиста?), следующими за словами вроде «Also spreche»: «Введенский о Хармсе…», «Заболоцкий написал Введенскому письмо, примерно такое…», «Введенский говорил друзьям…» и, наконец, «Я говорю: О, Ты, который…». Такая форма, вероятно, впрямь подобает произведению, говорящему о том же, что всю жизнь интересовало героя этого пассиона, – о времени, о смерти и о Боге. И еще: это не только кантата, где звучат голоса (арии) чинарей, собеседников и оппонентов Введенского, это также и попытка разговора со старшим товарищем по цеху, минуя смерть, разрыв во времени, но не минуя Бога, который, возможно кругом. Вернее, я бы сказал даже не разговор, а, как формулировал это сам Введенский, «некоторое количество разговоров». При этом не забудем, что разговоры в данном случае не просто беседы, но разговоры в стихах – дьявольская разница.
Разговор в стихах с таким поэтом, каков Введенский, предполагает владение его языком, его понятийным аппаратом, приемами его речи. Дерзновенная Мартынова решается на такой разговор и демонстрирует и беглое владение идиоматикой, и приемами соединения прежде не встречавших друг друга слов, и ритмико-композиционными изгибами стиха. Но это всё лишь дань почтения гениальному поэту: Мартынова ни на минуту не перестает быть самою собой, то есть поэтом, обладающим собсвенным голосом, независимым взглядом и особым умением вес-и беседу, не пасуя перед великими партнерами (которых сама же и выбирает).
Из того немногого, что до сих пор говорилось о Введенском, все написано на философском или же филологическом наречии; Ольга Мартынова впервые взялась трактовать эту тему в стихах, и мне представляется ее подход существенным и продуктивным. Все труды, посвященные Введенскому, начинаются так или иначе со слов «звезда бессмыслицы», с упоминания о том, что этот автор предвосхитил на тридцать лет литературу абсурда и т. п. После упоминания бессмыслицы и приведения цитаты о том, что поэт провел «как бы поэтическую критику разума, более основательную», чем критика Канта, исследователи, все как один, приступают к поискам смысла. Даже самый проницательный и близкий Введенскому Я. С. Друскин, который в начале своих заметок о поэте пишет о том, что невозможно искать смысл бессмыслицы, так как это еще большая бессмыслица, чем сама бессмыслица, – уже через три страницы утверждает: «…понять время (и жизнь) это и значит не понимать их. В этом смысл его бессмыслицы».
Слова имеют семантику, семантика не может не породить смысла, пусть непривычное (алогичное) соединение слов приводит к неожиданному и шокирующему смыслу, но всё же смыслу. Дайте нам дыр бул щир, и мы вначале припишем ему семантику, а вслед за ней отыщем и смысл.
металл бессмыслицы сдается,
резвится, как щенок,
клубится, как вода,
которая слизывает себя сама:
((А воздух море подметал,
как будто море есть металл) –
Это очень обычное,
очень простое
очень правдоподобное описание моря
под пасмурным небом в ветреную погоду.
Но оно и стоит в скобках).
Реплика Мартыновой вторгается в напряженнейшую философскую дискуссию, но это реплика поэта, и она произведена не в рамках любомудрия, а подчиняется законам поэтической речи. Поэты часто тоскуют, как бы это без слов сказаться было можно, призывают молчание, как панацею, молят о немотствующих устах. Не верьте поэтам: больше всего на свете они любят слова. Поверьте поэтам: слова их убивают.
Тут входит слово никогда (Введенский)
И (продолжает Мартынова) непрогретая вода
Внушает вам, что вы не рыбы,
Иначе вы летать могли бы.
В произведении Введенского «Очевидец и крыса» Он, обращаясь к женщине – Маргарите или Лизе, ныне ставшей Катей, оворит:
Маргарита Маргарита
дверь скорее отвори,
дверь в поэзию открыта,
ты о звуках говори.
Мы предметов слышим звуки,
Музыку как жир едим.
Маргарита для науки
мы не верим что мы спим.
Мы не верим что мы дышим,
мы не верим что мы пишем,
мы не верим что мы слышим,
мы не верим что молчим.
Введенский не верит, что женщина в состоянии сказать то, о чем он ее просит, поэтому в «Очевидце и крысе» Он сам и говорит, пока дверь в поэзию открыта, в то время как Она прыгает в окно, хотя тут нигде не сказано, что она прыгнула в окно, но она прыгнула в окно, которое по его же просьбе и открыла.
Мартынова берет на себя смелость сыграть женскую роль по ценарию Введенского. При этом слова роли принадлежат не ценаристу (ему принадлежит лишь замысел), а ей самой, хотя и выполняющей просьбу Введенского. Мне кажется, это очень важно, что вникнуть в суть исканий Введенского пытается поэт и что этот поэт – женщина.
Да, дело в том (говорит Введенский), что тут есть с тобой ще участница, женщина. Вас тут двое. А так, кроме этого эпизода, всегда один. В общем, тут тоже один, но кажется мне в этот момент, вернее до момента, что двое. Кажется, что с женщиной не умрешь, что в ней есть вечная жизнь.
Бессмертия Вам, Александр Введенский!
А Мартынова пусть говорит ещe – о вишнeвой косточке, о длинноглазом шумере, о рыбах и буквах, о мелком море на севере и глубоком – на юге, о том, на что у нее есть право цеха, нравится или не нравится это кому-либо (да хоть и самому Богу, который, возможно, кругом).
Виктор Бейлис
О Введенском
О Господи помилуй мя.
Л. Аронзон
I
Как ловко книги, по-русалочьи манят —
Неслышно под рукой их плавники трещат:
Щекотно пальцам и смешно бумажной Лорелее)
вот, сидишь, например, в кресле,
коровьи языки солнца сквозь занавеску лижут страницу,
читаешь «Крейцерову сонату»,
думаешь, хорошо бы порадовать старика,
написать ему на облака:
«Перечитывала „Крейцерову сонату“»,
было грустно от общего нашего несовершенства», –
Он бы в сторону Гете, с(о)пящего на соседнем облаке,
вспахал бороздки бороды
и скромно отхлебнул из дождевой воды.
Книги слоятся как рыбье мясо.
За белые жабры держу два тома,
Как из рыбных рядов покупку несу.
Я помню еще, как они открывали серые рты,
Но тукнул продавец по темени –
И в чешуе нет больше хода времени.
Их казнь понятна и ясна,
ведь божий замысел – блесна,
рыба – бог, но в то же время,
вкаких-то сухопутных снах,
мне больно, будто бы – я стремя
o шпорой-звездочкой в зубах,
и к нёбу ржавый шип приник.
Два белых тома тоже не всегда
Уходят из сетей ума,
И если нет, тогда
металл бессмыслицы сдается,
резвится, как щенок,
клубится, как вода,
которая слизывает себя сама:
((А воздух море подметал,
как будто море есть металл) –
Это очень обычное,
очень простое,
очень правдоподобное описание моря
под пасмурным небом в ветреную погоду
Но оно и стоит в скобках)
Все, что наспех сознанье связало и спутало,
Еще в колыбели, над розовым сморщенным «я»,
Как это распутать? –
Послушай, из логики слов меня вывези,
Так разуму я в колыбели сказала,
В бессмыслицу связи и завязи –
Но непослушен разум
Младенческим приказам.
II
Введенский о Хармсе: Он, видите ли, любит гладкошерстных собак. Ни смерть, ни время его по-настоящему не интересуют.
Это сказано в сердцах.
Я думаю, когда он это говорил,
Он сидел на еже и его правая нога перебирала клавиши
компьютера
(так ему мстило время, анахронизмы ввинчивая в темя),
которые были, как зубы: На какую (клавишу) ни нажмешь,
больно
Раньше черти варили и черви глодали
беззубые черепа,
А теперь мы с прекрасными (в)сходим в свет(мрак) зубами,
Драгоценней фосфорных черепах,
Кто прежде нас ушел, тем, кажется, обидно,
Они ворчат: нофить фарфоровые фубы – фтыдно.
Да и всякое вообще описание неверно. «Человек сидит, у него корабль над головой» все же наверное правильнее, чем «человек сидит и читает книгу»:
Я сплюнула слово – вишневой косточкой – в руку,
Потом незаметно бросила в реку,
Выросла вишня-черешня на скользкой воде,
Глянула в небо, а неба-то нету нигде,
Выплакало небо всю зелень-синеву свою в высокую осоку.
Когда бы слово было меньше семени,
В нем не было б любви к бессмыслице и темени.
III
Кругом, возможно, бог – и это стоит (то есть, этот возможный бог стоит) кругом возможности непонимания и заслоняет ее:
Ладно, когда-нибудь всё равно все всё говорят,
Особенно, когда в молочной туче,
Повисшей, как надутая перчатка,
Как вымя страшное, набух огонь трескучий,
И Твоего куста созрело пламя,
Чтоб сжечь уют косноязычий.
Дар речи обретя от страха,
Я говорю: О, Ты, который, возможно, кругом,
Мне не нравится то, что Ты сочинил,
Я говорю это, как коллега, у меня есть на это право цеха,
Праха (потому что в прахе Ты мне назначил свиданье),
Воздуха-вдоха (потому что это Твое дыханье)
И, главное, петуха, у которого съедены потроха.
Конечно, все это очень мило,
Все эти хребты, облака, баобабы, бабочки, комары, кроты;
Прелестны и разноцветные люди,
Это было счастливое озаренье,
Сделать их бледнолицыми, черножопыми, краснокожими
и желторожими,
Но я не люблю Твоего творенья.
Чуден и синий воздух, как корова жующий время,
Все, что нам осталось – это дать этому имя,
Мы ничего, ничего, как известно, не можем придумать,
Что не придумано раньше Тобой:
Петушиные клювы драконов девы несут на убой,
Розы завой вьется как вой за собой,
Василиск поднимает к небу свой ботинок рябой.
Зверь с головой ботинка,
В подвздошье Бутырка, в подпашье бутылка,
А руки как у трески – все равно останется связан
С Ангелом воли Твоей, с его золоченой трубой,
И конечно, все это страшно мило,
Но
Мне кажется, Ты не продумал деталей,
Сляпанным слишком поспешно мне кажется это кино.
Я сплюнула слово – выпавшим зубом – в руку,
Потом незаметно скинула в реку.
Выросла челюсть на полой волне
И поплыла к зеркальной блесне.
IV
Как думали о смерти стоики:
Мускулистые мысли в одрябших полотнах страха
У них над головой подметали небо,
Оно морщинилось, как море,
На их головы сыпалась теплая слава в веках,
И хлопья небесного смеха
Прилипали к их липким и влажным одеждам,
Из мокрого нёба сочились сухие слова.
Городские стражи надо мной смеются, виноград расклевали
птицы,
Везде скользкий камень, куда не поставлю ногу,
Мой живот, что луной должен быть, круглой, плоской,
прохладной, горит, как солнце,
Мой разум, что должен гореть как солнце, стынет
луной-лягушкой,
Заклинаю Вас, девушки Иерусалима, не приводите ко мне
жениха другого,
Пусть лучше будет кругом меня эта ночь сырая,
Пусть я стою над жемчужно-желтыми холмами,
И кожа моя пусть горит, не сгорая,
Пусть стражи надо мной смеются, пусть снуют лисицы.)
Ночь и день замеряя осиными колбами яви и сна,
В струйке песчаной люди висят, как блесна,
Одинаково далеко от поверхности и ото дна.
Жизнь смертные сны подсмотрела
И разболтала,
Дыряво ее покрывало.
И шибает из прорех
Т(П)леном подчерепной орех,
В котором бог, в котором грех, в котором зал его утех.
V
Вас тут двое. А так, кроме этого эпизода, всегда один.)
Есть три «вдвоем», которые
Себя умеют видеть без посторонних глаз:
Любовь, молитва, смертный час.
(Половой акт, или что-либо подобное, есть событие.)
Так, колесо любви
(Все разлагается на последние смертные части.)
соединив со смерти колесом,
(Это ничем не поправимая беда. Выдернутый зуб. Тут совпадение внешнего события с временем.)
Он сделал самокат.
Так, колесо любви соединив со смерти колесом,
Все едут на бесцельном самокате:
Без женщины/мужчины ты все сам и сам,
А с ней/с ним ты в двухместной вроде бы каюте/палате.
Тот, кто Кругом, соединяя вас,
Неслышно замеряет вашей жизни вес:
Без смерти ты всегда один,
Поскольку для нее рожден.
Тут входит слово никогда
И непрогретая вода
Внушает вам, что вы не рыбы,
Иначе вы летать могли бы.
VI
Заболоцкий написал Введенскому письмо, примерно такое:
Человек сидит за компьютером.
Кругом, где только возможно,
Лежат книги.
Это все же наверное правильнее, чем:
Человек лежал, скисая
Среди осиновых жуков и праздничных ежей,
Питаясь военными брюквами,
Как прадед завещал,
А между тем, как между брюками,
Червяк подснежный верещал.
Это все же наверное правильнее, чем:
Человек сидит, у него корабль над головой» –
Это все же, наверное, неправильно.
В сущности, то, что он хотел сказать, выглядит примерно так:
Время – это счастье,
Счастье – это бремя,
Я – боюсь.
VII
Некрасивая девочка в желтой куртке идет, обмотавши шею
колючим ша́рфом,
Фонари на мокром асфальте, там же рябь от ее ботинка,
Это станет (потом) забытым шифром,
Отпечатанным (много позже) в ее морщинках,
Она улыбается, город, река, пусто́ты архитектуры,
Под подошвой хрустнула льдинка,
И что есть красота?
Это – город, река, пусто́ты архитектуры,
Луну поймавшая льдинка.
Долгая невидимая трубка,
Продолжение газетной, подзорной,
Кругляшок ясного мира на конце зренья,
Но там ни звука, ни жалкой радости,
Клен успел умереть и воскреснуть,
Как Гильгамеш.
Птицы успели замерзнуть,
Как рябь от ее ботинка.
А кругляшок не приносит
Ни жалкой радости, ни буквы,
День, как глина,
Молчит, ждет, что будет
(Из него).
VIII
Фигура паука,
Геометрична и легка,
И я боюсь, что знает он, зачем так четок
Узор им сплю(с)нутых решеток?
Вечерний долгий свет, недолгая отрада.
Я наклоняюсь, разминаю
Присыпанный, как будто временем, шалфей,
Его сухая горькая прохлада
Укор тому, что в теле хлюпает бесформенно и жарко.
Или ковер. Ведь шелковые нитки
Не знают, что такое голова,
Зубная боль, огонь желанья,
Рвота, седые волосы и стыдные слова.
Или гортензия. Она
не раздувает ноздри
Почуяв запах спелого вина.
Или паук. Ему неинтересен
Этот стыд, этот стон,
Он ему уныл и пресен,
Как мне гитарный перезвон.
О, говори хоть ты со мной,
Отживший век,
Хоть темен ты, как мозг спинной,
Но сны твои в изнанке век.
IX
Как буквы уязвимы! их тоже любит смерть,
И воздух начеку, земля, огонь, вода,
Им нипочем разбиться и сгореть,
Рассыпаться и утонуть,
Подстерегают их зима, война, осада, казенный путь
И разные другие дураки,
Им нипочем исчезнуть навсегда.
Ворон – Никогда – Ленора.
Рильке: вишневая косточка – смерть
(Подруга говорит: это логическое противоречие:
косточка – это новая жизнь,
Я говорю: нет, Рильке пишет, что как живот беременной
женщины несет в себе не только жизнь, но и смерть,
так и плодовая косточка и т. д. …
Она: ладно).
Пока мы это говорим, у нас над головой корабль,
У нас под ногами – чужое знамя,
На нем непонятные буквы выело время
Как мышки из книжки – в сыре.
Сосчитать овец
Или звук снарядить в загробный поход, снабдить на дорогу
одеждой –
Зачем, грея глиной тонкие смуглые пальцы,
Длинноглазый шумер в кольчатых стружках своей бороды
нащупывал буквы?
Что прятал он в глиняных клиньях?
Дети, излишек брюквы привел к тому, что пленников
оставляли в живых,
Так возникло рабство.
Излишек глины – к тому, что в ней сохраняли звуки,
Так возникла культура».
А вот пещера:
Лошади убегают.
Лошади убегают, запаздывают их гривы,
Рисовальщик спасался от предсмертной икоты.
Лошади убегают, красивы, неторопливы.
Буквы мои в пещере, а в ней темнее, чем в облацех, вода,
Но они терпеливы,
Как рыбы.
X
Введенский говорил друзьям, что счастливы живущие у моря.
– море – время – море времени – время моря —
Кинохроника: мальчики взапуски с торопливой волной,
Усы, пахнущие табаком/черно-белой любовью на одичавшее
племя детей,
Странно высокий голос диктора, девушка, повернувшаяся
спиной,
Поднимает ракетку. Как у молодого хищного зверя
ходит под кожей ее лопатка.
Учительница говорит: город наш был построен Петром
На костях. Я, не видя этих костей,
Верила ей, но не понимала.
Мелкое море на севере, у меня под боком.
Глубокое море на юге, потягивается сладко.
Тот, кто живет у моря, каждый день наблюдает время,
Оно показывает себя с ленцой, с пижонским размахом,
Взрослые женщины в страшных светящихся платьях
Ходят вдоль моря, им шатко на каблуках и валко,
Их поддерживают седые мужчины,
Чьи усы пахнут вином и страхом.
О Чвирике и Чвирке
стихи из романа о попугаях
Здесь собраны «стихи из романа о попугаях». Можно проследить, как развивается этот цикл. Вначале повествуется об экзотических птицах Кагу – с выписками из энциклопедии, объясняющими уникальность этой популяции, распространенной лишь в горных лесах Новой Каледонии. Эти птицы пока еще лишены всякого разумения и бессмысленно «чивирикают в (с)аду», производя «какие-то „ти-ти“ или „ди-ди“». Но уже очень скоро возникает предположение, что это не просто звуки, а умопостигаемые смыслы, и в стихи наряду с ономатопоэтикой входит попытка истолкования загадочной речи:
– пора открыть, каков он, чвирик:
– нет у него приличного костюма.
– тук-тук, говорит птица, другая отвечает: чирик,
– о чем, правда, думает чвирка?
Ольга Мартынова берет на себя роль толмача, и, если ей не ватает слов человеческого языка она смело вставляет фонемы никому на свете не знакомого (не хочется говорить, чтобы его не принизить, «птичьего») наречия.
Это невероятно трудно:
Нельзя запомнить,
какая птица, что твердит.
Кто говорит твичей,
кто говорит тютю,
а кто молчит.
Особенно нельзя понять,
поняв, нельзя запомнить,
которая из них молчит.
Видно даже, как поначалу смешиваются полузнакомые (чужие) языки, хотя это смешение, может быть, и помогает узнаванью. Нельзя не порадоваться, например, такому счастливому, по крайней мере, для русского слуха, слиянию чвириканья с итальянским:
Замри, Флоренция, (не) забуду
Твоих сумасшедших старух
И премудрых Триче,
Им не сойтись вовек,
А серые ленты
Арно и трече-,
Кватроче-, Чинквече-
И прочее птичьеченто
Залатали вход, Флоренция, в твой небесный чертог.
Это сплетение языков, а есть еще и перескоки из языка в язык. У Мартыновой это связывается с замечательным поэтическим озарением о том, что слова вообще избыточны, сами про себя это знают и стесняются собственных окончаний, предпочитая оставаться начальными фонемами.
Слова не любят продолженья –
Дре– скок в чужой язык: dreht durch! –
Неважно – все это не много значит.
Маячит смысл на маяке, бессвязен океан…
Над темным океаном Чвирик,
Но он не знает наших слов.
Постепенно Чвирик и Чвирка перестают быть диковинными птицами или даже претерпевают еще более существенную метаморфозу, – не то чтобы они узнают наши слова, но они обретают осмысленную речь (по мере проникновения автора в тайны их коммуникации и способностей автора приладить эти тайны к особенностям человеческого языка). Труды поэта в этом цикле можно бы сравнить с изнурительной работой антрополога, раздираемого двумя равноправными идеями: о глобальном единстве всего сущего и кардинальном несходстве всего подобного. Вначале крен происходит в сторону уподобления, очеловечения Чвирика и Чвирки: они печалятся, опьяняются, сочувствуют, даже бреют подмышки. Затем различие достигает таких пределов, когда мир, в котором эти существа живут вместе с нами, кажется, обретает другую природу и подчиняется другим физическим законам! Предтавьте себе стихи, написанные в мире, где не работает закон земного притяжения. А похоже, что речь Чвирика и Чвирки, явленная нам в переводах Ольги Мартыновой, – это именно стихотворная речь и при этом часто речь космогоническая, потому что здесь утверждается, будто «этот мир построен нами для плоти и крови», отя с великолепной мифологической непоследовательностью которая и есть самая последняя в любом мире точность) сообщатся, что эти птицы есть время или вот эти конкретные минуты, которые «капают в компот», или «болят у Чвирки в зубах», или Чвирик был этой минутой», или «нет минуты этой, и нет минуты ой, ни третьей, ни четвертой, ни первой, ни второй». Я бы хотел, чтобы какой-нибудь физик-теоретик взялся прокомментировать точки зрения своей науки вот эти строки:
ЧВИРКА И ЧВИРИК РАЗГОВАРИВАЮТ, КОГДА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ СПИТ
– Когда мы, Чвирик, выбирали
Для света самого дневного
Поблёстче воздуха частицы
Из наших времени запасов,
Не знали, Чвирик, мы не знали,
Что в этом свете, как в темнице,
Мы будем заперты, младенцы
Для нас ветшающего мира.
– Подумай, Чвирка, эта скорость
Затем ли бабочкой сбежала
Из нежно медленного рта,
Чтоб тормозить времен кружала?
– Не знаю, Чвирик, только страшно,
Что изморозь невременная
Уронит этот свет как в морось
В неслыханное тра-та-та.
Уверен, что «неслыханное тра-та-та» – не звукоподражание, а просто термин, не имеющий соответствия в человеческом языке, но совпадающий с «тамошними» принципами. Скажешь ли тут вслед за Пушкиным: «плохая физика, но какая поэзия»? О качестве поэзии мы худо-бедно можем судить, а в том, какая физика работает в описанном мире, хотелось бы разобраться, потому что эта реальность лишь частично совпадает с нашей действительностью. (А может быть, падение света, как в морось, в это самое «тра-та-та» и есть на самом деле впадение в «неслыханную простоту»?) Порой мы радостно узнаем наши реалии, но они для нас слегка искажены, вернее, остраннены11
Я пользуюсь термином Шкловского, возвращая слову «остраннение» второе «н», поскольку первоначальная семантика привнесения странности в знакомое в данном случае важнее терминологической точности. – В. Б.
[Закрыть], отражены как бы чужим зрением, и привычные нам результаты порождены вроде бы совсем иными причинами:
Вот и лето улетело
на внезапном помеле,
съело нижний свет и село
миской ягод на столе.
Так в Чвиркином мире наступает осень. Знакомая примета – миска ягод на столе, но вот то, что оседание миски на столе приходит посредством съедения нижнего света, мы слышим, кажется, впервые.
Чвирик и Чвирка болеют временем, ставят заплатки на его дыры, когда бесповоротно, как не бывало, исчезают минуты, заботятся о пространстве или, скорее, создают его из беспространства. Края прорех во времени и пространстве соединяются нитями, накрепко сплетенными из противоположностей, чье единство наиболее отчетливо проступает во время войны. Вот песня Чвирика, которую он поет на войне:
Еще я не погиб
В родном-чужом краю.
Еще закат-восход
Зовет меня в поход.
Мой ратный труд –
Обратный круг.
Мой родный брат –
Обратный враг.
Сказанное – лишь предварительные замечания о токах жизни, бьющейся внутри цикла стихов о Чвирике и Чвирке. Но эта поэзия такова, что требует дополнительной попытки рассмотреть е в нескольких контекстах.
Первое, что бросается в глаза всякому, кто знаком с русской литературой, – это соотнесенность стихов цикла с поэтикой обериутов, в особенности Александра Введенского, о котором Ольга Мартынова написала блистательное эссе и именем которого назвала свою предыдущую поэму-ораторию. Не говоря о системе чисто литературных приемов, используемых вослед обериутам, Мартынова демонстративно делает своими темами то же, что более всего волновало Введенского, – Время и Смерть. Этот разговор требует обстоятельного рассмотрения, но для того, чтобы стало ясно, о чем идет речь, достаточно привести только две трочки из известного стихотворения Введенского:
Мне трудно, что я с минутами,
Меня они страшно запутали.
Это явно те же минуты, что в стихах Мартыновой застревают во рту у Чвирика или капают в компот. Это вовсе не означает, что тихи цикла хоть в чем-то подражательны, поэтика Мартыновой продолжает оставаться резко своеобычной – просто поэт пользуется тем языком, который был предложен обериутами для поэтического исследования некоторых сторон человеческого существования. Упомянутое эссе о Введенском заканчивается словами: Заговорит ли кто их (обериутов) языком? Всерьез. Завершая их, не эпигонствуя». Мартынова и заговорила – без тени эпигонтва – свободно и независимо – на равных.
А теперь необходимо вспомнить, что стихи о Чвирике и Чвирке имеют подзаголовок: «стихи из романа о попугаях». Русские тихи из романа, написанного по-немецки и существующего олько на этом языке («Sogar Papageien űberleben uns»)! Это, вообще говоря, дерзость неслыханная – на такое не решился даже абсолютно бесстрашный двуязычный Набоков, хотя и подошел к такому замыслу невероятно близко, но все же не ближе мультилингвистических каламбуров.
Но стихи и не включены в роман, и роман не о попугаях! Стихи всё же принадлежат, вероятно, героине романа, от лица которой ведется повествование. Это молодая германистка из Петербурга, попутно занимающаяся творчеством Введенского и рассказывающая историю своей семьи. Каждая главка романа открывается цепочкой одних и тех же дат, большая часть которых напечатаны слепым шрифтом. Отчетливо проступают лишь те годы, о которых идет речь в настоящей главе. Цепочка начинается задолго до рождества Христова и заканчивается 2006 годом. Каждый из обозначенных годов так или иначе упоминается. Немецкий язык оказывается необходим русскому автору не для того, чтобы блеснуть высокой степенью овладения неродным наречием, но для того, чтобы с удвоенной силой провести прием остраннения. Остраннения бывших вещей, прошедших лет, несуществующей страны (Советского Союза). Это можно с полной убедительностью сделать, лишь рассказывая тем, кто не знает об этом ничего, – и на другом языке. Роман чаще всего требует любовной интриги, и история любви (несостоявшейся и неутоленной) молодой ленинградки-петербуржанки и немца Андреаса могла бы стать такой интригой, но… не становится. Вместо развития классического романного сюжета – разговоры с поэтами и художниками, рассказы о бабушке и тетушках, посещение зоопарка с пространными портретами многоразличных птиц, ну, да, попугаев.
Русские писатели уже давно и хорошо освоили зоопарк. У Виктора Шкловского есть роман: «Zoo, или письма не о любви». Женщина, не желающая отвечать на чувства своего поклонника запрещает ему писать ей письма о любви. При таком табу все сказанное, в частности, об обитателях зверинца становится метафорой любви. Метафоры позволяют сказать о любви гораздо больше, чем прямой разговор. На женщину надвигается громада метафор – умоляющих, грозящих, унижающих и самоуничижительных. Впрочем, женщина легко со всем этим справляется: достаточно всего только не любить.
У Мартыновой внешне похоже, но все не так. Она не пользуется метафорами любви, она говорит о том, что с любовью соседствует – по случайности. Здесь скорее род метонимии.
Поскольку в романе часто обсуждается Александр Введенский, в одном из разговоров приводится цитата: «Да и всякое вообще описание неверно. «„Человек сидит, у него корабль над головой“ се же наверное правильнее, чем „человек сидит и читает книгу“». Далее говорится о том, что хорошо бы написать роман по этому принципу Введенского. Такой роман и написан.
Читатель оповещен о главном событии, но описывается не амо событие, а то, что у человека «над головой». Вот откуда зверинец, попугаи, бывшие вещи и т.п. О чем хочет говорить поэтически одаренная женщина, когда брезжит возможность возродить неутоленное чувство? О, это всякий знает! Но… она пишет тихи о попугаях, о времени и заплатах на нем, о беспространстве и чвириканье.
Можно ли после этого считать, что это стихи не о любви?
Но оставим немецкий роман: русские стихи о Чвирике и Чвирке живут самостоятельной жизнью и, по словам самой Мартыновой, эти стихи никогда не встретятся с романом под одной обложкой. Мне кажется, интересно было бы приглядеться внимательней к птицам. Еще в самом начале цикла, когда не птицы глядят на человеческий мир, а мы впервые разглядываем их как цветастые экзотические создания, что-то уже там было сказано, что мы упустили, а потом смутно и сами стали догадываться? Вот оно: «Кто их выпустил из рая (и зря)?» И еще: «Божий Чвирик чивирикал в (с)аду». Вот же оно: наш сад, то есть место, которое мы с охотой приравниваем к райским кущам, и где нам бывает хорошо, – это д, куда Чвирик и Чвирка попали из подлинного эдема, причем попали добровольно: их не изгнали, но «выпустили». Во всяком лучае, это не нашего света создания (мы уже отмечали, что в их мире другая физика): «но в том-то и дело, что Чвирик не птица». Но они и не потусторонние существа. Чвириков не видно с земли, потому что их тела синие в синем небе, огненные – на солнце и ртутные в лунном свете; но их не видно также и с луны, и с солнца, и со звезд, потому что при взгляде оттуда они приобретают емные характеристики – сливаются с пеной океана, со снегом, ветом дня. Это существа не надмирные, а межмирные. Они попытались жить среди нас, и оказалось, что они это могут:
Земную жизнь задумал Чвирик.
И что сказать? Она ему, пожалуй, удалась.
Но Чвирка так ему сказала:
– Я вяну здесь,
Давай вернемся.
И Чвирик Чвирку пожалел.
Значит ли это, что, возвращаясь (в рай?), они умерли? Не думаю. Мне представляется, что Чвирик и Чвирка (как это точно, что их двое!) – это метафора некой тонкой межмирной плоти, о которой говорится в загадочных поначалу стихах:
Упав с велосипеда, знаешь вдруг:
между тобой и миром – плоть,
и так тонка, и так капризна,
что грубой и выносливой душе
она сплошная укоризна.
В этом же стихотворении и удачный неологизм, похожий скорее на архаическое словоупотребление – «зе́ркло» и появление Леонида Аронзона в момент встречи в нем двух миров, что для нас означало трагический конец поэта, а для него самого, по всей видимости, переход из его земного райского сада в какой-то другой, нам неизвестный, но им предвиденный. В этом стихотворении Чвирик и Чвирка не упоминаются вовсе, и на первых порах недоумеваешь, почему оно вплелось в цикл о попугаях. Потом, задумавшись о том, каким именем скреплены эти стихи, понимаешь, что ассоциация самая прямая: Аронзон – некая залетная райская птица, обустроившая рай прямо здесь, среди нас. По всей видимости, Аронзон – это еще и неотвязная мысль, которая владеет автором наряду с открыто названными обериутами, в особенности Введенским.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































