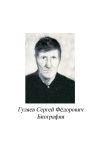Текст книги "Сергей Бондарчук. Его война и мир"
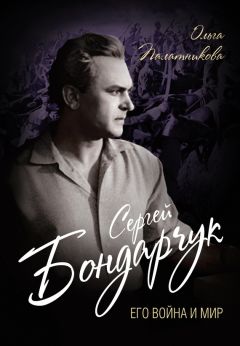
Автор книги: Ольга Палатникова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
народная артистка России
Снималась в фильмах: «Война и мир», «Чайковский», «Опасный поворот», «Дела сердечные», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Строгая мужская жизнь», «Клуб женщин» и других.
Я училась на последнем дипломном курсе Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Резвимся мы как-то на перемене, подходит дама:
– Я из съёмочной группы фильма «Война и мир».
Мы и не подумали преисполниться почтения: при чём тут кино, мы без пяти минут артисты театра, нас ждёт сцена!
Дама не смущается:
– Кто бы мог подойти на князя Андрея?
Ну, думаю, будет вам сейчас князь Андрей.
– Вот Серёжа Дрейден, – говорю.
Ныне Сережа – известный артист, особенно у нас в Петербурге, а тогда был длиннющий парень, угловатый, смешной… Просто анти-Андрей!
Посмотрела она на него…
– А кто бы мог сыграть маленькую княгиню?
На нашем курсе училась Люда Шкилко, в кино ещё девочкой снималась – в первой версии «Двух капитанов» играла маленькую Катю… Я опять «вылезаю»:
– Посмотрите, какая миленькая у нас Людочка Шкилко.
Дама записывает, а сама на меня поглядывает:
– А княжна Марья есть у вас?
Тут опять меня будто кто-то за язык дернул:
– А! Эта «костлявая спина»!
Мосфильмовская дама пристально смотрит мне в глаза:
– А не хотели бы на роль княжны Марьи попробоваться вы?
– Нет, – не задумавшись, выпалила я.
Я тогда бредила театром, о кино не думала… Не нравилась я себе на фотографиях и была уверена: раз я нефотогенична, то, очевидно, и некиногенична.
Адиба Шир-Ахмедова – ассистент по актёрам «Войны и мира», и, как я позже узнала, однокурсница Сергея Фёдоровича по ВГИКу, не отстала, напросилась в гости, рылась в моих фотографиях. У меня был приятель, он работал вторым оператором на «Ленфильме», только он мог меня хорошо снять, и именно его фотографии, к ужасу мамы, Адиба уволокла в Москву. На этих фото были как-то по-особому высвечены мои глаза. Наверное, на глаза и было обращено внимание, потому что пришла телеграмма с вызовом на кинопробы в фильме «Война и мир». Я принесла её в институт, мы всем курсом посмеялись, и никуда я не поехала. Тогда началась бомбёжка телеграммами. Показала эту пачку своему мастеру, Татьяне Григорьевне Сойниковой. Она пожала плечами:
– Ой, дружочек, право слово, какая же вы княжна Марья?!
Да я и сама знала, что не княжна Марья. Но когда очередная и довольно грозная телеграмма, подписанная Бондарчуком, пришла в деканат, Татьяна Григорьевна спросила:
– Вы в Москве бывали? – И моё односложное «нет» рассудила – Поезжайте, посмотрите город…
Дальше начались мои метания: в институте дипломные спектакли, а я готовлюсь в поездах: Питер-Москва, Москва-Питер. Проб было очень много, и поначалу относилась я к ним без всякого энтузиазма. Приеду на «Мосфильм», наденут на меня случайный костюм, причёску быстренько сделают, сыграю, билет в зубы, и на улицу. А в Москве у меня знакомых нет, вот я и смотрю город, ем мороженое, сижу в кинотеатре, потом на вокзале жду своего ночного. Разок-другой было интересно, потом погода испортилась, не в радость это стало.
На роль княжны Марьи было 17 претенденток. Мне всё время сообщали, какая я по счету – девятая, седьмая, и, как ни странно, во мне проснулся спортивный азарт. Когда осталось только три актрисы, я познакомилась с Кторовым – своим будущим «батюшкой». Мы как-то сразу прониклись друг к другу. Я – потому что он любимый артист моей мамы, а он – уж не знаю почему. Он стал меня называть «барышня Тоня». Но Бондарчука я ещё не видела. И вот сидим мы с Анатолием Петровичем на гриме, вдруг вокруг нас начинается какое-то гудение, охи-суматохи, и я в большое зеркало гримёрной вижу, как открывается дверь и входит Бондарчук. Красивый, с вьющейся гривой, в роскошном светлом пиджаке… Ручки-ножки, конечно, затряслись. Встал он за моей спиной и в наступившей тишине через зеркало изучает меня. Я запаниковала. Дёрнулась со своего кресла, чтобы вскочить, как ученица перед учителем. А потом думаю: «Какого чёрта? Он – мужчина, с какой стати я должна перед ним вставать?» Обратно ввинчиваюсь в кресло. А в мозгу проносится: «Он же мэтр, а я – молодая актриса, пока лишь претендентка на роль…» – и опять выползаю из кресла. Он всё это спокойно, даже нейтрально наблюдает. И оттого, что он видит мои неловкие телодвижения, я начала краснеть, что мне в жизни вообще несвойственно. А тут пошла красными пятнами, и до слёз; «красные пятна еще сильнее выступили на лбу, на шее, на щеках…» – так у Толстого про княжну Марью написано. Поникла, взглянуть на Бондарчука не решаюсь. Но ему понравилось.
– У кого заканчиваете? – спросил доброжелательно.
– У Татьяны Григорьевны Сойниковой.
– Что готовите на диплом?
– Оливию и Виолу в «Двенадцатой ночи», Аркадину, еще купчиху Круглову в «Не всё коту масленица».
– Гмм… понятно.
Повернулся и пошёл. За ним уже закрывалась дверь, и до меня донеслось: «Эту девочку…» – а что делать с «этой девочкой», унеслось вместе с ним… Но вокруг меня мгновенно вихри закружились, быстро поменяли костюм, сосредоточились на прическе, на гриме. И мы с Анатолием Петровичем сыграли на пробе, уже перед Бондарчуком, с внутренним ощущением, что вышли на финишную прямую. Однако в группе мне, как всегда, сказали: «Спасибо, вот ваш железнодорожный билет».
А потом были дипломные спектакли, поступление в труппу прославленного ленинградского ТЮЗа. Лето заканчивалось… В один прекрасный августовский день я стою на троллейбусной остановке и от нечего делать почитываю на щите газеты. Вот оно! «Снимается „Война и мир“!» Ну-ка, ну-ка, кто же утверждён? Наташа Ростова – ленинградская балерина Людмила Савельева, Андрей Болконский – Вячеслав Тихонов, Пьер Безухов – ого! сам; так… а кто княжна Марья? Читаю – Т. Шуранова. Однофамилица, что ли? А в период проб я несколько раз приезжала в группу вместе с моим знаменитым земляком, ведущим артистом БДТ Владиславом Игнатьевичем Стржельчиком (он играл Наполеона, как всегда и везде – мастерски). Стржельчик звал меня Тонюша, и кто-то у них подумал, что я – Татьяна. Вечером пришла телеграмма: «Поздравляем утверждением».
Сначала шли бессчётные репетиции. По-моему, Бондарчук был от меня в отчаянии, однажды сказал: «Святости в тебе маловато». Святости и в самом деле не было. Приближается мой первый съемочный день, а святости нет как нет. Я уже есть не могу – в горле комок, похудела страшно, а он всё молчит. Что же делать?.. Настраиваюсь, как могу: стараюсь зрительно вспомнить фреску Феофана Грека, которую видела в храме Спаса Преображения в Новгороде Великом. Еще смотрела много репродукций икон, читала книги. В общем, напитывалась.
Ночь перед первой в жизни съёмкой я не спала. Снималась сцена прощания брата и сестры: Андрей уезжает в действующую армию, на войну, и Марья хочет благословить его образком. Марья долго мнётся, держа руку в ридикюле, где лежит образок, и, наконец, решается. Андрей, увидев образок, благожелательно произносит: «Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет…» Он наклоняет голову, и я со словами: «Против твоей воли он спасёт и помилует тебя…» – надеваю этот образок. Сергей Фёдорович скомандовал: «Мотор!» – и у меня пропал голос. Я просто стала шептать. Сняли первый дубль. Кошусь на Бондарчука, а он насторожился, и глаза загорелись. На репетиции сидел, опустив голову и закрыв лицо ладонями, а теперь встрепенулся. Ой, думаю, сейчас будет бить: я же всю сцену прошептала. Я попробовала покашлять, как-то восстановить голос, а он не даёт передышки: «Второй дубль!» – из меня только прерывистое дыхание и сип. Так же на шёпоте и второй дубль сыграла… Слышу: «Стоп!» Повесила голову: это конец – мой первый съёмочный день стал последним. А Сергей Фёдорович подошёл, обхватил меня, прижал к себе:

Антонина Шуранова в роли княжны Марии

Анатолий Кторов в роли старого князя Болконского
– Мать! Ну, наконец-то!
– Что «наконец-то»? – Я глотала слёзы. – У меня же голос пропал!
А он в ответ мягко, но припечатывая:
– Так вот так и надо!
В нашем деле очень важно попасть в тон роли. Взять этот тон поначалу не получалось. У меня был поставленный голос, влекли характеры женщин героических, очень хотела сыграть Жанну Д’Арк, и вообще по натуре я тогда была этакая воительница. А это не вязалось с человеческой природой княжны Марьи, с её постоянным ощущением своих несовершенств, застенчивостью. Но я же весь период проб шла к ней, думала о ней, и наконец-то фразы Толстого о княжне Марье, которые я столько раз читала, словно проросли во мне: «Все сложные законы человечества сосредотачивались для неё в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения… Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить…». И когда Сергей Фёдорович, вдруг загоревшись, повелительно сказал: «Второй дубль! Сразу!» – это «страдать и любить» из меня потекло, совершенно свободно и даже независимо от меня. Таким было первое ощущение входа в роль. Я не играла; всем, чем жила в данный момент княжна Марья, жила и я. Это очень редко случается с актёрами. Обычно мы изображаем, проигрываем состояние человека. А когда это состояние наживается и проживается – это самое большое счастье. И всё же до сих пор не понимаю: ведь Сергей Фёдорович в тот мой первый съёмочный день знал и чувствовал княжну Марью во сто крат сильнее меня, так почему же мне ничего не говорил? Или он хотел, чтобы я на её душу набрела сама и открыла для себя эту душу сама… Сказал бы на репетиции: «Сыграй шёпотом», – я бы сыграла, но тогда в работе со мной это был бы формальный прием, потому что к своему от волнения севшему до шёпота голосу я была внутренне ещё не готова. Так и не знаю: то ли случай помог, что голос пропал, то ли это были явлены великое терпение и мудрость Бондарчука…
А дальше началось бесконечное мотание между Ленинградом и Москвой… Бегу по утреннему «Мосфильму», сажусь на грим, одеваюсь в костюмерной, и всё это время подготовки, и, тем более, съёмки, я уже не я. Опять в поезд, я дома, а Марья из меня не выходит – могла всплакнуть от любого грубого слова, от любой вульгарности, хотя в жизни я совершенно не плаксива, а тут во мне что-то сдвинулось, размягчилось.
Атмосфера на съёмках «Войны и мира» была поразительная. Больше с таким качеством работы в кино я не встречалась. Хотя у Никиты Михалкова тоже очень хорошая атмосфера, но он добивается этого другим способом – со всеми дружит. Помню, перед началом съёмок «Неоконченной пьесы для механического пианино» для всей группы был устроен пышный банкет, Никита собирал дружную команду, такой принцип работы командой порождал и ответственность каждого, но и демократичность. У Бондарчука демократичности не было: была диктаторская власть, но власть, шедшая исключительно на благо делу. И я, попавшая с первого раза в такую атмосферу сосредоточенности, потом не могла примириться с беспорядком в других группах, с неорганизованностью, с отсутствием дисциплины. Ритм работы у Сергея Фёдоровича на всю жизнь приучил меня к порядку и самодисциплине, что очень важно. Я даже на «Войне и мире», когда освоилась, вскидывалась из-за задержки:
– Чего мы ждём, чего? Я уже переполнена Марьей, а они никак свет не поставят!
Конечно, возмущалась не на весь павильон, перед Анатолием Петровичем только. Он наставлял:
– Барышня Тоня, первая заповедь в кинематографе – уметь ждать.
Когда Бондарчук увидел, что меня взялся опекать Анатолий Петрович, он от нас отстал – как-то очень нам поверил. Поначалу я трепыхалась, хлопотала лицом, пластикой. Кторов учил меня сдержанности перед камерой:
– Не надо всё показывать.
– В каком смысле?
– Вы так переживаете, что у вас лицо ходуном ходит. Это же крупный план. Спокойнее. Не плачьте, а скрывайте слёзы, не робейте, а скрывайте робость. Если внутри есть, на лице проступит.
Хотя сам трепетал не меньше меня.
– Анатолий Петрович, вы-то что волнуетесь? Вы же кинозубр!
– Эх, барышня Тоня, я 37 лет не снимался в кино.
После старой «Бесприданницы», где он был блистательным Паратовым, через столько лет он, кумир кинопублики 20—30-х, вернулся в кино, чтобы сыграть в «Войне и мире» у Бондарчука.
Очень трудными для меня были съёмки сцены смерти старого князя Болконского. Я стояла на коленях перед кроватью, на которой лежал мой умирающий батюшка, держала его за руку и рыдала. Сначала снимали крупно Анатолия Петровича, этот его вздох: «Да… погибла Россия… погубили», – и выкатывающаяся из глаза слеза… грандиозно он играет! А Сергей Фёдорович после каждого дубля мне в ухо: «Береги силы!» Как «береги силы»? Я же не могу загнать слёзы внутрь, а потом выгнать наружу! Они льются, потому что я так чувствую в настоящий момент. Двенадцать дублей я снималась затылком.
– А теперь давай, – ободряюще сказал Бондарчук, – то же самое на твоём крупном плане.
Камера теперь близко передо мной, наклоняюсь к Кторову – и чувствую, что на меня ничто не действует. Всё. Ступор. Губы не дрожат, глаза сухие…
– Стоп, стоп, стоп! Перерыв. – Бондарчук улыбается мне и шепчет – Помочь?
Я тоже шёпотом, доверчиво:
– Да! А как?
Подзывает он помощника. Тот приносит металлическую трубочку с решёточкой и подносит к моему лицу. Я подскочила:
– Что это? Что?!
– Ты же просила помочь. Внутри этого приспособленьица смесь, которая раздражает слизистую глаза. Сейчас дунем тебе в глаза, и покатятся они, покатятся сердешные, крупные слёзы, которые так нам желанны…
Как я завопила:
– Не-ет! Я глицериновыми слезами плакать не буду!
И тут же у меня от ужаса и стыда градом полились слёзы. Два дубля добросовестно отревела. Хитрец Сергей Фёдорович. Целая жизнь прошла, а как сейчас слышу это его ироничное: «Помочь?»…
Уже тогда я видела, как много у него на «Мосфильме» недругов, потому что если он кого-то не любил, то никогда не строил «хорошую мину», но если любил, то беспокоился, как о родном человеке… Завершился мой последний съёмочный день, влетаю на крыльях в группу, и выясняется, что мне забыли купить билет на поезд. А я очень хочу поскорее уехать, устала. Худрук нашего ТЮЗа, крупнейший театральный режиссёр Зиновий Яковлевич Корогодский любил повторять: «Участвуйте в постановках на радио, на телевидении, снимайтесь до изнеможения в кино, а лечиться возвращайтесь в театр». Вот я и рвусь в театр, домой, а билета нет… Бондарчук поглядел на меня, снял телефонную трубку, минутку поговорил с каким-то «тузом» из МПС, так начальник Ленинградского вокзала нёсся ко мне вприпрыжку с билетом в зубах. У Сергея Фёдоровича был очень могучий авторитет в обществе. Но он никогда не нёс себя, никогда, по-моему, не превозносил своё общественное положение. Не высокими званиями он жил в то время, он жил Толстым.
Пожалуй, я больше не встречала режиссёра, так прочно и всеобъемлюще погружённого в материал, как Бондарчук. Он был переполнен знанием Толстого и о Толстом; знаниями о времени действия романа. По-моему, всё, что говорили консультанты по этикету, по быту, все замечания историков – он всё это знал и слушал их только уважения ради.
И ещё, что, по-моему, очень существенно, – он постоянно держал в себе своего героя. Даже когда Сергей Фёдорович не снимался, репетировал с нами, согласовывал что-то с оператором или художниками, вникал в массу проблем, то и дело возникающих на съёмочной площадке, у меня было ощущение, что он, такой знакомый, в современной одежде, без грима, без сюртука и панталон, всё равно – полу-Бондарчук, полу-Пьер. На мой взгляд, Пьера он сыграл прекрасно. А сцена из четвёртой серии, когда французский капрал не пускает пленного Пьера к греющимся у костра пленным солдатам, и он кричит: «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Меня? Меня – мою бессмертную душу!» – и потом истерически хохочет, по-моему, вообще одна из сильнейших актёрских сцен, не только в нашем – в мировом кино. Такие из Сергея Фёдоровича в этом монологе токи бьют – мурашки по коже.
…Тогда уже прошла по нашим экранам американская двухсерийная картина «Война и мир». На мой взгляд, этакая развесистая клюква. Тем не менее, мои петербургские друзья-снобы вещали:
– Американская «Война и мир» – это настоящее! А наша – иллюстрация.
Я от таких высказываний увядала, но в спор не вступала: я же лицо не постороннее, более того, я – лицо влюблённое. Русский фильм «Война и мир» завоевал премию «Оскар» и ещё массу других призов, и я чувствовала, что не все с моими друзьями, сбрендившими от американской ленты, солидарны. Недавно нашу картину опять показали по телевидению (Слава Богу, показывают иногда), так у меня в доме телефон не утихал. Многие их тех ретивых приверженцев американской «Войны и мира» совсем по-другому запели: мне комплименты расточают и вообще восхищаются нашим фильмом. Я не удержалась и одной подруге говорю:
– А помнишь, как ты причитала: «Ах, до чего же Одри Хепбёрн прелестна! А Мел Феррер – чудесный Андрей, а Генри Фонда – замечательный Пьер»?
– Странно, – мямлит подруга, – в «Двенадцати разгневанных мужчинах» Генри Фонду отлично помню, а в роли Безухова – абсолютно нет.
– А я помню всё! Все ваши восторги. Потому что мне было обидно.
– Но сейчас наш фильм совершенно иначе воспринимается, наверное, он как-то отлежался, отстоялся…
– Ага! И мы вместе с фильмом тоже. А пока «отстаивались и отлёживались», такой нахлебались американской дряни и в таком количестве, что поневоле начали ценить своё. Великое своё.
Я думаю, что Сергей Фёдорович Бондарчук – из тех немногих мастеров кино, кто принадлежит к истинно российской, почвенной кинематографической школе. Бондарчук – всеми корнями из русской земли идущий. Вот это его почвенное начало, его славянская мощь – пожалуй, самое выдающееся качество его творческой индивидуальности. В этом его огромное превосходство и вместе с тем некая ограниченность. Ограниченность в том смысле, что я не представляю его, допустим, в камзоле и парике – персонажем из эпохи Людовика XIV. Есть в нём граничащая с ортодоксальностью преданность русской классике. Толстому. Толстого, по-моему, он вообще очень любил. Это и в «Отце Сергии» чувствуется. А с каким мастерством он читает закадровый текст в «Войне и мире»! У меня такое ощущение, что как только возникал за кадром голос Бондарчука, каждая сцена, даже каждый пейзажный план приобретали иной объём, духовно-размышленческий объём. Сила его актёрского проникновения в ткань толстовского повествования делает экранизацию «Войны и мира», с моей точки зрения, кинопроизведением православно-философским.
Для меня же всю картину он вообще был как бог.
…Впервые увидела себя на экране – шок! Пришли мы с Настей Вертинской в тон-ателье озвучивать нашу парную сцену: беременная княгиня Лиза Болконская сидит вся в нирване, вся в своём животике, а княжна Марья получила известие о смерти Андрея и колеблется: говорить – не говорить. Она сидит довольная, со своим пузиком, а я стою рядом и реву белугой. Мы были ужасно разочарованы: какой же глупой получилась эта сцена! Что, маленькая княгиня такая дура, если не замечает слёз Марьи? И еще: рядом с красивой Настей я как трёпаная ворона…
Приходит Бондарчук – и нам весело:
– Ну, как? Понравились себе?
Мы с Настей переглянулись, сели, приникли друг к другу головками – и в рёв. Он ахнул:
– Девочки! Да вы что! – И обращается уже ко мне. – Будут сцены, где ты красивая.
– При чём тут красивая – некрасивая, – всхлипываю, – я бездарная!
– Да объясните, наконец, в чём дело?
– Если она не замечает, что я плачу, значит, это плохо сыграно! Ведь она же не сумасшедшая!
– Лиза должна спросить: «Отчего ты плачешь, Мари?» – шмыгает носом Настя.
Сергей Фёдорович отнесся к нашим впечатлениям очень серьёзно:
– Хорошо, переснимем. – Ещё немножко подумал. – Нет, переснимать не будем. Мы сейчас от экрана не пойдём. Ты постарайся в голосе не выдавать, что плачешь.
– Как же? Ведь слёзы видны!
– А ты на них не обращай внимания.
Мы с Настей записали сцену, как сказал Сергей Фёдорович, и получилось! У Марьи нос краснеет, она плачет, но разговаривает с Лизой сдержанно – как бы глотает горе. А Лиза сосредоточена только на своем состоянии, вслушивается в себя, поэтому и не замечает ничего. В сцене появилось благородство, тонкий психологизм. Что и говорить: такого проницательного, такого свободного дарования, как Сергей Фёдорович, я на своём кинематографическом веку больше не встречала. Хотя у меня не так много работ в кино. Съёмки всегда тяжело давались. Я, можно сказать, однолюб, очень люблю театр. Ведь кино – как болезнь! Оно, конечно, калечит: берёт нас готовыми и подгоняет под определённый режиссёрский стереотип. А формирует нас театр. Но сыгранная в кино роль, тем более, если в её основе классический литературный образ, если она отрабатывалась во взаимодействии с режиссёром-творцом, навсегда остаётся частью твоей натуры, и достаточно любого предлога, чтобы она тут же явилась к жизни.
После «Войны и мира» прошло несколько лет. Снимаюсь на киностудии имени Горького, иду по коридору, навстречу – статный красавец в эсэсовском мундире – Вячеслав Тихонов. Отношения на картине у нас были славные, тёплые, с моей точки зрения, князя Андрея он сыграл очень достойно, хотя во время съёмок я не раз замечала, как он нервничает. И вдруг этот, в скором будущем всенародный любимец Штирлиц кидается ко мне с распростёртыми объятиями: «Сестричка! Душенька!»
Интересная, захватывающая работа, неважно, сколько пройдет лет, и что ты сыграешь впоследствии, она всё равно сидит во всех клеточках. Стоит мне вспомнить любую свою сцену из «Войны и мира»… например, маленький разговор Марьи с Пьером из четвёртой серии. Вот мы с Сергеем Фёдоровичем друг против друга, сквозь безуховские очки смотрит он на мою княжну Марью добрыми, участливыми глазами, склоняется к руке… И во мне происходит не просто всплеск памяти; я чувствую, как от этого воспоминания меняется моя пластика, я иначе слышу звуки, воспринимаю цвета, даже во рту другой привкус – сыгранным когда-то характером наполняется вся сенсорная система. От этого невозможно избавиться. Это становится составом тела, составом души навсегда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?