Текст книги "Кровь неделимая"
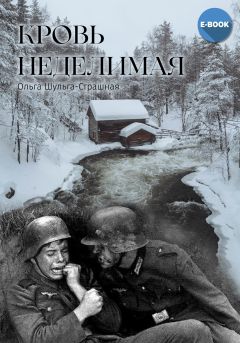
Автор книги: Ольга Шульга-Страшная
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Шаль…. И валенки, – я видела, что дед, как впрочем и я, даже не заметил, что я топала до самой его избы босиком.
– А дак она в полынью-то упала, не удержалась, значится…, – сочувствовал дед, – да и валенки, выходит.
– Не моё это всё, чужое!
– Сама жива, и слава Богу! – припечатал мои переживания старик.
– Слава Богу, – как эхо откликнулась я. Потом я подняла онемевшие веки и разглядела дедову избу. Она и внутри была бревенчатой как снаружи. А печь была свежевыбеленной, она сияла, как снег. И я увидела старый эмалированный чайник, шипящий на раскаленной загнетке, и пар струился кверху из его носика, и колотый сахар лежал посередине стола на щербатом блюдце.
– Дедушка, ты кто? Как тебя зовут? – я чувствовала, что дед совсем не прост. Он иногда разговаривал, как образованный или, как минимум, грамотный человек, а иногда так, как будто он и за пенсию расписывался чернильным отпечатком своего пальца.
– Грыгорий, – улыбнулся старик неожиданно полнозубой улыбкой. И оттого, что зубы были сочного желтого цвета, я поняла, что они все – живые, его родные личные зубы.
– Дедушка, ты видел, кто меня хотел…, – я не решалась сказать слова «убить», но дед и так догадался.
– Дак ухрустел он, однако, не догнать, да и ты повисла.
– Логично, – попыталась улыбнуться я.
– А то! – спокойно констатировал дед. Так спокойно, как будто в этой ср…, в этой прок…, ну в общем в этой несчастной Зиньковке каждый день молоденькие москвички падают с мостков в полынью прямо у него под носом.
Через пару минут мы уже сидели на широченных, как лавки, табуретах, и сопели над чашками с мятным чаем и хрустели колючими осколками приторного сахара. Я такого лет сто в магазинах не видела. Кажется, он раньше продавался на вес целыми сахарными «головками».
– Дедушка, а чья могилка там над обрывом под березой?
– Над взгорком-та?
– Ну да….
– Дак знамо чья – человечья…, – как-то странно ответил мне «Грыгорий».
– Да я понимаю, что не медведь там похоронен. А кто именно?
– Дак мало ли кто. Могилка старая, имени не упомнит уж никто.
– Совсем никто?
– Я – не помню, – соврал дед.
То, что он соврал, я поняла сразу. Дед не умел врать. И правду сказать не хотел. Да что за круговая порука в этой Зиньковке? Что за тайну все они скрывают? Я вспомнила недомолвки и переглядывания Василисы Андреевны и Захара Михалыча. Что это за врунливая деревня такая, в самом деле! И кто, действительно, решил то ли напугать меня до смерти, то ли по-настоящему убить? Плечи мои опять невольно передернулись, как будто стряхивая смертельный страх.
– Как же я обратно пойду, дедушка? – я видела, что дед уже разделся до рубахи и даже в мыслях не держал, что несостоявшуюся покойницу нужно проводить обратно по скользким мосткам.
Как будто в ответ на мои страхи хлопнула дверь в сенях, потом распахнулась внутренняя дверь, и когда пар рассеялся, я увидела бледную даже сквозь морозный румянец Василису Андреевну.
– Жива? – она быстро-быстро пообкидывала меня своими яркими глазами, как будто удостоверяясь в моей целости, – жива, слава Христу….
– А вы откуда…?
– Дак тебя нет, да нет. А тут мостки покарябаны все, рукавичка на тросике висит, а в полынье – шаль! Аж сердце зашлось. Ну-ка, думаю, под лед девку утянуло! А потом вижу – следы! – суетилась вокруг меня старуха. Она быстренько так нацепила на меня все мои теплые вещи и одну-единственную на самом деле рукавичку. Я и не заметила, что она у меня одна. Дед Григорий молча наблюдал за ее хлопотами и в глаза почему-то не смотрел. Да и Василиса Андреевна как будто не видела старика вовсе, она молча приняла из его рук пару сереньких подшитых кожей валенок, шерстяные носки и скомандовала:
– Пойдем домой.
– До свидания…, – только и успела я оглянуться на деда, – спасибо вам, дедушка.
И краем глаза увидела, что дед протянул руку за своим кургузым тулупом. И я поняла, что отныне буду под его неусыпным надзором. Вот поняла – и всё! По крайней мере до тех пор, пока буду гостить в этой злосчастной Зиньковке, дед будет меня охранять. И я вспомнила, что видела деда во сне, его самого и эти чашки с синенькой каемочкой, и этот чайник с кусочком отколотой эмали на самом носу. Во сне или в детстве. Но я точно знала, что никакого деда в моем детстве не было. И мне незнакомо его такое знакомое до сладкой родственной боли лицо с глубокими и правильными до красивости морщинами. Вот бы мне такого деда…. Доброго, без заумностей и сварливого характера. Куда они в городе подевались, добрые старики и старушки?
Я ничего не понимала и ничего уже не чувствовала. Меня как будто загипнотизировали или, как раньше говорили в народе, заморочили. И эти мороки слепляли мои веки, как будто я не спала несколько дней или даже лет. И я боялась уснуть, потому что накатывавший на меня сон больше походил на смерть. Василиса Андреевна что-то бормотала себе под нос, почти волоком протащив меня через мосток, потом по проулку до своего дома. А как я поднялась на крыльцо, я уже не помнила. Я спала.
Проснулась я поздно утром следующего дня. Меня кто-то несильно тряс за плечо, и монотонный голос все просил и просил:
– Ну-у девушка, ну-у проснись. Ну что с тобой, – это «нуканье» в конце концов мне надоело, и я с трудом разлепила глаза.
Надо мной стояла здоровенная красивая тетка. Она хлопала на меня своими серыми с перламутровым отливом глазищами и продолжала трясти меня.
– Не надо, не тряси, я проснулась, – мне уже казалось, что все мои косточки от ее тряски гремят как камешки в детской погремушке.
– Люба, – прогудела тетка.
– Что – люба?
– Люба я, жена Василь Захарыча, значит.
– А-а…, ясно, а я Дуня.
Люба неожиданно хихикнула. Я даже оторопела. Дожили…. На селе смеются над исконно русским именем, а в Москве оно, кажется, становится модным.
– Да ладно, ты не обижайся. Просто у нас Дунь во всей округе мильон лет уже не было.
– Теперь вот есть. Временно, – за чудненькое слово «мильон» я сразу простила эту кустодиевскую красавицу.
Я с трудом сползла с высоченной кровати, устланной пухлой периной и закиданной многочисленными подушками и моими маленькими тезками – дунечками. Меня всегда смешило, что маленькие подушки на Руси называли дунечками. Но мне это почему-то было и приятно.
– Дунь, а ты зачем у нас?
Люба тем временем, пока я умывалась, быстренько накрыла стол к незатейливому завтраку.
– Да так, по делам. Разузнать кой-чего…, – ляпнула я.
Наверное, мои мозги к тому времени еще не проснулись и забыли все вчерашние наблюдения и приключения.
– Узна-а-ать? – протянула Люба, – а че такого не знают в Москве, че знаем мы?
Если не учитывать ее «че», то вопрос был поставлен весьма грамотно. Действительно, почему моя знаменитая (для меня, по крайней мере) интуиция буквально вопит о том, что здесь я найду ключ к разгадке жизни Егорки? Ведь в Москве на мои вопросы мог бы ответить Власов. Если, конечно, захотел бы. Вот именно – «если»!
– Люба, а где хозяева?
– А в Клинцы поехали с моим. Они всегда раз в неделю затовариваться ездят. Там магазины не чета нашему, говорят – как в Москве! Супермаркеты называются, вот! – с гордостью произнесла Люба.
Так, значит, надзор надо мной снят. Странно, что после вчерашнего происшествия меня так легко оставили наедине с моим любопытством и здешними жителями. Хотя что это я, а Люба? Ну-ка, ну-ка, проверим….
– Люба, душно у вас как. Пойдем, прогуляемся, а то у меня после вчерашних переживаний голова болит.
– Да уж свекруха рассказала. Как это тебя угораздило? Там вазгнуться – раз-два и капут!
– Да, «вазгнуться» у меня получилось. А вот с капутом придется подождать. А ты почему говоришь «капут»? – почти нечаянно спросила я.
– А тут у нас немцы после войны на лесозаводе долго работали. Вот с тех пор всякие там «капуты» и завелись. Вроде местного говора….
Моя фантазия или озарение в преддверии открытия как будто взорвались. Хотя, какие там фантазии, ответ уже проклюнулся и вот-вот должен был пустить росток. Только бы не упустить, только бы…
– Так пойдем, или как?
Люба уже стояла у порога, натягивая на свои широкие и розовые ладони пуховые варежки.
– А я свои потеряла. Вернее, одну.
– Нашла об чем печалиться, на-ка, – Люба тряхнула ситцевую котомку, висевшую на длинной тесемке прямо за печью на ужасающем крюке. Этот средневековый какой-то крюк торчал из бревенчатой стены как призыв для висельника. Если б я знала, как была близка к истине в этой случайно скользнувшей мысли. Нет, ничего случайного все-таки не бывает….
Люба на ощупь поискала-порылась в котомке и достала красные как маки варежки. Рукавичками эти шерстяные блины язык называть не поворачивался.
– А куда пойдем-то? – Люба постояла на крыльце, как полпамятника рабочему и колхознице и протянула руку вдоль улицы, – туда хочешь?
– Ага!
– Ну вот, и ты «заагакала», – рассмеялась Люба, – у нас все дачники к концу лета «агакать» начинают.
– А много у вас дачников бывает?
– Да теперь уже немного. У кого деньги есть, так те свои дачи понастроили. А у кого нет денег, так тем не по карману далеко ездить. А раньше много было. Даже из Москвы приезжали дачи снимать… Ой, – спохватилась она, – что это я разболталась.
– Ты о чем, – я сделала вид, что Люба ничего особенного мне не сказала, – ничего удивительного нет, воздух здесь – не чета московскому. А Подмосковье всегда было забито дачниками. А люди ведь как, они все уединения ищут для отдыха. Что б подальше от людей, что б одни незнакомые вокруг.
– Ну да, ну да….
Мы дружно хрустели по снегу ногами, дружно кивали то одной выглянувшей из-за калитки соседке, то другой:
– Здрасьте, здрасьте….
Со стороны наверное казалось, что идут две старые подружки или знакомые, и вокруг им все тоже знакомое и родное. Мне и вправду все вокруг казалось родным и знакомым, и, главное, хотелось, чтобы оно и было родным. В какой-то миг мне показалось, что я живу здесь давно, и здесь моя малая родина, и могилы на погосте – тоже родные. Кстати, о могилах, как бы выяснить, кто похоронен под тем бурым от старости крестом?
И, как будто в ответ на мои мысли, в конце очередного проулка показался откос с березой и с тем самым крестом.
– Пойдем, на реку посмотрим, – как ни в чем не бывало предложила я.
– А то, пойдем, – добродушно согласилась Люба.
Мы сошли с дороги и пошли гуськом по тропке, протоптанной к самой могиле, которую уже можно было рассмотреть. Она сливалась в ослепительном сверкании снега с берегом, и ствол березы над ней казался серым. И только лучи солнца местами расцвечивали ствол дерева красноватыми пятнами, как будто кто-то подержался за него окровавленными руками. И следы на берёсте так и замерзли навеки.
– Кто-то ходит сюда все время. Смотри, тропка какая утоптанная.
Но Люба вдруг замкнулась в себе, как будто осознала очередную оплошность.
– Пойдем к берегу, вон туда, – она потянула меня в сторону, шагая прямо по пушистому сугробу.
Но я отдернула руку и почти побежала по тропинке к могиле. Я знала, я чувствовала, что меня там ждет разгадка. Но когда я прочла надпись на медной табличке, прикрученной посередине крестовины, я поняла, что загадок стало на одну больше. Такое имя не должно быть здесь написано. Никогда. И особенно с такой датой смерти! И еще ниже, на дереве креста, второе, еще более невероятное имя – «Хельмут Рыжик». Собака, что ли? В одной могиле с человеком?
– Кто это?
– Дак кто знает, чужак. Имя-то вишь, не нашенское.
– А… а…, – нужно было что-то сказать, но я вдруг отупела так, что и имя собственное не могла бы вспомнить в ту минуту.
– Пойдем, – Люба сердито дернула меня за руку и я покорно побрела за ней. Мы постояли на крутом взгорке, рассматривая сверкающую реку, сосновый бор в пушистых снеговых шапочках, Люба показывала рукой то в одну сторону, то в другую, что-то говорила и говорила, а сама нет-нет и да и заглядывала мне в глаза. А в моих глазах был, наверное, только страх. Не каждый день человек мог прикоснуться к тайне сильных мира сего. Одно дело, когда ему эту тайну диктовали с обещанием неразглашения, и другое дело – самовольное вторжение в нее. И зачем я сунулась в эту Зиньковку….
– Знаешь, я поеду в Клинцы. Хочу вечерним поездом вернуться в Москву.
– Да ты чего эта! Ты разве не погостишь еще? – вполне искренне огорчилась Люба, – ты и у нас с Васей не побывала. Да и на заимку он свозить хотел. Да и банька сегодня….
Люба продолжала щедро перечислять причины, по которым я должна была остаться «погостить» в этой затерянной в брянских лесах деревеньке, но я вдруг со страхом вспомнила, как еще вчера висела над ледяной полыньей, где могла окончиться моя жизнь и даже не начаться жизнь моих еще не рожденных детей. И вот этот испуг за их маленькие жизни заставил мое чувство самосохранения перечеркнуть все соблазны. Странно, я никогда еще не думала о своих будущих детях…. И еще странно, но в эти минуты мне казалось, что они смотрят на меня и даже руководят мною.
– Нет, уеду. У вас тут автобусы ходят?
– Да через час пойдет, прямо до вокзала. А если подождешь, то Вася отвезет, Василий Захарович, – почему-то добавила она.
– Нет уж, ждать не буду. А то еще отговаривать будут твои. А у меня работа.
– Так ты узнала что хотела-та?
– Нет, – с почти чистой совестью солгала я. Да ведь и правда, я узнала совсем не то, что хотела. Вернее, не о тех временах….
– Люба, а ты что-нибудь знаешь о послевоенном времени?
– А что тут знать? Когда была война, наши все работали на лесопилке, батя Васин на фронте был. А после войны на лесопилке работали немцы. Вот и вся разница.
– А страшно было, что вообще старики рассказывают?
– Страшно? – Люба задумалась, как будто вспоминая рассказы стариков, – да говорят, страшно было, когда тут особый отдел стоял. «СМЕРШ» назывался. Людей прям вот на этом взгорке расстреливали. У Василисы Андреевны даже фотография есть. Офицер из СМЕРШа подарил, на память, говорит. Гад, – почему-то закончила она.
– Да ну? Покажешь?
– Если успею, тебе ведь на автобус.
– Да успею я.
Мы ускорили шаги и через несколько минут уже обметали валенки на крыльце моих хозяев.
– Борщика-та похлебаешь? – на всякий случай спросила Люба.
– Нет, фотографию давай.
Люба ловко скинула валенки, заботливо ткнула их в углубление в широком боку теплой русской печи и в носках прошла по домотканым дорожкам к кровати хозяев. Там, неожиданно брякнувшись на колени и попыхтев над раскрытым фанерным чемоданом, она достала старый альбом, давным-давно видавший другую, богатую и, наверное, городскую жизнь. То, что альбом раньше принадлежал другой семье, я поняла сразу. Уж больно хороши были тисненая кожа и тяжелые серебряные застежки.
– Вот она, – Люба протягивала мне фотографию с пожелтевшими краями. На ней с близкого расстояния был снят мыс над рекой и молодая еще береза на нем. Та самая береза, которая сейчас разметала свои ветки на добрые двадцать метров.
Видимо, летний день клонился к закату, потому что над далеким сосновым бором угадывалось зарево. Но черно-белый снимок не позволял увидеть краски. Глаза мои скользили по откосу, по деревьям, как будто боясь посмотреть в лица людей, стоявших на коленях перед березой. Их было трое. Двое мужчин в стареньких телогрейках, и один – в форме немецкого солдата.
Сказать, что на меня нашел столбняк, было ничего не сказать. Я узнала одного из них. Хотя не знала никогда. Ведь меня в тот день, когда расстреляли этих троих, еще и на свете не было. Но я его узнала.
– Ну ладно, давай назад положим, а то свекруха рассердится, – Люба протянула руку к фотографии, а я попросила:
– Люба, согрей чайку на дорожку, а я пока еще на нее погляжу.
Люба радостно улыбнулась:
– Ну вот и хорошо, а то как же с пустым брюхом в дорогу, не по-людски это.
Господи, как стыдно использовать гостеприимство хозяев, чтобы стащить у них фотографию. Именно стащить. Я ведь не собиралась ее красть. Я ее отсканирую, а потом незаметненько верну. Ох, каких только оправданий человек себе не напридумывает, чтобы обелиться перед собственной совестью. И вряд ли меня еще пустят в дом, если обнаружат пропажу. Ах, Дунька-Дунька, что ты делаешь!
Я ловко спрятала фотографию под свитером, аккуратно застегнула застежки на альбоме и с шумом задвинула чемодан под необъятную хозяйскую кровать.
Наспех глотнув крепкий и уже ставший привычным приторно-сладкий чай, запихнув в себя вчерашний блин, я переобулась в свои сапоги, чего мне, кстати, не очень-то хотелось делать, и выскочила на крыльцо.
– Куда ты, оглашенная, на дорогу-то возьми.
Люба сунула мне в руки тугой пакет из совсем не деревенского хорошего пергамента и махнула рукой в сторону главной улицы.
– Махни рукой, он и притормозит.
Я еще не успела сообразить, кому махать рукой, как в конце улицы показался старый маленький автобус с бульдожьей мордой, я тотчас же отчаянно замахала рукой, и водитель послушно притормозил:
– Че размахалася, я ить не слепой. Уж и поисть не дадут, все ездють и ездють.
Я плюхнулась на ледяное дерматиновое сиденье и с облегчением вслушалась в водительское добродушное исть-поисть. Нет, мне явно понравилось здесь. И Зиньковка не такая уж Тмутаракань. Вон и автобусы ходят…. Однако чувство вины не оставляло меня до самой Москвы. Странно, мне бы обидеться…. Ведь это меня чуть не убили в заснеженной и затерянной в лесах деревеньке. Но ведь убить хотел кто-то один, а остальные…. И я вспомнила теплые и мягкие валеночки, тяжелую шаль, заботливо укрывшую мою московскую зимнюю, так сказать, одежку. И сон на мягкой, как бока доброй бабушки, постели. И наивную говорливую Любоньку, оставленную караулить мое любопытство, и так обманутую мною. Я пообещала себе вернуться в Зиньковку и все исправить. На этом моя совесть успокоилась и дала мне спать до самой Москвы.
Глава 4
– Ну что, сам дашься или ломать будем? – гнусавый голос, так не подходивший к красивому лицу Щасика, был нарочито тихим, таким тихим, что все в камере замирали, когда он говорил. Да и как было не замирать, если Щасика поставил над камерой сам Щорс, вор в законе, о котором гудела вся зона. И каждый знал – слово против Щасика будет словом против Щорса. Да и прозвище свое Щасик получил за безнадежное для сокамерников «щас!».
– Че молчишь, дохлик? – все замерли, предвидя, что Щасик даст команду заломать и ссильничать новенького.
– Щас…? – услужливо подсказал смазливый Коша, сам совсем недавно прошедший через позорную экзекуцию и сдавшийся сразу, покорно став на карачки и дрожащими руками стянув с себя штаны.
– Это кто там тявкает? – Щасик презрительно сплюнул в сторону Коши, – место твое у параши. Оттуда и будешь отвечать…. Когда я спрошу.
Тишина стала еще злее, еще страшнее для Егорки. Сокамерники, столпившиеся в ожидании команды, кто из жаркого любопытства, кто из желания оказаться первым в чудовищном унижении новенького пацана, жадно горели несытыми щеками.
– Завтра, – Щасик ни за что не хотел повторять следом за Кошей свое властное «щас», и это отодвинуло ужас Егоркиной пытки по крайней мере до следующего вечера. Но и он, и все присутствующие знали, что спасения не будет, и чему суждено случиться, случится обязательно.
Егорка, зло озираясь, пятился к дверям, где ему было указано место рядом с Кошей.
– А малой-то не из трухлявых, – задумчиво протянул Щасик, – может, не опускать? Пусть служит. Мне свои люди нужны….
Но рыжий Васька, постоянно боявшийся новых соперников, задумчиво прищурил глаза. Прикормленное и безопасное место рядом со Щасиком служило гарантией благополучной отсидки. А место это было невелико, и потенциальных соперников, умных и стойких характером, Васька старался убирать задолго до того, как наивный, в общем-то, Щасик, соображал что к чему…. Нет, думал Васька, нужно во что бы то ни стало оказаться рядом со ставленником Щорса, когда их через три месяца переведут во взрослую отсидку.
– Братва не поймет. Подумают, размягчел ты…, – напустив на себя еще более задумчивый вид, сказал Васька, – да и Щорс вряд ли одобрит….
– Ладно, не суйся, – Щасик отвернулся к стене и затих.
А Егорка лежал лицом к стене на нижних нарах, у самой параши, но обоняние его не улавливало ни вони нечистот, ни едкого запаха хлорки. Он смотрел на трещины на покрашенной серой краской стене и отчаянно силился поймать в наступающей ночной темноте хотя бы маленький лучик надежды. Но и сердце его и сознание подсказывало, что надежды нет, потому что некому его защитить. Если бы он встретился со Щасиком один на один, тогда, ясное дело, он бы не поддался. Он бы зубами грыз, но постарался бы одержать верх над этим гнусавым. Но один – и против целой толпы малолетнего отребья, для которого унижение новеньких было все-таки редкостным развлечением. Нет… против толпы никаких зубов не хватит.
«Все равно не дамся, хотя бы одному глотку перегрызу, но не дамся», – эта мысль только на минуту успокоила Егорку. Он почти сразу понял, что тогда его не только изнасилуют, но и убьют. В общем, как ни крути, а вся эта история ему не по зубам.
«По зубам, – вдруг осенило мальчика, – Я себе перегрызу…. Ну, не глотку, так …». И в его сознании тотчас же всплыла картина, которую он помнил всю свою недолгую сиротскую жизнь. На ней в широком белоснежном кресле сидела, откинувшись на низкую спинку, мать. И ее руку вспомнил, руку, которая свисала как-то очень отдельно от ее тела, и ровную бурую рану на ней от самого локтевого сгиба до запястья тоже вспомнил. И кресло, почти не запачканное кровью, потому что она густой темной лужицей блестела на паркете, только немного обрызгав маленькие босые и почему-то очень белые ступни матери.
– Как бы не так, – зло прошептал Егорка. Совсем недавно он вообще ничего не понимал бы в грядущей пытке, но за последние три месяца он узнал не только о том, как люди могут издеваться друг над другом, он узнал, как сама жизнь может издеваться над людьми. И мать. Ведь и она, выходит, поиздевалась над ним, когда оставила после ареста и смерти отца одного, совсем одного. И вот теперь он должен решить – казнить себя или отдать свое тело и свою душу (а он чувствовал, что душа у него еще жива), отдать их на растерзание этим малолетним зверькам. «Вольным и невольным, как и я», – почему-то оправдательно подумалось Егорке.
Темнота сгустилась, и Егорка вдруг подумал, что если задержится с задуманным, то ничего не получится. Летние ночи короткие, а ему нужно время, чтобы умереть…. И Егорка что было силы вонзил зубы в свое запястья, чуть было не взвыл от боли, но перетерпел, рванул теплую мякоть собственного тела и… потерял сознание. Прошло немного времени и он очнулся от саднящей боли, от боли и от ощущения мокрых штанов, прилипших к его ногам. Поднеся руку к глазам, Егорка больше почувствовал, чем увидел, что рана невелика, и уж вена точно не порвана. Тогда он, крепко зажмурив глаза, одним движением прижался ощеренным ртом к ране, осторожно нащупал языком пульсирующую от страха и смертельного ужаса жилу, вцепился в горячую мякоть зубами и что было сил рванул на себя. Больше в сознание Егорка не приходил. Его нашли утром, когда вся камера, один за другим, поплелась к параше мочиться. Алая маслянистая струя, омывая неровности цементного пола вокруг параши, собралась небольшой лужицей. И кто-то наступил в нее.
– Щасик, а Щасик, новенького зарезали! – вслед за криками и визгом кто-то стал барабанить в дверь, наполняя коридор гулким эхом.
Егорку, едва живого, унесли в лазарет, а Щасик с сожалением и завистью подумал, что он ни за что не смог бы так…. Ни за что! Уж лучше бы. И эта мысль так поразила его, что он весь день молчал, лежа на своем топчане, и разглядывая неровности потолка в камере. И все вокруг притихли, понимая, что столкнулись с удивительным мужеством и чувством собственного достоинства. Может, они и слов-то таких не знали, но что-то подсказывало им, что этого мальчишку они не забудут никогда. И если придется встретиться вновь, ни за что не дадут его…. Но тут мысли испуганно шарахались, представляя, как много нужно иметь силы в душе и в кулаках, чтобы следовать такому зароку. Но мечтать об этом хотелось. И они мечтали….
– Как бы не так, как бы не так, – ловил туман уходящего сознания Егорка. Он бормотал эти слова, только эти, как будто за всю свою жизнь он ничего больше не научился говорить.
Егорка потерял много крови, и жизнь его висела на волоске. Нет, она не висела, она уже парила над ним невидимым ангелом. Кровь у Егорки была редкая – первой группы да еще и с отрицательным резус-фактором. Такой не было даже на станции переливания крови в соседнем городке. Врач лазарета положил телефонную трубку и покорно и беспомощно махнул рукой:
– Всё…, кранты парню.
В палате, где лежал синюшный умирающий Егорка, он отчаянно повторил:
– Всё…, кранты парню.
– У меня возьми, док, – в углу зашевелился Щорс, старый вор в законе.
– У тебя?
Молодой врач, еще не привыкший к смерти, с жалостью смотрел на худенькое лицо мальчишки со смертельными голубыми отметинами на висках и вокруг глазниц. Он знал, что кровь у Щорса брать нельзя – туберкулез. Но чем он рисковал, вернее, чем рисковал этот мальчишка?
– А у тебя точно первая отрицательная? – врач прекрасно помнил, какая группа крови у старого вора, но ему хотелось поддержки. Обыкновенной поддержки.
– Да не бойсь, док, спасай парнишку. А ежели тубер мой к нему перейдет…. Ну…, его-то ты вылечишь?
Щорс и сам не понимал, почему ему так хотелось помочь незнакомому ребенку. Нет, он не отличался ни добротой, ни сентиментальностью и в другое бы время даже не повернулся в сторону малолетнего преступника, который, впрочем, вряд ли совершил что-то серьезное. Просто жрать хотел, как многие из таких вот бегунков. Но Егорку привезли в его палату в то самое утро, когда Щорс проснулся от кошмара. Ему снилось, что он умер и провалился в глубокое жерло горячего вулкана. Он летел вниз и чувствовал, как от жара начинали тлеть волосы на голове, груди, на руках. И когда он, казалось, достиг дна огненного озера, его вдруг неожиданно остудила мысль, что он так-таки ничего хорошего за свою жизнь не сделал. Ни-че-го! И эта мысль так ужаснула его, что он проснулся. Проснулся и застонал от безысходности, от невозможности искупления.
– Прости…, – прошептал он в тишину, сам до конца не понимая, Кого просит о прощении, – помоги…. Подскажи!
И теперь, когда у противоположной стены умирал этот маленький человек, Щорс вдруг до самой глубины своей измятой души осознал, что вот он – ответ на его просьбу о прощении.
– Бери, Григорий Михалыч! – скомандовал Щорс, закатывая рукав старого тельника.
Врач даже присел от неожиданной властности его голоса.
Через пять минут темная струя крови полилась по прозрачным трубочкам из вены старого вора в худое тело малолетнего преступника, вся вина которого была в нежданном сиротстве. Впрочем, сиротство всегда бывает нежданным.
Утром Егорка очнулся от взгляда. Этот взгляд жег его откуда-то сбоку, как будто там был источник тепла.
– Ну как ты, малец? – незнакомый старик рассматривал Егорку.
– Никак….
– Как зовут-то тебя, фамилия твоя какая?
Егорка равнодушно произнес фамилию:
– А отчество…, – вдруг растерянно спросил Щорс, – отца как звали?
Егорка опять равнодушно ответил….
Щорс растерянно смотрел на мальчишку, удивляясь превратностям судьбы. Вот это да…. Сын самого…. Вот это да….
– Ты поешь, Егор, нам с тобой обед как из ресторана принесли.
Рядом с Егоркиным лицом, прямо на большом коричневом табурете, стояли кружка с бульоном и тарелка с половиной вареной курицы. Застывшие капельки прозрачного жира на ее кожице дразнили больше, чем запах горячего бульона. И еще стояла кружка с молоком, рядом с ней лежали два вареных яйца и еще большущая плитка шоколада «Аленка». Егорка даже всхлипнул от желания съесть все это в один миг. И вдруг забинтованная рука напомнила о вчерашних событиях ноющей болью. Егорка беспомощно откинулся на подушку и тихонько завыл:
– У-у-у, гады, не дали умереть….. У-у-у, гады….
– Не бойсь, пацан, – сразу понял его отчаяние Щорс, – не тронут тебя теперь. Ты мой кровный, как сын, значит…. Моя кровь в тебе. Больная, но – моя! Так и назову тебя – Щорсик.
– Почему Щорсик? – утирая слезы и сопли, облегченно спросил Егорка.
– Я – Щорс, а ты, значит, Щорсик будешь, что б не сомневались, чей ты.
– А вы почему Щорс? Как красный командир, что ли?
– Да не…. Это меня братва прозвала, когда я чуть не околел от раны на голове. Долго ходил с повязкой.
Щорс ткнул заскорузлым пальцем в старый, выцветший от времени шрам на лбу.
– Да ты ешь, это для тебя теперь первейшая работа.
Егорка приподнялся над подушкой и протянул руку к шоколадной плитке.
– Ты на курицу, на нее налегай! – Щорс с трудом поднялся и подошел к Егоркиной кровати.
– Однако, много из меня крови ты вытянул, крестник, – он с удивлением и явным удовольствием прислушался к слову «крестник».
– Ешь, – Щорс отломил ножку от курицы и воткнул ее в здоровую Егоркину руку.
– А вы?
– Дак я свою половину умял уже. Слушай…, – Щорс немного подумал и решительно рубанул воздух рукой, – ты меня это…, на «ты» зови, и еще….
– Отец у меня есть. Был…, – почему-то испугался Егорка.
– Я знаю…, – Щорс помедлил и сказал, – крестным меня зови. Крестным можно…. А сынов у воров в законе не бывает. Не должно…. А крестным…. Годится?
– Годится, – легко согласился Егорка. Он уже понимал, что отныне ему в этих стенах не грозят никакие расправы. Быть «крестником» самого Щорса не снилось ни одному счастливцу. Но вот что будет, когда он выйдет на свободу? Ведь выйдет же когда-нибудь?
– Ты ничего не бойся, пацан, я теперь выправлюсь. Есть теперь дело у меня…. Да и обещал я….
В Щорса как будто вселились новые силы. И, главное, он ни на минуту не забывал удивительный и скорый ответ на просьбу о прощении.
– Ты в Бога веришь? – неожиданно спросил он у Егорки.
– Не знаю, – Егорка помнил молитву матери, помнил, как она все время говорила вслед отцу: «Храни тебя Бог!». Но Бог отца на земле не сохранил, забрал к себе… И сам Егорка о Боге не знал почти ничего.
– Не знаю! – уверенно повторил мальчик. Впрочем, курица и дразнящая плитка шоколада интересовали его сейчас больше всего на свете.
– Ты ешь, ешь, – Щорс присел на край Егоркиной кровати и задумчиво смотрел, как этот худенький пацан вонзал в куриную мякоть новенькие белые детские зубы и представил, как эти же зубы вчера рвали собственное тело в клочья, чтобы не пережить позора. Не сдаться….
«Я бы не смог», – вдруг признался про себя старый вор и сам содрогнулся от этого признания. Он с уважением и затаенным даже страхом смотрел на мальчишку и знал наперед, что никогда не поймет, откуда тот взял силы и мужество, чтобы совершить над собой такое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































