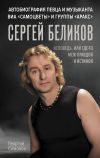Текст книги "Самоцветы. Литературно-художественный альманах"

Автор книги: Ольга Таир
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Фотография вторая. Красноармеец
Иван Гусев и Тамара Сербская.
Москва, 1921 год
Как оборвалась, окончилась старая жизнь?
В одночасье?
Или людям понадобились годы, чтобы изломать, перековать, перешить наизнанку время?
Время распарывается по швам и снова кроится; на него накладываются заплаты; к старой мездре присобачивают новенькую алую подкладку. Белошвейка Ольга, как никто, это знала.
Она отдала дочь в Институт благородных девиц. Хотя хорошо видела: скоро разрежут время холодными ножницами, и не благородство будет в моде и в чести, а – хитрость, наглость, оборотистость.
Красные флаги улицы захлестнули. Красные песни люди пели. В красные лепешки лица друг другу кулаками разбивали. И черные пули, под ребра вонзаясь, лили на серые мостовые красную кровь.
И из красного атласа того нельзя было пошить праздничное платье; только гробы обить.
– Тамарочка, куда бежишь? На улицах стреляют!
– Маменька, за меня не беспокойтесь! Я быстро бегаю!
– Ах, Тамарочка, ты хорошенькая… затащат тебя в подворотню…
– Маменька, у меня с собой – револьвер в сумочке!
– Ах, mon dieu! Кто тебе его дал?!
– Друзья!
– Боже милостивый, ну и друзья у тебя…
С хрустом резали люди плотную, старую, надежную времени ткань.
В дыры можно глядеться, как в зеркала.
Зеркало – пустота. Зеркало – поцелуй.
Поцелуй пустоты.
Ничего не останется на губах, в сердце. Ничего.
Революция страшна. Революция весела. Революцию боятся старики, а молодежь от нее в восторге.
Да, в восторге, пока тебя не подстрелили на углу Большой Никитской и Тверского!
Или – не вывели на расстрел во двор тюрьмы Лефортово.
Или – зубы не выбили на допросе в ЧК.
Революция и война! Война и любовь! Это для молодых. Старики молятся, трясутся. Старики не хотят, чтобы пулями и молотками рушили старый, добрый мир.
Забыла про Институт благородных девиц Тамарочка. Ходит в кожаной тужурке, стрелять научилась. Кудряшки над крутым лбом задорно вьются. Гражданская война грохочет по России. Эта война хуже, чем с немцем: свои – своих бьют, и это жальче, больней всего.
Ржавое, пыльное утро. Серые дожди заволакивают немытые окна. Тамарочка идет в госпиталь на Кузнецком мосту – туда привозят раненых, солдат Красной Армии. Раненые бредят, просят пить. Скрежещут зубами. По радио передают выступление Шаляпина. Он поет: «Темна ночь, ох, ноченька! Ой, да не спится…» Солдаты плачут, бас течет сладким, горьким маслом на сердца, под ребра.
Девятнадцатый год. Ольга Михайловна лежит, не встает. Тамарочку к постели подзывает.
– Дочь, я умираю. Доктор сказал – у меня рак. Это не лечат. Если мне будет очень больно и я буду орать от боли, вот… гляди…
Указывает слабой рукой на тумбочку. В ящичке – морфий и шприц. Глядит Тамарочка круглыми, птичьими глазами. Старается не плакать.
– Видишь, твой револьвер у тебя не прошу… ma cherie…
Белошвейка Ольга умерла в 1919 году, и было ей от роду сорок восемь лет.
А Тамарочке сравнялось девятнадцать.
А в двадцать лет она встретила красноармейца Ивана Гусева, родом из Нижнего Новгорода, и они расписались быстро, стремительно – так же, как стремительно поцеловались на Замоскворецком мосту, украшенном к празднику Первого мая красными флагами: после первого поцелуя, в тот же день.
Поженились быстро, а ребенка ждали долго.
Маргарита родилась у Тамары Анатольевны Гусевой в июне 1925 года в роддоме имени Грауэрмана, что в самом начале Арбата. Смерть рядом с родильной койкой танцевала. Медперсонал с ног сбился. Крики, стоны. Сознание не раз теряла. Маску эфирную накладывали. Врач не стал делать кесарево сечение: молодая баба, пусть сама рожает!
Потом Рита спрашивала мать: мама, как ты эту муку выдержала?
«Придет время – и ты узнаешь, каково это!» ― хитро улыбаясь, отвечала мать.
Снимали квартиру в Неопалимовском переулке, около «Смоленского» метро, а Риточка родилась – перебрались в Газетный переулок, около Тверской.
Отец, Иван Гусев, над кроваткой Риточкиной наклонялся, подолгу в лицо ребенку глядел.
Тамарочка однажды не выдержала, спросила:
– Что вы так смотрите? Думаете, не ваша?
Иван оглядывался трудно, нехотя, простуженная навек в галицийских болотах шея не гнулась.
– Нет. Моя. Я же вижу. Особенно глаза.
Глаза у младенчика – ясные, громадные, синие.
– Ритэся, ― нежно говорила Тамарочка, ― сейчас я тебя покормлю.
Вынимала из-под лифчика нежную, полную грудь. Гусев отворачивался. Курил папиросу, сыпал пепел в форточку.
Тамарочка ребенка покормит, уложит – и за сердце схватится.
Значит, опять в аптеку за лекарствами бежать.
За каплями пустырника; за настойкой валерьяны.
А денег-то где взять?
Однажды вечером гуляла Тамарочка с маленькой Ритой по Арбату. Уже зажгли фонари, темнело. Тамарочка боялась темноты, домой заспешила. Риту за руку тянула, а та упиралась: «Не надо домой! Хочу еще погулять!» Фонари горели цветно, странно искрились. Соблазн висел и таял в теплом вечернем воздухе. НЭП, и настежь открыты двери магазинов, лавок, ресторанчиков. Покупай не хочу, жри от пуза! Откуда-то все появилось: и шелка, и икра, и сдоба. У кого деньги водились, кто мошной звенел – накупал всего, в ресторациях сидел допоздна, ел и пил, песни Петра Лещенко слушал.
Тамарочка, зубы сцепив, гордо шла мимо лавчонок и кабаков. Ни ногой сюда! Никогда!
А потому что у вас кошелек тощий, мадам.
Почуяла взгляд спиной. Остановилась. Осторожно глянула через плечо, кто за ней идет.
Человек приподнял вежливо котелок.
– Мадам? Проводить вас?
– Я не мадам.
– Ах, прошу прощенья, товарищ.
Согнул руку колесом.
– Обопритесь. Всюду бандиты. Вам со мной спокойнее будет гулять. Вы, извиняюсь, где проживаете?
– А вот это вам не надо бы знать, ― покосилась Тамарочка, но руку опасливо на сгиб мужской руки – положила.
Так шли по Арбату. Фонари бешено горели над их головами. Сыпали искры.
– Что вы молчите? – наконец спросила Тамара.
Человек в котелке сказал медленно, задумчиво:
– А что говорить? Вы красивая женщина. Вижу, замужем. – Кивнул на дешевое позолоченное колечко на безымянном пальце Тамары. – Самое большее, что я могу сделать для вас, это до дому проводить.
– А вы кто такой?
Улыбка изогнула печальные губы.
– Я? Скажу – не поверите все равно.
– Тогда не говорите, ― выпалила Тамарочка, испугалась не на шутку.
Молча шли. Малышка Риточка семенила ножками, обутыми в шитые башмачки с кружевом.
Прошли весь Никитский бульвар. Потом Тверской. Постояли у памятника Пушкину. Вышли на Тверскую. Дошли до Газетного. Ночная тьма чернилами заливала Москву.
– Я здесь живу, ― шепотом сказала Тамарочка, кивая на подъезд.
Тогда человек выпустил ее руку, снова приподнял котелок и вежливо сказал:
– Сегодня я добрый. Я вас не тронул. А мог бы тронуть. Я все могу. Мне все подвластно. Не то что вы, слабенькая. Если бы вы – по доброй воле – со мной! Я бы показал вам мир. Роскошь. Счастье. Дальние страны. Вы бы узнали, что такое власть. И деньги. Вы бы поняли, какое это наслаждение. Но вы упрямая. Вы железная. Вы выбрали нищету и смерть. Ну и все тогда. Прощайте.
Шаг назад от нее, еще шаг, еще шаг.
– Кто вы?! – крикнула Тамарочка в ночь.
Из тьмы донеслось:
– Вам не надо это знать, мадам. А вот я про вас все знаю. Вы умрете после большой войны. В день, когда война окончится.
Лунным светом блеснул из тьмы гладкий, мертвый котелок.
Тамарочка схватила на руки Риту и побежала по лестнице, будто за ней гнались.
Весь вечер продрожала. Пила бром.
К полночи пришел домой Ваня. Он дежурил на электростанции.
Потребовал супу горячего. Хлебал ложкой шумно, с присвистом.
Тамара сидела рядом и глядела, как он ест.
Спрашивала себя беззвучно ледяными губами: а ты хочешь быть богатой?
Фотография третья. Парад
Риточка на даче в новой матроске.
1935 год
― Мамочка, а мы сможем купить мне белые танкетки?
Тамара Анатольевна приподнимается на локте, лежа на диване, тянется к ридикюлю, вынимает старинное польское портмоне из телячьей кожи.
Считает деньги.
Виновато поднимает глаза на Риту.
– Ритэся… знаешь…
– Мамочка! Мне на первомайский парад! На Красную площадь! Нас – весь класс записали!
– Парад… Первомайский… Да…
Мямлит. Слова ищет. Рита глаза – виновато опускает.
– Хорошо, мамочка. Я что-нибудь придумаю!
– Я уже придумала, ― говорит Тамара Анатольевна тихонько. ― Накрась свои холщовые тапочки зубным порошком. И будут тебе белые танкетки.
Рита хлопает в ладоши. Прыгает восторженно на месте, будто через скакалку.
– Да! Да! Как ты здорово придумала!
«Какой она еще ребенок. Как ей мало надо для счастья».
Весь вечер Рита разводит в воде зубной порошок «С добрым утром». То недоложит порошка, то переложит. Целую коробку извела. Получилась белая замазка. Ею Рита густо намазала тапочки из серой холстины. К утру замазка засохла, чем тебе не белые туфельки!
Встала рано, в пять утра. Долго гладила белую майку и белые шорты.
Мама Тамара пила сердечные капли, умиленно смотрела на дочку. Худышечка, а хорошенькая! На парад сегодня пойдет! Руку – в салюте вскинет!
Рита и красный галстук прогладила. Ни складочки. Ни сучка, ни задоринки.
Перед зеркалом стояла, галстук, морщась, завязывала.
– Дай я завяжу, ― слабо, задыхаясь, предложила мать.
– Не надо, мама, лежи! Я сейчас тебе кофе принесу! И бутерброды с творогом!
Несла в постель матери на мельхиоровом подносе: чашку кофе с молоком, по-варшавски, молока больше, чем кофе, два куска ржаного хлеба намазаны белым творогом и чуть присыпаны солью.
«Замазка из зубного порошка», – подумала Тамара Анатольевна и прижала руку к губам.
– Мамочка, тебе плохо?! Тебя вырвет?! Ох!
Ринулась за полотенцем на кухню.
Вернулась – мама Тамара лежит без сил, глаза ладонью прикрыла.
– Ничего не хочу, детка. Ни кофе… ни бутербродов. Поставь все на стол. Я подремлю. Ты на парад уйдешь – я сама встану и поем.
Утро, ясное майское утро! Улицы Москвы запружены народом. Все идут глядеть парад!
Рита бежит в школу, опоздать боится: выход назначен на восемь утра.
Еще издали, пока бежала, увидела: стая белых голубей, да на земле!
А это девочки их школы – в белых майках, в шортах снежно-белых.
Резвая, веселая юность страны!
Сейчас молчи, кто недоедает, у кого в семье родных – в тюрьму – забрали. Забрали – значит, за дело! Молчи о плохом! Надо только о хорошем. Цены снижаются! Продуктов в магазинах все больше! Вон, народ наш, счастливый, идет под красными, прекрасными флагами! К новой жизни, к счастливой, идет!
Рита ежится в легкой майке. Ветерок-то прохладный. В конце апреля только снег сошел. Обнажился асфальт, умылись солнцем дома. Много в Москве новостроек! Растет город!
«Любимый город, любимый», – сами шепчут губы.
Музыка звучит со всех сторон. Школьников выстроили попарно, учитель географии, Валентин Авдеевич, командует: вперед!
Из репродуктора раздается – на всю ширь улицы, над усыпанными липкой первой зеленью тополями:
― Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней…
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!
Рита поет вместе со всеми, в разноголосом ребячьем хоре, стараясь не сбиться с ноги:
― Кипучая, могучая,
Никем непобедимая!
Страна моя, Москва моя,
Ты самая… лю-би-ма-я!
Солнце восходит. Утренний холод разгоняет. Листва тополей тени на солнечный тротуар бросает. Лучи – в лицо ударяют.
– Дети! Крепче за руки держитесь! Не теряйте строй! Подходим к Красной площади! В колоннах – строиться по восемь человек!
Ими умело дирижируют. И они – слушаются.
– Маргарита Гусева! Левее, левее! На левый фланг!
Рита послушно делает шаг влево.
Над их строем взвивается, разворачивается на ветру огромное красное знамя.
Древко держит в руках ученик их школы – Максим Савенко.
Тяжелое знамя, Максим под его тяжестью шатается. Но держит.
И – улыбается во весь рот.
«Вот он зубы точно сегодня порошком как следует начистил».
Идут колонны. Вздымаются, летят по ветру знамена. Не только красные. Белые, голубые, зеленые – знамена спортивного общества «Трудовые резервы». Смех, улыбки. Ветер дует в свежие юные лица. Честь и молодость страны! Юность Москвы! И Рита среди них! И она – поет! И рука вскинута над гладко причесанной русой головой – в радостном пионерском салюте!
Они идут мимо трибуны Мавзолея и отдают честь.
Глядят во все глаза на красный, кровавый гранит.
На трибуне – товарищ Сталин и товарищи из ЦК ВКП (б).
Сталин улыбается. Рита различает отсюда, издали, с площади, цвет его боевых, бодрых усов. Он улыбается в усы – и поднимает руку в приветствии, почти в салюте.
Сталин приветствует свой народ – и ее, Риту Гусеву!
Пока колонна идет мимо Мавзолея – Рита глядит на Вождя, повернув голову, не отрывая от него глаз, а в них – синий, небесный восторг.
Сердце встрепенулось птицей. Какое у них будущее! А настоящее – ведь тоже счастье! И плевать на бутерброды с творогом! Какая разница, что ты ешь! Вон в Елисеевском сколько роскошной еды – завались! ― и шпикачки, и колбаски охотничьи, и севрюга, цветом краснее знамени красного, и виноград навален синими, зелеными гроздьями, ― и что? Они еду в Елисеевском не покупают. Мама Тамара в самый дешевый магазин ходит. И все больше крупы берет, чтобы каши варить. И что? Они с каши, что ли, хуже стали? Нет! Еще лучше!
Папа Ваня на Риту дивится: что за девчонка, вобла астраханская, каши ест-ест, и все никак не поправится! «Тамусик, на дачу бы ее вывезти! И тебя вместе с ней!»
Прошли Мавзолей. Исчез Сталин. За спиной уже – голубые ели.
Гремит музыка. Марш – ярче знамени! В ногу, в ногу, Рита, в такт!
Домой с парада явилась – отец на ноги Ритины воззрился:
– Это еще что такое?
Рита глянула: весь высохший мел слоями осыпался с тапок, и они пятнистые, будто пошитые из шкуры леопарда.
Рита на корточки села, разрисованные тапочки ладошками прикрыла.
– Это парад!
– Это не парад, а нищета, ― жестко вымолвил отец. ― Но вы потерпите. Меня на Станкозавод Орджоникидзе инженером берут! Вот заживем!
Папа Ваня, лицо-осколок, суровый рот, глаза синим огнем пылают. С такими лицами – в бой на конях скакали, в гражданскую, шашками рубились; с такими лицами…
«Я – горе России», ― написано у Ивана Гусева на лице. И чаще, чем смеется, хмурится и злится он.
А когда добрый – Риту на коленки острые сажает, припевки поет: «По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку – бултых!» С годами чернеет лицо, щеки вваливаются, мешки повисают под глазами. Еще молодой, а уже старый. Зеркало, не отражай беду. Когда-то был красив и статен, на хищного молодого волка смахивал. Мама Тамара гордилась, когда рядом с мужем под ручку по Тверской вышагивала.
Теперь Тверская – улица Горького, великого пролетарского писателя.
У Гусевых дома, в шкафу за стеклом – полное собрание сочинений Горького, тома в черном переплете. Рита всего Горького перечитала. Не понимала, но жадно глотала: засасывало. Иногда дрожала от страха. Особенно любила четыре толстых книжки ― «Жизнь Клима Самгина»: нравилось читать про старую Россию, про революцию.
Как хорошо, что войны и революции все кончились!
Сталин говорит – навсегда.
Теперь – мир, и мирное строительство.
Какие у Сталина рыжие усы!
Рита осторожно отодвигает стекло, опять лезет в шкаф. Вытаскивает том, где «Старуха Изергиль».
Забирается в ногами в старое кресло бабушки Ольги.
Света много жечь нельзя – папа Ваня запрещает, платить нечем. Когда смеркается, Рита зажигает керосиновую лампу.
На кухне, в бутыли темно-алого стекла, еще есть керосин. Встряхнешь бутыль – булькает. А так не видно.
Красный огонек разгорается, становится темно-желтым. Буквы на странице различить можно. Писатель пишет сказку, а кажется, что это быль.
А на другой день Рита идет петь в школьном хоре.
У нее очень высокий и звонкий голосок. «Хорошее сопрано», ― говорит руководитель хора, товарищ Яблоков. Не сопрано, товарищ Яблоков, а колоратура, поправляет его заносчивая Зинаида Щелокова. Зинаида учится музыке, ходит в музыкальную школу при Московской консерватории. Играет на виолончели. Иногда выступает на школьных концертах – приносит виолончель, вынимает ее из футляра. Дети подходят, гладят темно-вишневые, гладкие бока. Суют пальчики в фигурные дырки в деке.
Колоратура так колоратура. Рита задирает подбородок, когда поет. Голос вылетает из нее, и она летит вслед за голосом, и теряет вес, печаль, чувство тела, чувство времени.
Когда поешь – времени нет. Зачем счастью время?
Петь – счастье.
«Мама, я буду певицей! Я буду петь в Большом театре!»
«Чтобы стать хорошей певицей, надо долго учиться!»
«Я в Консерваторию поступлю!»
«Сначала – школу окончи!»
Дома, на бабушкином рояле, разучивает арию Виолетты из оперы «Травиата», сама себе аккомпанирует – неумело, робко, смешно. А голос летит, и стекла в квартире звенят. Соседка Розалия ахает: «А Риточка-то настоящая певичка, таки да! Изабелла Юрьева будущая! А может, Лидия Русланова!»
Школьный хор, локти друзей. Товарищи все, и нет врагов. Риту все любят. Мальчишки ее защищают. Никогда не дразнят. Девчонки опекают: им, красивым и рослым, наверное, просто жалко маленькую тощую белую мышку. Угощают Риту персиками, яблоками, французскими булками: давай, налетай! Рита отказывается – обижаются. Приходится есть, давясь, на переменке, на салфетке. Школьный завтрак уже в глотку не лезет: опять каша, как дома, и называется ― «Дружба», пшено с рисом пополам! И со сливочным маслом!
Дети разевают рты. Дети поют. Высоко взлетают голуби-голоса. К потолку, к огромной, как в Большом театре, люстре актового зала; вылетают вон в распахнутое в май окно. Яблони цветут! Голуби, белые голуби с коричневым крапом, куда летите? Дети хотят вместе с вами!
Товарищ Яблоков ритмично машет руками. Показывает вступление басам. Басят долговязые мальчишки. Рука летит в сторону сопрано – взвиваются, полощутся флагами легкокрылые тонкие голоса. И самый тоненький, пронзительный – Ритин: весь хор перекрывает!
– Маргарита! ― Рука дирижера показывает: выше, еще выше. ― Интонация! Дыхание!
Рита послушно посылает голос еще выше, за облака.
И тогда, освобожденный, он расправляет белые крылья, и его несет ветер, и в зеркале ветра Рита видит себя – сверху, с поднебесных высот.
Себя, поющую; хор; товарища Яблокова; школьный зал; школу; улицы; Кремль – он рядом, дети стоят и поют в самом сердце Москвы.
На дачу Риту все-таки отправили.
Без мамы Тамары; к друзьям, в Мозжинку.
Ванин друг, Савелий Протасов, сфотографировал Риту на фотоаппарат «Зенит»: она стоит на берегу пруда, в новенькой матроске, белые волосы заплетены в две тугих тонких косички, новенькие белые босоножки слегка малы, но это ничего, разносит. Для того, чтобы тесная обувь разносилась быстро, надо налить в нее немного водки. И так ходить.
«Ноги же будут водкой пахнуть!» ― сердилась Рита.
А дядя Савелий смеялся во все горло.
Вокруг пруда – елки и березы. Рита держит удочку в руках. Ловила рыбу, ни рыбки не поймала. Разозлилась, скинула матроску и юбку, осталась в лифчике и трусиках, полезла за желтыми кувшинками.
Нарвала кувшинок огромный букет.
Принесла на дачу. На веранде – в хрустальную вазу поставили.
Кувшинки странно, тревожаще пахли: улитками, французскими духами, тиной, спиртом, пьяным ночным лесом, колдовством.
Ночью они не закрылись, а наоборот, маняще расправили золотые лепестки.
И Рита украдкой вставала с постели, стараясь не звенеть панцирной сеткой, открывала стеклянную дверь на веранду, подходила к вазе и целовала милые, бедные кувшинки – одну за другой.
Фотография четвертая. Любовь
Коля, Рита, Семен Осипович, Витя Тупис, мама Тамара Анатольевна.
Знакомство Коли и Риты.
Москва, декабрь 1941
Рита задрала голову. Красивые сводчатые потолки, как в ресторане, во дворце.
Старинный дом в Газетном переулке – ее детский дворец; и таким и пребыл; и он врыт в землю надолго, на века.
А если Москву отдадут?
Нет, не отдадут. Говорят, будут стоять насмерть.
В доме – депо роялей. То и дело подкатывали грузовики, сгружали рояли. Рита глядела, как такелажники, обвязавшись мощными кожаными ремнями, сволакивали черные туши роялей с дощатых кузовов и тащили, умело приседая, ловко переворачивая черную чугунную тяжесть в громадных ручищах, на первый этаж, в депо.
Изредка с первого этажа доносилось брямканье: грузчики пробовали на звук белые, желтые, восковые клавиши.
Рояли и старые, и новые – откуда они? С фабрики? А есть фабрика музыки?
Однажды, вместо бренчанья невнятного и смешного, раздались настоящей музыки звуки.
Кто-то умелый играл. Чисто, красиво лился прозрачный, небесный ручей.
Рита не знала, что это – Шопен.
А сейчас не волокут рояли. И не играют. Депо закрыто. Замок висит. Сегодня – выходной?
Сегодня – война.
Если война закончится победой – откроют. Только тогда.
Поежилась в штапельном, не по зиме, платьице. Покосилась на красное число в календаре.
Из дворца давно уже, еще до войны, сделали коммунальную квартиру. Прежних хозяев «уплотнили» ― а кто они такие? А они музыканты. Теперь живут в крошечной каморке в конце длинного, змеиного темного коридора. Он – виолончелист, она – пианистка. Вечером из-за ободранной кошками двери доносятся томные, печальные мелодии, гнутся белыми скорбными лилиями над черной водой близкой ночи. «Это „Элегия“ Массне, ― вздыхает мама Тамара, ― ее когда-то так чудесно пел Шаляпин».
У музыкантов – сын. Рита в детстве всегда ходила играть с ним. Маленький, он был такой смешной, Раш. Абраша. Полное имя Абрам. Наряженный в темнобордовую бархатную курточку. Как княжич в камзольчик. Рита разглаживала у него на груди кружевной воротник. Не девочку похож.
Декабрь, метель лепит в стекло, поет, подвывает, дикий бедный волчишка. Хрустальные иглы хотят прошить окно, да не могут. Слоями нарастают на стекле ледяные хвощи, ромашки, полынь. Белая зимняя трава. Раш вырос, встречая Риту в коммунальном коридоре, срывается на дискант: «Добгое утго, Гиточка!»
Виолончелист – ополченцем на фронт ушел. Пианистка уже не играет на пианино. Руки деревенеют и скрипят. Какая музыка, когда под Москвой люди гибнут?
Ритин папа, Иван Гусев, тоже на фронте. Хотя и он больной насквозь. Туберкулезник.
Он сам в военкомате попросился. Кулаком костлявым в грудь себя бил: «Возьмите! Сам хочу гадов! Своими руками! Я в Первую мировую… да я…» Сжалились. Взяли.
А парад на Красной площади седьмого ноября все равно – провели.
Полдома уехало в эвакуацию. Гусевы – не поехали. «Умирать будем – здесь, в столице».
Москву бомбили. Завывали сирены воздушной тревоги. Мать не умела собрать вещи, чтобы бежать в бомбоубежище. Она растерянно металась по комнатам, совала в сумочку всякую ерунду, безделушки. Рита аккуратно складывала в школьный портфель все, что надо: лекарства, теплую одежду, заворачивала горбушку хлеба в платок.
Из бомбоубежища возвращались – видели в ночи ужас пожаров. Срезанные бомбой дома: полдома глядят пустыми глазницами, полдома руины. Около битого кирпича, в сполохах огня, сидел, скрючившись, мальчик, плакал так отчаянно, что Рита заплакала вместе с ним. Она поняла: у него умерли все.
У мамы Тамары Анатольевны – болезнь сердца. Риту рожала тяжело, трое суток. Как только выдержала!
И потом – всю жизнь – капли, пилюли, склянки, шприцы, прокипяченные в кастрюльке для варки яиц. Уколы. Рита рано научилась делать маме уколы. Первый раз делала – зажмурилась. Но иглу все равно всадила. Мамина рука покрылась гусиной кожей. Медленно, как во сне, шел поршень шприца. Вынула иголку, потекла темная кровь. Мама Тамара закусила губу и, улыбнувшись, прошептала: «Совсем не больно».
Вот и сейчас мама лежит. На старинном широком, как плот, обитым черной кожей диване – его еще бабушке Ольге Михайловне подарил директор Частного оперного театра, на свадьбу. Лежит, и кофточка кружевная, и кружева приколоты к прическе. Прическа всегда: болеет ли, здорова ли. Локоны и помада на губах. И губы улыбаются всегда. Даже когда ей больно. Очень больно.
Рита спрашивала: мама, почему у меня нет братика или сестренки? «Мне больше не разрешили рожать», ― и опять эта беспомощная, нежная улыбка на перламутровых прелестных губах. «А почему дедушка Сербский? Он из Сербии?» Мать откидывалась на подушки, из-под головы выкатывалась думка с вышитым гладью синим попугаем. «Он поляк. Из Варшавы».
«Значит, я тоже немного полька», ― гордо думала про себя Маргарита, исподлобья косясь на настольное зеркало в виде громадного страусиного яйца. Зеркало сзади поддерживала медная трехпалая лапка. В детстве Рите казалось: лапка оторвется от зеркального черного испода и хищно, страшно протянется к ней, и оцарапает ей лицо, и выцарапает глаза.
Тверская от Охотного ряда – один большой подъем, и бежит все вверх и вверх мимо их Газетного переулка, и втекает переулок в реку Тверской, в узкую, шумную реку, где люди-лодки плывут.
Сейчас на Тверской народу мало. Война. Затемнение. Люди прячутся по домам, как звери в норы.
Гусевы, как и все, оклеили окна бумагой крест-накрест.
Рита подошла к закрещенному окну. Положила ладонь на замерзшее, изрисованное резными снежными листьями стекло, холод обжег руку. Держала руку долго, пока не отпечаталась на искристом, посыпанном мелкой солью льда стекле.
Вот он, горячий пятипалый оттиск живой руки.
«А если я умру? А когда я умру?»
Риточка очень худая, тощенькая. В ее пятнадцать – выглядит на десять. Слава Богу, не рахит. Ножки пряменькие, быстрые. Бегает быстро. В школе на соревнованиях на стадионе – шустрее всех стометровку бежит. На пьедестале почета стоять не умеет, смущается, медаль ей наденут на широкой голубой ленте – убегает, закрыв лицо руками. В нее, цыпленочка такого, мальчишки влюбляются, а она им не верит: я некрасивая!
Обернулась. Да, зеркальце, ты ей все скажи. Не соври.
Приблизила к зеркалу личико. Веснушки. Впалые щеки. Бледные губы. Светлые, еще немного – и белые волосы; будто седые. Уши торчат. Проклятье, уши торчат!
Зажала уши ладонями.
«Я пришью их нитками к вискам».
А глаза – огромные, в пол-лица. То синие. То нежно-голубые. Незабудки. То мрачные, тучи в грозу, печальные анютины глазки. Зеленую кофту наденет – иззелена-небесные. Цвет меняют, хамелеоны!
В дверь постучали. Мама Тамара приподнялась на локте, диванные пружины спели жалобную песню.
– Ритэся, кто-то к нам…
Маргарита подбежала к двери, распахнула.
– Здравствуйте, Семен Осипович! Проходите, пожалуйста!
Сосед, кряхтя, уткой переваливаясь с боку на бок – туловище богатое, а ножки бедные, ― вошел, вздергивая губу, и желтые клыки, как у волка, торчали. Так улыбался.
– Ой, здравствуйте-здравствуйте, дорогая Тамара Анатольевна! Все болеете?
– Все болею.
Мать помяла в тонких пальцах кружевной платок.
На всю комнату от платка пахло крепкими варшавскими духами. Еще бабушкиными духами. Мать расходовала духи экономно. Пузырька ей хватало на три года. А от бабушки осталось десять флакончиков. И все – варшавские, парижские, и даже из Каира один. Арабский парфюм, о, шарман.
– Ах, ах! А моя Розаличка вот шлет вам, печеньице, вот! – Из-за спины вынул, как букет, кулек. Из кулька вкусно пахло корицей. ― Еще тепленькое!
– Спасибо, Семен Осипович.
Рита стояла и глядела, как мать ест дареное печенье. Она больная, ей нужны лакомства.
Сосед Семен Осипович Нахов, с женой Розалией Мироновной, жили этажом ниже. Недавно они открыли мастерскую по ремонту авторучек. Дело пошло. Немножечко разбогатели; позволяли себе даже соседей домашней стряпней угостить.
– А я-то ведь к вам с новостью!
– С какой?
– Племянник мой приезжает! Да знали бы вы, откуда! Из самого Владивостока! С Тихого океана! Совсем бравый моряк стал Витя Тупис, таки да!
Витя Тупис служил на Тихом океане, Риточка знала. Иногда Витя присылал дяде посылки. Семен Осипович приглашал Риту поглядеть на подарки: на диковинные громадные розовые раковины, на варенье из китайского лимонника. Рита пробовала серебряной ложечкой варенье, трогала розовые, зарей сияющие зубцы чудовищных ракушек. А то еще однажды Витя баночку камчатской кетовой икры прислал – так Семен Осипович, добрая душа, при Риточке банку открыл, сам на ржаной кусочек намазал. Рита зачарованно глядела на красные шарики, на белое масло, на черный хлеб. Розалия Мироновна пристально следила, как Рита ест бутерброд с икрой, подливала медно-красную заварку в щербатую чашку. «Еще?» Вздох. «Ой, спасибо… все..»
– Ритуля, ведь ты хочешь посмотреть на Витю, какой он стал, да?
– Она хочет! ― слабо вскрикнула мать, доедая печенье и слизывая с ладони крошки.
– Я хочу, ― кивнула Рита. Она все так и стояла у круглого стола, и пальцы теребили белые, метельные кисти скатерти.
– Самолетов у нас ведь мало, таки да! ― вздохнул Семен Осипович. ― А вот наши танки – лучше, чем у фрицев! Лучше!
– Лучше, ― кивнула мать, глядя в пустой кулек. ― Наши ребята там… в полях… в снегу… умирают… – Смяла в кулаке кулек. Мятой бумагой мокрое лицо вытирала.
Семен Осипович не сказал: Витю, как и других моряков, перебросили с Тихого океана – под Москву: с немцем сражаться.
Кружевной платочек валялся под диваном белой убитой голубкой.
Полумрак в комнатах. Свет вполнакала. Вот отлежится мама на кожаном диване – утихомирится больное сердце – и пойдет на проспект Калинина, в «Военторг», на работу. По карточкам отоварится: дадут продукты, какие угодно, лишь бы – дали.
Карточки есть – еда есть.
А Рита великолепно умеет делать кислую капусту, в ведре.
– Марэся, у нас капустка есть еще?
– Есть.
– Наложи мне немного в тарелочку. Без хлеба. Я хлеба не хочу.
– Хорошо.
– И сама поешь.
Тамара Анатольевна лежа ела капусту, подцепляя ее трехзубой вилкой с дулевской фарфоровой тарелки.
– А когда Витя приедет?
Никто не знал, когда.
И этот день настал, как все черные зимние военные дни.
Звонок раскатился на весь коридор.
Звонок; потом молчанье.
Долго, долго молчала затаившаяся квартира.
Может, синие околыши? Может, заберут кого?
Забирать-то уже некого. Одни женщины, дети и старики.
Никто не идет отпирать?
Мать в «Военторге». Отец на фронте. Может, отца убили уже, а они ничего об этом не знают. А потом, о, потом похоронка придет.
А Клавдия Никандровна? А старый доктор Скрябин?
А Раш? Картавого Раша тоже дома нет?
Ножки Риточки сами пробежали в коридор, и вот она перед дверью уже, легкая, почти невесомая. И гремят замки.
– Ой… Добрый день! Витя-а-а-а-а!
Повисла у Вити Туписа на шее, а он чмокал ее куда ни попадя – в паутину белых волос, в щечку, в носик, в синий глаз.
– Маргоша, Маргошенька! Ух же и вымахала! С меня ростом!
– Врешь ты, Витька, все! А это кто?
Визги и поцелуи оборвались.
Стояла прямо, и прямо смотрела.
И на нее – тоже – глядели прямо. Прямо, ясно и весело.
Бескозырка. Ленты черные по спине ужами ползут. Черный драп негнущейся шинели. Золотые пуговицы начищены. Слишком высокий моряк! Голову задрать надо, чтобы глаза его и улыбку увидеть! Башкой потолок подпирает. Атлант. Как с фотографии Зимнего дворца в Ленинграде.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!