Текст книги "Утраченные иллюзии"
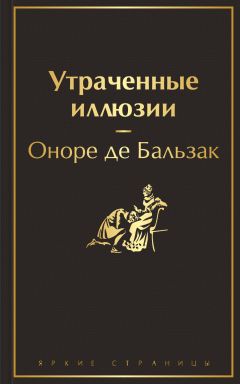
Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Уж очень разделана, – сказал он, – слишком по-ученически!
Он самобытен и порою непостижим, ему присущи все бедственные и все счастливые свойства нервных натур, у которых жажда совершенства становится болезнью. По уму он родной брат Стерна, но без его писательского дара. Остроты его, игра мысли – неподражаемы. Он красноречив и умеет любить, но в чувствах так же своенравен, как и в творчестве. В Содружестве его любили как раз за то, что мещане назвали бы его недостатками. Наконец, Фюльжанс Ридаль – писатель, один из самых вдохновенных юмористов; он, как поэт, беспечный к славе, швыряет на театральные подмостки лишь самые заурядные свои произведения и бережет лучшие сцены в серале своего мозга для себя и для друзей. Он берет от публики лишь столько денег, сколько необходимо для независимого существования, и, получив их, перестает работать. Плодовитый и ленивый, как Россини, Ридаль, подобно всем великим комическим поэтам, подобно Мольеру и Рабле, привык в любом явлении рассматривать все за и против; поэтому он был скептиком, он умел смеяться, и смеялся надо всем. Фюльжанс Ридаль – великий философ обыденной жизни. Знание света, дар наблюдательности, презрение к славе, к мишуре, как он говорит, не иссушили его сердце. Столь же равнодушный к собственным интересам, сколь отзывчивый к чужим, он принимался действовать только ради друга. В полном согласии с духом Рабле, он любит хорошо поесть, но и не слишком за этим гонится. Он меланхолик и в то же время весельчак. Друзья зовут его «Наш полковой пес», и ничто лучше не обрисовывает его, как это прозвище. Трое остальных членов Содружества, не менее выдающихся, нежели эти четверо, чьи силуэты здесь показаны, сошли в могилу один вслед за другим: раньше всех умер Мэро, который вызвал знаменитый спор между Кювье и Жоффруа Сент-Илером, двумя равными гениями, и этой важной проблеме суждено было разделить ученый мир на два лагеря незадолго до смерти первого из них, аналитика, того, кто отстаивал ограниченное знание против пантеиста и поныне здравствующего и высокочтимого в Германии. Мэро был другом Луи, которого вскоре безвременная смерть похитила из мира умственной деятельности. К этим двум избранникам смерти, теперь забытым, несмотря на огромную широту их дарования и знаний, надо причислить Мишеля Кретьена, республиканца большого размаха, мечтавшего о европейской федерации и в 1830 году игравшего большую роль в движении сенсимонистов. Политический деятель, по силе равный Сен-Жюсту и Дантону, но простодушный и кроткий, словно девушка, мечтатель, преисполненный любви, одаренный мелодичным голосом, который очаровал бы Моцарта, Вебера или Россини, он так пел иные песни Беранже, что сердце преисполнялось поэзии, любви и надежды. Мишель Кретьен, такой же нищий, как Даниель и Люсьен, как все его друзья, жил с диогеновской беспечностью. Он составлял указатели к большим сочинениям, проспекты для книгопродавцев, но о политических своих учениях молчал, как могила молчит о тайнах смерти. Этот веселый представитель ученой богемы, этот великий государственный человек, который мог бы преобразить лик общества, пал у стен монастыря Сен-Мерри как простой солдат. Пуля какого-то лавочника сразила одно из благороднейших созданий, когда-либо существовавших на французской земле. Мишель Кретьен погиб не за свои идеи. Федерация, которую проповедовал Кретьен, представляла для аристократии Европы более грозную опасность, чем республиканская пропаганда: она была более целесообразна и менее безрассудна, нежели страшные и туманные идеи свободы, провозглашенные юными безумцами, которые считают себя наследниками Конвента. Этого благородного плебея оплакивали все, кто знал его, и нет среди них ни одного, кто бы не вспоминал об этом великом, но безвестном политическом деятеле.
Эти девять человек образовали Содружество, где уважение и приязнь установили мир среди самых противоположных учений и идей. Даниель д’Артез, пикардийский дворянин, был таким же убежденным приверженцем монархии, как Мишель Кретьен – убежденным проповедником европейской федерации. Фюльжанс Ридаль смеялся над философскими доктринами Леона Жиро, который, в свою очередь, предсказывал д’Артезу крушение христианства и распад семьи. Мишель Кретьен, исповедывавший учение Христа, божественного основоположника Равенства, защищал бессмертие души от скальпеля Бьяншона, истого аналитика. Они обсуждали, но не осуждали. Тщеславие было им чуждо, потому что они были и ораторами, и слушателями одновременно. Они поверяли друг другу свои труды и с милым юношеским чистосердечием спрашивали дружеского совета. А если вопрос стоял серьезно, тогда возражавший забывал о своих мнениях, чтобы войти в круг понятий друга и оказать помощь тем более успешную, что он мог быть беспристрастен к произведению или вопросу, находившемуся вне сферы занимавших его мыслей. Мягкость и терпимость – качества, свидетельствующие о благородстве души, – были присущи почти каждому из них. Зависть, этот страшный дар наших обманутых надежд, наших погибших талантов, наших недостигнутых успехов, наших отвергнутых притязаний, была им незнакома. К тому же все они шли различными путями. Поэтому любой человек, принятый, как и Люсьен, в их общество, чувствовал себя легко. В истинном таланте всегда все просто, открыто, он чист и чужд самомнения, его эпиграмма приятно волнует ум, никогда не бьет по самолюбию. Как только исчезало первое благоговейное волнение, новичок чувствовал неизъяснимую отраду в обществе этих избранных молодых людей. Дружеские отношения не исключали сознания собственного достоинства, глубокого уважения к своему соседу; наконец, каждый понимал, что может оказаться и благодетелем, и должником другого, поэтому все принимали взаимные услуги, не стесняясь. Беседы, непринужденные и увлекательные, касались самых разнообразных тем. Слова, меткие, как стрелы, легко слетали с уст и проникали в глубь сердец. Крайняя скудость их жизни и великолепие умственных сокровищ являли разительное противоречие. Здесь вспоминали о жизненных невзгодах только тогда, когда они давали повод для дружеской шутки. Однажды ранней осенью выдался морозный день; одна и та же мысль осенила друзей д’Артеза: все пятеро зашли к нему и под плащами принесли дрова, – произошло то, что случается на загородных прогулках, где каждый участник обязан принести какое-нибудь блюдо, и все приходят с пирогами. В друзьях чувствовалась та внутренняя красота, что проявляется и во внешности и, наравне с трудами и бессонными ночами, налагает на лица дивный отпечаток, подобный блеску золота. Непорочность жизни и пламень мысли придавали их чертам, несколько неправильным, правильность и чистоту. Поэтически высокий лоб говорил сам за себя. Живые, ясные глаза свидетельствовали о безупречной жизни. Когда лишения давали себя знать, молодые люди переносили их так весело и так дружно, так мужественно боролись с ними, что и лишения не омрачали ясного выражения их лиц, свойственного юношам, которые еще не ведают настоящих грехов, еще не унизили себя сделками с совестью, заключенными из малодушия перед нуждой, или из стремления возвыситься любыми средствами, или же по той покладистой снисходительности, с какою литераторы воспринимают всякие измены. Чувство уверенности, которого не знает любовь, скрепляет дружбу и увеличивает ее прелесть. У этих молодых людей была уверенность друг в друге: каждый пожертвовал бы самыми насущными своими интересами ради священного единства их сердец, враг одного становился врагом их всех. Не способные ни на какую низость, они могли любому обвинению противопоставить грозное «нет!» и смело защищать друг друга. Равно благородные сердцем и равной силы в вопросах чувств, они могли свободно мыслить и свободно говорить, ибо они жили в области науки и разума: отсюда искренность их отношений и живость речей. В уверенности, что каждое слово будет правильно понято, их мысль витала свободно; поэтому их отношения были просты, они поверяли друг другу и горести, и радости, они думали и чувствовали от полноты сердца. Обаятельная чуткость, обратившая басню «Два друга» в сокровище для возвышенных душ, была им свойственна. Взыскательность, с которой они принимали в свою среду нового человека, была понятна: они слишком хорошо сознавали свое величие и были слишком счастливы друг другом, чтобы вводить в Содружество людей новых и неиспытанных.
Эта федерация чувств и интересов существовала без столкновений и разочарований в продолжение двадцати лет. Только смерть, вырвавшая из их среды Луи Ламбера, Мэро и Мишеля Кретьена, могла разлучить эту доблестную плеяду. В 1832 году, когда Мишель Кретьен погиб, Орас Бьяншон, Даниель д’Артез, Леон Жиро, Жозеф Бридо, Фюльжанс Ридаль пошли за его телом в Сен-Мерри, несмотря на опасность такого поступка в годы политических бурь, и отдали ему последний долг. Они ночью проводили дорогие останки на кладбище Пер-Лашез. Орас Бьяншон устранил все препятствия, не уклонившись ни от одного; он ходатайствовал перед министрами, сознавшись им в давней дружбе с погибшим федералистом. Трогательная сцена погребения запечатлелась в памяти немногочисленных друзей, которые сопровождали пятерых знаменитостей. Прогуливаясь по этому нарядному кладбищу, вы заметите зеленый холмик могилы с черным деревянным крестом, на котором красными буквами начертано: «Мишель Кретьен». Памятник примечательный. Друзья, купившие это место на вечные времена, решили, что именно простотой должно почтить память того, кто сам был прост.
Итак, в этой холодной мансарде осуществлялись прекраснейшие мечтания чувств. Там братья, одинаково сильные каждый в своей области, просвещали друг друга и чистосердечно высказывали все, даже самые дурные мысли; все они были люди глубоких знаний и закалены в горниле нужды. Принятый в среду этих избранных существ и признанный равным, Люсьен в их кругу представлял поэзию и красоту. Он прочел им сонеты, вызвавшие восторг. Его просили прочесть сонет, как он сам просил Мишеля Кретьена спеть песню. Среди пустыни Парижа Люсьен обрел наконец оазис на улице Катр-Ван.
В начале октября Люсьен, истратив последние деньги на дрова, остался без средств в самый разгар работы над исправлением своего романа. Даниель д’Артез топил торфом камин и стоически переносил нищету: он никогда не жаловался, был аккуратен, как старая дева, и настолько педантичен, что порою казался скупым. Мужество д’Артеза воодушевляло Люсьена; он был новым членом Содружества, и признаться в своей отчаянной нужде было для него невыносимо. Однажды утром он пошел на улицу Дюкок, чтобы продать своего «Лучника Карла IX», но не застал Догро. Люсьен не знал, как снисходительны великие умы. Слабости, свойственные поэтам, упадок духа, наступающий вслед за напряжением души, взволнованной созерцанием натуры, которую они призваны воспроизвести, – все это было понятно его друзьям. Эти люди, такие стойкие в личных несчастьях, принимали близко к сердцу огорчения Люсьена. Они понимали, что он нуждается в деньгах. И тихие вечера дружеских бесед, глубоких размышлений, поэзии, признаний, вдохновенных полетов в области мысли, в грядущее народов, в прошлое истории кружок увенчал поступком, показавшим, как мало Люсьен понимал своих друзей.
– Люсьен, друг мой, – сказал ему Даниель, – ты вчера не пришел к Фликото, и мы знаем почему.
Люсьен не мог удержать слез, которые полились по его щекам.
– Ты не откровенен с нами, – сказал Мишель Кретьен, – мы сделали пометку крестиком на камине и, когда дойдет до десяти…
– Неожиданно, – сказал Бьяншон, – нам всем представилась работа: я вместо Деплена дежурил у больного богача; д’Артез написал статью для «Энциклопедического обозрения»; Кретьен уже было собрался исполнять свои песенки на Елисейских Полях, с платком и с четырьмя свечами, но ему заказал брошюру какой-то господин, пожелавший подвизаться на политическом поприще, и Мишель отпустил ему на шестьсот франков Макиавелли. Леон Жиро занял пятьдесят франков у своего издателя. Жозеф продал эскизы, а в воскресенье шла пьеса Фюльжанса, и зал был полон.
– Вот двести франков, – сказал Даниель, – получай и впредь не греши.
– Пожалуй, он еще бросится к нам в объятия, точно мы невесть что для него сделали! – сказал Кретьен.
Чтобы понять, какое блаженство испытывал Люсьен среди этой живой энциклопедии возвышенных умов, среди молодых людей, украшенных различными дарами, которые каждый извлекал из своей науки, достаточно привести письма, полученные Люсьеном на следующий день от его близких в ответ на страшный крик, исторгнутый у него отчаянием:
Давид Сешар Люсьену.
«Милый Люсьен, прилагаю к письму вексель на твое имя, на сумму двести франков, сроком на три месяца. Ты можешь предъявить его у г-на Метивье, бумаготорговца, нашего парижского поставщика – улица Серпант. Люсьен, дорогой мой! У нас решительно ничего нет. Жена моя ведает теперь делами типографии и выполняет свою работу с такой самоотверженностью, терпением и энергией, что я благословляю Небо, пославшее мне в жены этого ангела. Она сама убедилась в невозможности оказать тебе какую-либо помощь. Но, друг мой, ты стоишь на таком прекрасном пути, тебе сопутствуют сердца столь благородные и великодушные, что, я думаю, ты не уклонишься от своего прекрасного призвания при поддержке таких почти божественных умов, как господа Даниель д’Артез, Мишель Кретьен и Леон Жиро, и следуя советам господ Мэро, Бьяншона и Ридаля, с которыми твое письмо нас познакомило.
Я подписал этот вексель без ведома Евы и найду способ выкупить его в срок. Не отступай от своего пути: он тернист, но ведет к славе. Я предпочту претерпеть тысячи бед, только бы знать, что тебя не засосало какое-нибудь парижское болото. Имей мужество и впредь избегать пагубных мест, злых людей, ветреников и литераторов известного пошиба, которым я узнал истинную цену, живя в Париже.
Одним словом, будь достойным соперником этих возвышенных душ, которые, благодаря тебе, стали и мне дороги. Ты скоро будешь вознагражден за свое поведение. Прощай, возлюбленный брат мой! Ты восхитил мое сердце, я не ожидал от тебя такого мужества.
Давид».
Ева Сешар Люсьену.
«Мой друг, мы плакали, читая твое письмо. Пусть же знают эти благородные сердца, к которым направил тебя добрый ангел, что некая мать и некая бедная молодая женщина утром и вечером будут молить за них Бога, и, если горячие молитвы доходят до Его престола, Он ниспошлет всем вам свои милости. Да, брат мой, их имена врезаны в мое сердце. О! Я когда-нибудь их увижу; я встречусь с ними, хотя бы пришлось идти пешком, чтобы поблагодарить их за дружбу к тебе, ибо она точно пролила бальзам на мои свежие раны. Мы, друг мой, работаем здесь, как чернорабочие. Мой муж, этот безвестный великий человек, которого я с каждым днем все больше люблю, открывая все новые сокровища его сердца, забросил типографию, и я догадываюсь почему: твоя бедность, наша бедность, бедность нашей матери его убивают. Нашего обожаемого Давида, как Прометея, терзает коршун – черная тоска с острым клювом. Что касается его самого, этот благородный человек совсем не заботится о себе, он уповает на удачу. Все дни он посвящает опытам, изыскивая дешевое бумажное сырье для выделки бумаги; он просил меня заняться вместо него делами и помогает мне по мере возможности. Увы! Я беременна. Событие, которое в другое время исполнило бы нас радости, огорчает меня в том положении, в котором мы все находимся. Наша мать точно помолодела, она нашла силы вернуться к тяжелой работе сиделки. Если бы не заботы о деньгах, мы были бы счастливы. Старик Сешар не желает дать сыну ни ливра: Давид ходил к нему, надеясь занять хоть немного денег, чтобы помочь тебе, ибо твое письмо повергло его в отчаяние. “Я знаю Люсьена, он потеряет голову и натворит глупостей”, – сказал он. Я его побранила. «Чтобы мой брат не исполнил своего долга! – отвечала я ему. – Люсьен знает, что я умерла бы от горя». Мы с матушкой, без ведома Давида, заложили кое-какие вещи; матушка выкупит их, как только получит деньги. Таким путем мы достали сто франков, которые и посылаем тебе с дилижансом. Не сетуй на меня, друг мой, что я не отвечала на твое первое письмо. Нам приходилось так тяжко, что случалось не спать по ночам; я работала, как мужчина. Ах! Я не думала, что у меня достанет силы. Госпожа де Баржетон – женщина бездушная и бессердечная: даже разлюбив тебя, она обязана была, ради себя самой, оказать тебе покровительство и помощь, ведь она вырвала тебя из наших объятий и бросила в это ужасное парижское море, где только по милости Божьей можно встретить истинную дружбу в этом потоке людей и интересов. О ней жалеть не стоит! Моя мечта, чтобы подле тебя была преданная женщина, мой двойник; но теперь, когда я знаю, что ты в кругу друзей, родственных нам по их чувствам к тебе, я спокойна. Расправь свои крылья, мой любимый, мой прекрасный гений! Ты – наша любовь, ты будешь нашей славой!
Ева».
«Мое милое дитя, после того, что написала тебе сестра, мне остается только благословить тебя и сказать, что мои молитвы и мои мысли – увы! – полны только тобою, в ущерб тем, кто живет со мной: ибо есть сердца, которые отсутствующих не судят, и таково сердце твоей матери».
Итак, дня два спустя Люсьен мог возвратить друзьям столь участливо предложенную ими ссуду. Никогда, пожалуй, жизнь не казалась ему такой прекрасной, но его самолюбивый порыв не ускользнул от внимательных взоров и тонкой чувствительности его друзей.
– Можно подумать, что ты боишься остаться у нас в долгу! – вскричал Фюльжанс.
– Да, его радость говорит о многом, – сказал Мишель Кретьен. – Мои наблюдения подтверждаются: Люсьен тщеславен.
– Он поэт, – сказал д’Артез.
– Неужели вы порицаете меня за чувство, столь естественное?
– Люсьен заслуживает снисхождения: ведь он не лукавил, – сказал Леон Жиро. – Он все же откровенен, но боюсь, что впредь он будет нас остерегаться.
– Почему? – спросил Люсьен.
– Мы читаем в твоем сердце, – отвечал Жозеф Бридо.
– В тебе заложен сатанинский дух, – сказал Мишель Кретьен, – ты в своих собственных глазах оправдываешь поступки, противные нашим взглядам; вместо того чтобы быть софистом в идеях, ты будешь софистом в действии.
– Боюсь, что это так, – сказал д’Артез. – Люсьен, ты станешь вести споры с самим собою, достойные восхищения, и в этом ты достигнешь совершенства, но завершится все это недостойными поступками… Ты никогда не придешь к согласию с самим собою.
– На чем основано ваше обвинение? – спросил Люсьен.
– Твое тщеславие, мой милый поэт, столь велико, что ты влагаешь его даже в дружбу! – вскричал Фюльжанс. – Подобное тщеславие обличает чудовищное себялюбие, а себялюбие – яд для дружбы.
– О боже мой! – вскричал Люсьен. – Стало быть, вы не знаете, как я вас люблю?
– Если бы ты нас любил, как мы любим друг друга, неужели ты стал бы возвращать нам так поспешно и торжественно то, что мы предложили тебе с такой радостью?
– Здесь не дают взаймы, а просто дают, – резко сказал Жозеф Бридо.
– Не думай, что мы жестоки, милый мальчик, – сказал ему Мишель Кретьен. – Мы прозорливы. Мы опасаемся, что ты когда-нибудь предпочтешь утехи мелкой мстительности радостям нашей дружбы. Прочти Гётев «Тассо», величайшее творение этого прекрасного гения, и ты увидишь, что поэт любит драгоценные ткани, пиршества, триумфы, блеск. Что ж! Будь Тассо, но без его безумств. Свет и его соблазны манят тебя? Останься здесь… Перенеси в область идей все то, чего алчет твоя суетность. Безумство за безумство! Вноси добродетель в поступки и порок в мысли, вместо того чтобы, как сказал тебе д’Артез, мыслить возвышенно, а поступать дурно.
Люсьен опустил голову: друзья были правы.
– Признаюсь, я не так силен, как вы, – сказал он, окинув их чарующим взглядом. – Не моим плечам выдержать Париж, и не мне мужественно бороться. Природа наделила нас различными натурами и способностями, и вам лучше, чем кому-либо, знакома изнанка пороков и добродетелей. А я, признаюсь вам, уже устал.
– Мы поддержим тебя, – сказал д’Артез. – Разве не в этом долг верной дружбы?
– Полноте! Помощь, которую я только что получил, временная, и мы все одинаково бедны. Нужда опять станет угнетать меня. Кретьен берет заказы от первого встречного, он не знаком с издателями. Бьяншон вне этого круга интересов. Д’Артез знает лишь издателей научных и специальных трудов, они не имеют никакого влияния на издателей литературных новинок. Орас, Фюльжанс Ридаль и Бридо работают в области, отстоящей на сто лье от издательских дел. Я должен принять решение.
– Решись, как и мы, страдать! – сказал Бьяншон. – Страдать мужественно и полагаться на труд.
– То, что для вас только страдание, для меня – смерть, – с горячностью сказал Люсьен.
– Прежде, нежели трижды пропоет петух, – сказал, улыбаясь, Леон Жиро, – этот человек отречется от труда и предастся праздности и парижским порокам.
– Куда же вас привел труд? – смеясь, сказал Люсьен.
– На полпути из Парижа в Италию еще не спрашивай, где Рим! – сказал Жозеф Бридо. – Ты ожидаешь какой-то манны небесной.
– Манна небесная достается лишь первенцам пэров Франции, – сказал Мишель Кретьен. – Но мы должны и посеять, и пожать, и находим, что так полезнее.
Разговор принял шутливый оборот и перешел на другие темы. Эти прозорливые умы, эти нежные сердца старались, чтобы Люсьен позабыл размолвку, но он с тех пор понял, как трудно их обмануть. Вскоре его душу опять охватило отчаяние, но он таил свои чувства от друзей, почитая их неумолимыми наставниками. Его южный темперамент, столь легко пробегающий по клавиатуре чувств, побуждал его принимать самые противоречивые решения.
Не раз он высказывал желание взяться за газетную работу, и друзья неизменно отвечали ему:
– Остерегись!
– Газета будет могилой нашего милого, нашего прекрасного Люсьена, которого мы любим и знаем, – сказал д’Артез.
– Ты не устоишь против постоянной смены забав и труда, обычной в жизни журналиста, а стойкость – основа добродетели. Ты будешь так упоен своей властью, правом обрекать на жизнь и на смерть творения мысли, что месяца через два обратишься в настоящего журналиста. Стать журналистом – значит стать проконсулом в литературной республике. «Кто может все сказать, тот может все сделать!» – изречение Наполеона. И он прав.
– Но разве вас не будет подле меня? – сказал Люсьен.
– Нет! – воскликнул Фюльжанс. – Став журналистом, ты будешь думать о нас не больше, чем блистательная, избалованная балерина, развалясь в обитой шелком карете, думает о родной деревне, коровах и сабо. У тебя все качества журналиста: блеск и легкость мысли. Ты никогда не пренебрежешь остротой, хотя бы от нее пришлось плакать твоему другу. Я вижу журналистов в театральных фойе, они наводят на меня ужас. Журналистика – настоящий ад, пропасть беззакония, лжи, предательства; выйти оттуда чистым может только тот, кого, как Данте, будет охранять божественный лавр Вергилия.
Чем упорнее друзья препятствовали Люсьену вступить на путь журналистики, тем сильнее желание изведать опасность побуждало его отважиться на этот шаг, и он повел спор с самим собою: и впрямь, не смешно ли дозволить нужде еще раз одолеть его, застигнув врасплох, все таким же беззащитным? Обескураженный неудачной попыткой издать свой первый роман, Люсьен вовсе не спешил взяться за второй. К тому же на что жить, покамест он будет писать роман? Месяц нужды исчерпал запас его терпения. И разве нельзя внести достоинство в профессию, которую оскверняют журналисты, лишенные совести и достоинства? Друзья оскорбляют его своим недоверием, он желает доказать им силу своего духа. Может быть, и он когда-нибудь окажет им помощь, станет глашатаем их славы!
– Притом какая же это дружба, если она боится соучастия? – спросил он однажды вечером Мишеля Кретьена, провожая его домой вместе с Леоном Жиро.
– Мы ничего не боимся, – отвечал Мишель Кретьен. – Если бы ты, к несчастью, убил свою возлюбленную, я бы помог тебе скрыть преступление и не перестал бы тебя уважать; но, если я узнаю, что ты шпион, я убегу от тебя в ужасе, потому что подлость и трусость будут возведены тобой в систему. Вот в двух словах сущность журналистики. Дружба прощает проступок, необдуманное движение страсти, но она неумолима, если речь идет о торговле совестью, умом и мыслью.
– Но разве я не могу стать журналистом затем только, чтобы продать мой сборник стихов и роман и тотчас же бежать из газеты?
– Макиавелли так и поступил бы, но не Люсьен де Рюбампре, – сказал Леон Жиро.
– Ну что ж! – вскричал Люсьен. – Я докажу, что стою Макиавелли.
– Ах! – вскричал Мишель, сжимая руку Леона, – ты его погубил! Люсьен, – сказал он, – у тебя триста франков, ты можешь прожить спокойно три месяца; что ж, трудись, напиши второй роман. Д’Артез и Фюльжанс помогут тебе создать план. Ты приобретешь опыт, станешь настоящим романистом. А я проникну в один из этих лупанариев мысли, я сделаюсь на три месяца журналистом, продам твои книги какому-нибудь издателю, сперва разбранив его издания, я напишу статьи, я добьюсь хороших отзывов о тебе; мы создадим тебе успех, ты будешь знаменитостью и останешься нашим Люсьеном.
– Однако как ты меня презираешь, если думаешь, что я погибну там, где сам ты надеешься уцелеть! – сказал поэт.
– Прости ему, господи, ведь он младенец! – вскричал Мишель Кретьен.
Изощрив свой ум в долгие вечера, проведенные у д’Артеза, Люсьен принялся изучать статьи и зубоскальство мелких газет. Уверенный, что он по меньшей мере окажется равным самым остроумным журналистам, он тайно упражнялся в этой гимнастике мысли и однажды утром вышел из дому с горделивым замыслом предложить свои услуги одному из командиров этих летучих отрядов прессы. Он оделся в самое приличное платье и отправился на правый берег Сены, рассчитывая, что писатели и журналисты, будущие его соратники, окажут ему более ласковый и великодушный прием, нежели те издатели, о которых разбились его надежды; он встретит сочувствие, добрую и нежную привязанность в духе той дружбы, которую ему дарил кружок на улице Катр-Ван. Волнуемый предчувствиями, столь милыми людям с живым воображением, и оспаривая их, он вступил на улицу Сен-Фиакр, близ бульвара Монмартр, и остановился перед домом, где помещалась редакция маленькой газетки; вид этого дома привел юношу в трепет, точно он входил в какой-то вертеп. И все же он вошел в редакцию, помещавшуюся на антресолях. В первой комнате, разделенной надвое перегородкой, снизу дощатой, сверху решетчатой, упиравшейся в потолок, он увидел однорукого инвалида, который единственной своей рукой поддерживал на голове несколько стоп бумаги, а в зубах держал налоговую книжку управления гербовыми сборами. Этот бедняга, прозванный Тыквой ввиду сходства его лица с этим плодом – такое оно было желтое и усеянное багровыми бородавками, указал Люсьену на газетного цербера, восседавшего за перегородкой. То был отставной офицер с ленточкой в петлице, кончик его носа утопал в седине усов, черная шапочка прикрывала его голову, выступавшую из просторного синего сюртука, точно голова черепахи из-под ее панциря.
– С какого числа вам угодно подписаться? – спросил его этот офицер времен Империи.
– Я пришел не ради подписки, – отвечал Люсьен.
Поэт увидел на двери, против входа, дощечку с надписью «Редакция», и ниже – «Посторонним вход воспрещается».
– Стало быть, опровержение? – продолжал наполеоновский солдат. – О да! Мы сурово обошлись с Мариеттой. Что поделаешь! Я и сам не знаю, в чем тут причина. Но если вы потребуете удовлетворения, я готов, – прибавил он, взглянув на рапиры и пистолеты, это оружие современного рыцарства, составленное в углу.
– Отнюдь нет, сударь… Я желал бы поговорить с главным редактором.
– Раньше четырех здесь не бывает никого.
– Послушайте-ка, старина Жирудо, я насчитал одиннадцать столбцов; мы получим по сто су за столбец – это составит пятьдесят пять франков; я же получил сорок; стало быть, вы мне должны еще пятнадцать франков, как я и говорил…
Эти слова исходили из уст тщедушного и невзрачного молодого человека с лицом прозрачным, как белок яйца, сваренного всмятку, с нежно-голубыми, но страшно лукавыми глазами, выглядывавшего из-за плеча отставного военного, который своим плотным корпусом скрывал его. Люсьен похолодел, услышав этот голос: в нем сочеталось мяуканье кошки с астматической одышкой гиены.
– Те-те-те! Мой храбрый новобранец, – отвечал отставной офицер. – Да ведь вы считаете только заголовки и пробелы, а мне Фино отдал приказ подсчитывать все строчки и делить их на число строк, полагающихся в столбце. Когда я над вашей статьей произвел эту ущемляющую операцию, я выгадал три столбца.
– Он не платит за пробелы, вот арап! А своему компаньону, видите ли, все сплошь оплачивает под тем или иным предлогом. Поговорю-ка я с Этьеном Лусто, с Верну…
– Не смею нарушать приказ, голубчик, – сказал офицер. – Фу-ты! Из-за пятнадцати франков вы бунтуете против своего кормильца! Да ведь вам написать статью проще, чем мне выкурить сигару! Полноте! Не угостите лишний раз друзей бокалом пунша или не выиграете лишнюю партию на бильярде, вот и все!
– Фино выколачивает из нас каждое су, но это ему дорого обойдется, – отвечал сотрудник; он встал и вышел.
– Ну чем он не Вольтер и не Руссо? – буркнул кассир, посмотрев на провинциального поэта.
– Сударь, – продолжал Люсьен, – так я зайду в четыре.

Покамест шел спор, Люсьен рассматривал висевшие по стенам вперемежку с карикатурами на правительство портреты Бенжамена Констана, генерала Фуа и семнадцати прославленных ораторов либеральной партии. Взор его приковывала дверь святилища, где, видимо, составлялся этот листок, потешавший его каждое утро, пользовавшийся правом вышучивать королей и важные государственные события, короче, не щадить ничего ради острот. Он пошел бродить по бульварам: удовольствие совсем новое для него и столь увлекательное, что он и не вспомнил о завтраке, а между тем стрелки часов в часовых магазинах уже подвинулись к четырем. Поэт поспешно воротился на улицу Сен-Фиакр, взбежал по лестнице, распахнул дверь: старого воина там не было, только инвалид восседал на листах проштемпелеванной бумаги и жевал корку хлеба. Он стоял на посту у газеты так же покорно, как прежде стоял на часах, не рассуждая, как не рассуждал во время походов, маршируя по приказу императора. Люсьену пришла отважная мысль обмануть этого грозного служаку: он, не снимая шляпы, прошел мимо него и, точно был здесь своим человеком, отворил двери в святая святых. Его жадным взорам предстал круглый стол, покрытый зеленым сукном, и шесть стульев вишневого дерева с плетеными, новенькими еще сиденьями. Паркетный пол не был натерт, но его чистота свидетельствовала о том, что посетители были здесь довольно редким явлением. На камине он увидел зеркало, дешевые часы, покрытые пылью, два подсвечника о двух свечах, небрежно вставленных, наконец, визитные карточки, разбросанные повсюду. На столе вокруг чернильницы с высохшими чернилами, напоминавшими лак, и украшенной целым веером из перекрученных перьев, валялись старые газеты. На листках скверной бумаги он увидел несколько статей, написанных неразборчиво, почти иероглифами, надорванных сверху типографскими рабочими в знак того, что статья набрана. Потом он полюбовался на карикатуры, валявшиеся там и тут, довольно остроумные, нарисованные на обрывках серой бумаги людьми, без сомнения, убивавшими все, что подвертывалось под руку, лишь бы убить время. На блекло-зеленоватых обоях были приколоты булавками девять рисунков пером – шаржи на «Отшельника», книгу, пожинавшую неслыханный успех в Европе, но, видимо, достаточно наскучившую журналистам: «“Отшельник” пленяет провинциальных дам», «“Отшельника” читают в замке», «Влияние “Отшельника” на домашних животных», «В популярном изложении “Отшельник” стяжает блестящий успех у дикарей», «Автор “Отшельника” подносит богдыхану свой труд, переведенный на китайский язык», «Элоди, лишенная чести на Дикой горе». Последняя карикатура показалась Люсьену весьма непристойной, но он невольно улыбнулся. «Торжественное шествие “Отшельника”, под балдахином, по редакциям газет». «“Отшельник” печатный станок сокрушает. Медведей убивает». «“Отшельник”, прочитанный наоборот, восхищает академиков возвышенными красотами». На газетной бандероли Люсьен заметил рисунок, изображавший человека со шляпой в протянутой руке, и подпись: «Фино, отдай мои сто франков!» Под рисунком стояло имя, прогремевшее, но не приобщившееся к славе. Между камином и окном помещались бюро, кресло красного дерева, корзинка для бумаг, а на полу лежал продолговатый ковер, так называемый предкаминный, и все было покрыто густым слоем пыли. На окнах висели коротенькие занавески. На бюро лежало десятка два книг, накопившихся за день, гравюры, ноты, табакерки в память Хартии, экземпляр девятого издания «Отшельника» – книги, все еще забавлявшей умы, и десяток нераспечатанных писем. Пока Люсьен обозревал этот причудливый инвентарь и предавался необузданным мечтаниям, пробило пять, и он пошел потолковать с инвалидом. Тыква уже дожевал свою корку хлеба и, как покорный часовой, поджидал офицера с ленточкой Почетного легиона, а тот, возможно, прогуливался по бульвару. В эту минуту на лестнице послышалось шуршанье платья, затем легкие шаги, по которым нетрудно узнать женщину, и на пороге появилась посетительница. Она была недурна собой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































