Текст книги "Утраченные иллюзии"
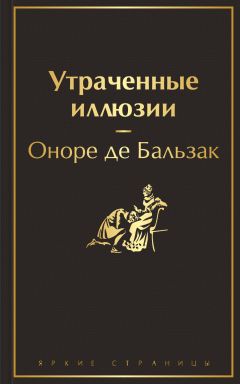
Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Вы находите, что это очень занимательно, Фифина? – сказала соседке тощая Лили, ожидавшая, возможно, каких-либо балаганных чудес.
– Не спрашивайте моего мнения, душенька: у меня глаза смыкаются, как только начинают читать.
– Надеюсь, Наис не чересчур часто будет угощать нас стихами на своих вечерах, – сказал Франсис. – Когда я слушаю чтение, мне приходится напрягать внимание, а это вредно для пищеварения.
– Бедный котенок, – тихонько сказала Зефирина, – выпейте стакан воды с сахаром.
– Отличная декламация, – сказал Александр, – но я предпочитаю вист.
Услышав этот ответ, сошедший за остроту благодаря английскому значению слова[12]12
Whist (по-английски равнозначно русскому «Тсс!») – знак молчания.
[Закрыть], несколько картежниц высказали предположение, что автор нуждается в отдыхе. Под этим предлогом одна-две пары удалились в будуар. Люсьен, по просьбе Луизы, очаровательной Лауры де Растиньяк и епископа, вновь возбудил внимание чтением контрреволюционных «Ямбов», вызвавших рукоплескания: многие, не уловив смысла стихов, увлечены были пламенностью чтения. Есть люди, на которых крик действует возбуждающе, как крепкие напитки на грубые глотки. Покамест разносили мороженое, Зефирина послала Франсиса заглянуть в книжку и сказала своей соседке Амели, что стихи, читанные Люсьеном, напечатаны.
– Мудреного нет, – отвечала Амели, и лицо ее изобразило удовольствие, – господин де Рюбампре работает в типографии. Ведь это то же самое, – сказала она, глядя на Лолотту, – как если бы красивая женщина сама шила себе платья.
– Он сам напечатал свои стихи, – зашушукались дамы.
– Почему же тогда он называет себя господином де Рюбампре? – спросил Жак. – Если дворянин занимается ремеслом, он обязан переменить имя.
– Он и впрямь переменил свое мещанское имя, – сказала Зизина, – но затем, чтобы принять имя матери – дворянки.
– Но ежели вся эта канитель напечатана, мы можем и сами прочесть, – сказал Астольф.
Тупость этих людей в высшей степени усложнила вопрос, и Сиксту дю Шатле пришлось объяснить невежественному собранию, что предуведомление Люсьена – отнюдь не ораторская уловка и что эти прекрасные стихи принадлежат роялисту Шенье, брату революционера Мари-Жозефа Шенье. Ангулемское общество, за исключением епископа, г-жи де Растиньяк и ее двух дочерей, увлеченных высокой поэзией, сочло, что оно одурачено, и оскорбилось обманом. Поднялся глухой ропот, но Люсьен его не слышал. Точно сквозь туман, мелькали перед ним лица окружающих, он отрешился от этого пошлого мира и, опьяненный внутренней мелодией, искал ей созвучий. Он прочел мрачную элегию о самоубийстве, элегию в античном вкусе, дышащую возвышенной печалью; затем ту, где есть строфа: «Твои стихи нежны, люблю их повторять».
Он окончил чтение пленительной идиллией, озаглавленной «Неэра».
В сладостной задумчивости, затуманившей ее взор, г-жа де Баржетон сидела, опустив руку, другой рукою в рассеянии играя локоном, забыв о гостях: впервые в жизни она почувствовала себя перенесенной в родную стихию. Судите же, как некстати потревожила ее Амели, взявшаяся передать ей общее пожелание.
– Наис, мы пришли послушать стихи господина Шардона, а вы преподносите нам напечатанные стихи. Они очень милы, но наши дамы из патриотизма предпочли бы вино собственного изготовления…
– Вы не находите, что французский язык мало пригоден для поэзии? – сказал Астольф управляющему сборами. – По мне, так проза Цицерона во сто раз поэтичнее.
– Настоящая французская поэзия – легкая поэтическая песня, – отвечал Шатле.
– Песня доказывает, что наш язык чрезвычайно музыкален, – сказал Адриен.
– Желала бы я послушать стихи, погубившие Наис, – сказала Зефирина, – но, судя по тому, как была принята просьба Амели, она не расположена показать нам образец.
– Она должна ради собственного блага приказать ему прочесть свои стихи, – сказал Франсис. – Ведь ее оправдание – в талантах этого птенца.
– Вы, как дипломат, устройте нам это, – сказала Амели г-ну дю Шатле.
– Ничего нет проще, – сказал барон.
Бывший секретарь по особым поручениям, искушенный в подобных делах, отыскал епископа и умудрился действовать через него. По настоянию монсеньора, Наис пришлось попросить Люсьена прочесть какой-нибудь отрывок, который он помнит наизусть. Быстрый успех барона в этом поручении заслужил ему томную улыбку Амели.
– Право, барон чрезвычайно умен, – сказала она Лолотте.
Лолотта вспомнила кисло-сладкий намек Амели насчет женщин, которые сами шьют себе платья.
– Давно ли вы стали признавать баронов Империи? – отвечала она, улыбаясь.
Люсьен пытался однажды обожествить возлюбленную в оде, посвященной ей и озаглавленной как все оды, которые пишут юноши, кончающие коллеж. Ода, столь любовно выношенная, украшенная всей страстью его сердца, представлялась ему единственным произведением, способным поспорить с поэзией Шенье. Бросив порядочно фатовской взгляд на г-жу де Баржетон, он сказал: «К ней». Затем он принял горделивую позу, чтобы произнести это стихотворение, исполненное тщеславия, ибо (в своем авторском самолюбии) он чувствовал себя в безопасности, держась за юбку г-жи де Баржетон. И тут Наис выдала женским взорам свою тайну. Несмотря на привычку повелевать этим миром с высот своего ума, она не могла не трепетать за Люсьена. На ее лице изобразилась тревога, взгляды ее молили о снисхождении; потом она принуждена была потупить глаза, скрывая удовольствие, нараставшее по мере того, как развертывались следующие строфы:
К НЕЙ
Из громоносных сфер, где блещут свет и слава,
Где ангелы поют у трона первых сил,
Где в блеске зиждется предвечного держава
На сонмах огненных светил,
С чела стирая нимб божественности мудрой,
Простясь на краткий срок с надзвездной вышиной,
Порою в наш предел на грустный брег земной
Нисходит ангел златокудрый.
Его направила Всевышнего рука,
Он усыпляет скорбь гонимого поэта,
Как ласковая дочь, он тешит старика
Цветами солнечного лета.
На благотворный путь слепца выводит он
И утешает мать животворящим словом,
Приемлет позднего раскаяния стон,
Бездомных наделяет кровом.
Из этих вестников явился к нам один,
Алкающей земле ниспослан небесами,
В родную высь глядит он из чужих долин
И плачет тихими слезами.
Не светлого чела живая белизна
Мне родину гонца небесного открыла,
Не дивных уст изгиб, не взора глубина,
Не благодати Божьей сила, —
Мой разум просветив, любовь вошла в меня,
Слиянья с Божеством искать я начал смело,
Но неприступного архангела броня
Пред ослепленным зазвенела.
О, берегитесь же, иль, горний серафим,
От вас умчится он в надзвездные селенья,
И не помогут вам обеты и моленья, —
Он слуха не преклонит к ним.
– Вы поняли каламбур? – сказала Амели г-ну дю Шатле, обращая на него кокетливый взор.
– Стихи как стихи, мы все их писали понемногу, когда кончали коллеж, – отвечал барон скучающим тоном, приличествующим его роли знатока, которого ничто не удивляет. – Прежде мы пускались в оссиановские туманы. То были Мальвины, Фингалы, облачные видения, воители со звездой во лбу, выходившие из своих могил. Нынче эта поэтическая ветошь заменена Иеговой, ангелами, крылами серафимов, всем этим райским реквизитом, обновленным словами: необъятность, бесконечность, одиночество, разум. Тут и озера, и божественный глагол, некий христианизированный пантеизм, изукрашенный такими редкостными вычурными рифмами, как тимпан – тюльпан, восторг – исторг и так далее. Короче, мы перенеслись в иные широты: прежде витали на севере, теперь на востоке, но мрак по-прежнему глубок.
– Если ода и туманна, – сказала Зефирина, – признание, по-моему, выражено чрезвычайно ясно.
– И кольчуга архангела прозрачна, как кисейное платье, – сказал Франсис.
Пускай правила учтивости и требовали из угождения г-же де Баржетон открытого признания этой оды прелестным произведением, все же женщины, разгневанные тем, что к их услугам нет поэта, готового возвести их в ангельский чин, поднялись со скучающим видом, цедя сквозь зубы: «Восхитительно, божественно, чудесно!».
– Ежели вы меня любите, не хвалите ни автора, ни его ангела, – властным тоном сказала Лолотта своему дорогому Адриену, и тому пришлось подчиниться.
– Право, все это пустые фразы, – сказала Зефирина Франсису. – Любовь – поэзия в действии.
– Вы сказали, Зизина, то, что я думал, но не умел выразить так тонко, – отвечал Станислав, самодовольно охорашиваясь.
– Чего бы я ни дала, чтобы сбить спесь с Наис, – сказала Амели, обращаясь к дю Шатле. – Она смеет еще изображать какого-то архангела, точно она выше всех, а сама сводит нас с сыном аптекаря и повивальной бабки, братом гризетки, типографским рабочим.
– Его отец торговал слабительным, жаль, что он не прочистил мозги сыну, – сказал Жак.
– Сын идет по стопам отца, он угостил нас снотворным, – сказал Станислав, приняв пленительнейшую позу. – Снотворное всегда остается снотворным, я предпочел бы нечто другое.
И все, точно сговорясь, старались унизить Люсьена каким-нибудь аристократически насмешливым замечанием. Лили, женщина набожная, почла долгом милосердия преподать вовремя, как она выразилась, назидание Наис, готовой совершить безумие. Дипломат Франсис взялся довести до развязки глупый заговор, представлявший для этих мелких душ занятность драматической развязки и тему для завтрашних пересудов. Бывший консул, мало расположенный драться с юным поэтом, который, услышав оскорбительные слова в присутствии возлюбленной, легко мог вспылить, понял, что надобно сразить Люсьена священным мечом, против которого месть бессильна. Он последовал примеру, который подал ловкий дю Шатле, когда речь зашла о том, чтобы принудить Люсьена прочесть стихи. Он вступил в разговор с епископом и из коварства поддерживал восторги его преосвященства, восхищенного одой Люсьена; затем он стал картинно описывать, как мать Люсьена, женщина выдающаяся, но чрезвычайно скромная, внушает сыну темы всех его сочинений. Для Люсьена было величайшим удовольствием видеть, что его обожаемой матери воздают должное. Затронув воображение епископа, Франсис положился на случай, который предоставил бы монсеньору повод в разговоре обмолвиться подсказанным ему обидным намеком. Когда Франсис и епископ опять приблизились к кружку, в центре которого находился Люсьен, внимание людей, уже понудивших его испить цикуты, возросло. Не обладая навыками света, бедный поэт глаз не отводил от г-жи де Баржетон и неловко отвечал на неловкие вопросы, с которыми к нему адресовались. Он не знал ни имени, ни титулов большинства присутствовавших и не умел поддержать разговора с женщинами, которые болтали всякий вздор, приводивший его в смущение. Притом он чувствовал себя на тысячу лье от этих ангулемских богов, именовавших его то г-ном Шардоном, то г-ном де Рюбампре, между тем как друг друга они называли Лолоттой, Адриеном, Астольфом, Лили, Фифиной. Смущение Люсьена возросло до крайности, когда, приняв Лили за мужское имя, он назвал господином Лили грубого г-на де Сенонша. Немврод оборвал Люсьена, переспросив: «Что вам угодно, господин Люлю?» – причем г-жа де Баржетон покраснела до ушей.
– Надобно быть совершенно ослепленной, чтобы принимать у себя и представлять нам этого щелкопера! – сказал г-н де Сенонш вполголоса.
– Маркиза, – сказала Зефирина г-же де Пимантель шепотом, но так, чтобы все ее слышали, – не находите ли вы между господином Шардоном и господином де Кант-Круа разительное сходство?
– Сходство совершенное, – улыбаясь, отвечала г-жа де Пимантель.
– Слава очаровывает, и в том не грех признаться, – сказала г-жа де Баржетон маркизе. – Одних женщин пленяет величие, других ничтожество, – прибавила она, взглянув на Франсиса.
Зефирина не поняла намека, ибо считала своего консула мужчиной весьма изрядных качеств; но маркиза приняла сторону Наис и рассмеялась.
– Вы чрезвычайно счастливы, сударь, – сказал Люсьену г-н де Пимантель, желавший найти повод назвать его де Рюбампре, после того как ранее назвал Шардоном. – Вы, верно, никогда не скучаете?
– А вы быстро работаете? – спросила Лолотта таким тоном, каким сказала бы столяру: «Как скоро вы можете смастерить ящик?».
Люсьен был ошеломлен таким предательским ударом, но он поднял голову, услышав веселый голос г-жи де Баржетон:
– Душа моя, поэзия не произрастает в голове господина де Рюбампре, как трава в наших дворах.
– Сударыня, – сказал епископ Лолотте, – безмерным должно быть наше уважение к благородным умам, озаренным сиянием лучей Господних. Поистине, поэзия – святое дело. Да, творить – это значит страдать. Скольких бессонных ночей стоили строфы, которыми вы только что восхищались! Почтите поэта своей любовью; чаще всего он несчастен в жизни, но Всевышним ему, без сомнения, уготовано место на небесах среди пророков. Этот юноша – поэт, – прибавил он, возлагая руку на голову Люсьена. – Неужто вы не видите на его прекрасном челе печати высокой судьбы?
Обрадованный столь благородным заступничеством, Люсьен поблагодарил епископа нежным взглядом, не ведая, что достойный прелат скоро станет его палачом.
Госпожа Баржетон метала во вражеский стан торжествующие взгляды, которые, точно копья, вонзались в сердца ее соперниц, разжигая их ярость.
– Ах! Ваше высокопреосвященство, – отвечал поэт, надеясь поразить эти тупоумные головы своим золотым скипетром, – люди в большинстве лишены и вашего ума, и вашего человеколюбия. Наши горести им чужды, наши труды недоступны их пониманию. Рудокопу легче добыть золото из недр земли, нежели нам извлечь наши образы из недр языка, наиболее неблагодарного. Ежели назначение поэзии в том, чтобы вознести мысль на те высоты, откуда она будет видна и доступна людям, поэт должен беспрестанно учитывать возможности человеческого разума, чтобы удовлетворить всех; ему надобно таить под самыми яркими красками логику и чувство, две силы, враждебные друг другу; ему надлежит вместить в одно слово целый мир мыслей, представить в одном образе целые философские системы; короче, его стихи лишь семена, которые сулят цветами расцвесть в сердцах, отыскав в них борозды – следы наших сокровенных чувств. Неужто, чтобы все изобразить, не надобно все перечувствовать? И живо чувствовать – не значит ли страдать? Потому-то стихи рождаются лишь после мучительных блужданий по обширным областям мысли и общества. Разве не бессмертны труды, коим мы обязаны творениями, жизнь которых более близка нам, нежели жизнь существ, действительно живших на земле, как то: Кларисса Ричардсона, Камилла Шенье, Делия Тибулла, Анжелика Ариосто, Франческа Данте, Альцест Мольера, Фигаро Бомарше, Ребекка Вальтера Скотта, Дон-Кихот Сервантеса!
– А что вы нам создадите? – спросил Шатле.
– Возвещать о такого рода замыслах, – отвечал Люсьен, – не значит ли выдать обязательство в гениальности? К тому же рождение столь блистательных созданий требует большого житейского опыта, изучения страстей и пристрастий человеческих, чего я еще не мог достичь. Но начало мною уже положено! – с горечью сказал он, метнув в аристократический кружок мстительный взгляд. – Мысль вынашивается медленно…
– Трудными будут роды, – сказал г-н дю Отуа, прерывая его.
– Ваша добрая мать поможет вам, – сказал епископ.
При этих словах, столь искусно подсказанных, при этом отмщении, столь желанном, глаза у всех заискрились от радости. У каждого на устах скользнула улыбка аристократического удовлетворения, подчеркнутая запоздалым смехом слабоумного г-на де Баржетона.
– Ваше высокопреосвященство, вы чересчур остроумны для нас, дамы вас не поняли, – сказала г-жа де Баржетон, и ее слова оборвали смех и привлекли к ней удивленные взоры. – Поэту, черпающему свои вдохновенные образы в Библии, истинной матерью является церковь. Господин де Рюбампре, прочтите нам «Апостола Иоанна на Патмосе» или «Пир Валтасара», надобно показать его высокопреосвященству, что Рим и поныне Magna parens[13]13
Великая мать (лат.).
[Закрыть] Вергилия.
Женщины обменялись улыбками, когда Наис произнесла два латинских слова.
Вступая в жизнь, и самые самонадеянные порою поддаются унынию. От нанесенного удара Люсьен пошел было ко дну; но он оттолкнулся ногой и всплыл на поверхность, поклявшись покорить этот кичливый свет. Точно бык, пронзенный сотней стрел, он вскочил, взбешенный, и готов был, повинуясь желанию Луизы, прочесть «Апостола Иоанна на Патмосе», но уже карточные столики приманили игроков, и они, войдя в привычную колею, смаковали удовольствие, какого не могла им дать поэзия. Притом месть стольких раздраженных самолюбий не была бы полной, если бы гости не выразили своего презрительного отношения к доморощенной поэзии бегством от общества Люсьена и г-жи де Баржетон. У всех оказались свои заботы: тот повел беседу с префектом об окружной дороге, этот высказал желание развлечься ради разнообразия музыкой. Ангулемская знать, чувствуя себя плохим судьей в поэзии, особенно любопытствовала узнать, какого мнения о Люсьене Растиньяки и Пимантели, и вокруг них образовался кружок. Высокое влияние, которым в округе пользовались эти две семьи, в особо важных случаях всегда признавалось: все им завидовали и все за ними ухаживали, ибо каждый предвидел, что их покровительство может ему понадобиться.
– Какого вы мнения о нашем поэте и его поэзии? – обратился Жак к маркизе, в имении которой он охотился.
– Что ж, для провинциальных стихов они недурны, – сказала она с улыбкой. – Впрочем, поэт так хорош собою, что ничего не может делать дурно.
Все нашли приговор восхитительным и подхватили это суждение, влагая в него более злой смысл, нежели того желала маркиза. Дю Шатле, уступая просьбам, согласился аккомпанировать г-ну де Барта, и тот врезал коронную арию Фигаро. Поскольку уже были открыты двери для музыки, пришлось выслушать в исполнении дю Шатле и рыцарский романс, сочиненный Шатобрианом во времена Империи. Затем последовали пьесы в четыре руки, разыгранные «девочками» по настоянию г-жи де Броссар, желавшей блеснуть перед г-ном де Севраком талантом своей дорогой Камиллы.
Г-жа де Баржетон, оскорбленная пренебрежением, которое каждый выказывал ее поэту, воздала презрением за презрение, удалившись в свой будуар на все время, покуда занимались музыкой. За ней последовал епископ, которому старший викарий объяснил глубокую иронию его невольной колкости, и он желал искупить свою вину. Лаура де Растиньяк, плененная поэзией, проскользнула в будуар тайком от матери. Усевшись на канапе со стеганым тюфячком и усадив подле себя Люсьена, Луиза сказала ему на ухо, и никто того не заметил и не услышал:
– Милый ангел, они тебя не поняли! Но… Твои стихи нежны, люблю их повторять.
Люсьен, утешенный лестью, забыл на короткое время о своих горестях.
– Слава не дается даром, – сказала г-жа де Баржетон, сжимая ему руку. – Терпите, терпите, мой друг, вы будете великим человеком, ценою мучений вы обретете бессмертие. Я желала бы испытать всю тяжесть борьбы. Храни вас Бог от жизни тусклой, лишенной бурь, в ней нет простора для взмаха орлиных крыльев. Я завидую вашим страданиям, вы по крайней мере живете! Вы развернете свои силы, вас воодушевит надежда на победу. Ваша борьба будет славной. Когда вы вступите в царственную сферу, где владычествуют высокие умы, вспомните о неуютных, обездоленных судьбою, чей ум изнемогает, задыхаясь в удушливой атмосфере нравственного азота, о тех, кто погибает, сознавая постоянно, как хороша жизнь, но не имеет возможности жить, о тех, кому даны зоркие глаза, но они так ничего и не увидели, о тех, кто рожден с тонким обонянием, но вдыхал лишь запах ядовитых растений. Воспойте тогда цветок, что вянет в чаще лесной, задушенный лианами, жадными, буйно разросшимися травами, не обласканный солнцем, зачахнувший, не успев расцвесть! Ужели это не поэма жестокой печали, не сюжет совершенной фантазии? Какая возвышенная задача изобразить юную девушку, рожденную под небом Азии, или дочь пустыни, заброшенную в какую-нибудь страну холодного Запада: она призывает возлюбленное солнце, умирая от неизреченной тоски, равно убитая холодом и любовью! То был бы образ многих существований.
– Тем самым вы изобразили бы душу, тоскующую о небесах, – сказал епископ. – Некогда подобная поэма несомненно существовала, и я утешаюсь мыслью, что «Песнь песней» – один из ее отрывков.
– Напишите такую поэму, – сказала Лаура де Растиньяк, выражая наивную веру в гений Люсьена.
– Франции недостает серьезной духовной поэмы, – сказал епископ. – Поверьте мне: слава и богатство будут наградой талантливому человеку, который потрудится ради религии.
– Он напишет, ваше высокопреосвященство, – сказала г-жа де Баржетон с воодушевлением. – Разве идея поэмы не забрезжила уже как пламя зари в его глазах?
– Наис пренебрегает нами, – сказала Фифина. – Что она там делает?
– Разве вы не слышите? – отвечал Станислав. – Она оседлала своего конька и выезжает на громких фразах, у которых нет ни головы, ни хвоста.
Амели, Фифина, Адриен и Франсис появились в дверях будуара вслед за г-жой де Растиньяк, которая искала дочь, собравшись уезжать.
– Наис, – заговорили сразу обе дамы, восхищенные случаем нарушить уединение будуара. – Будьте так милы, сыграйте нам что-нибудь!
– Душеньки, – отвечала г-жа де Баржетон, – господин де Рюбампре прочтет нам «Апостола Иоанна на Патмосе», дивную библейскую поэму.
– Библейскую?! – удивленно повторила Фифина.
Амели и Фифина воротились в гостиную, принеся туда это слово как пищу для насмешек. Люсьен уклонился от чтения поэмы, сославшись на слабую память. Когда он снова появился в гостиной, он уже ни в ком не возбудил ни малейшего интереса. Каждый был занят беседой или игрой. Лучи поэтического ореола померкли: землевладельцы не видели в нем никакого проку; люди с большими претензиями опасались Люсьена, чувствуя в нем силу, враждебную их невежеству; женщины, завидуя г-же де Баржетон, Беатриче этого новоявленного Данте, как выразился старший викарий, обдавали его ледяным презрением.
«Вот каков свет!» – думал Люсьен, спускаясь в Умо по склонам Болье, ибо бывают в жизни минуты, когда предпочитаешь путь более долгий, чтобы движением поддержать ход мыслей, теснящихся в голове, и отдаться их потоку. Ярость непризнанного честолюбца отнюдь не обескуражила Люсьена, но придала ему новые силы. Как все люди, вовлеченные инстинктом в высшие сферы прежде, чем они обретут возможность там удержаться, он давал себе клятву пожертвовать всем, лишь бы упрочить свое положение в обществе. Он шел и попутно извлекал одну за другой отравленные стрелы, вонзившиеся в него; он громко говорил с самим собою, он бранил глупцов, с которыми только что столкнулся; он находил колкие ответы на глупые вопросы, которые ему предлагались, и это запоздалое остроумие повергало его в отчаяние. Когда он вышел на дорогу, ведущую в Бордо, что змейкой вилась у подножия горы вдоль берега Шаранты, ему почудилось при лунном свете, как будто у самой реки, на бревне неподалеку от фабрики, сидят Ева и Давид, и он спустился к ним по тропинке.
Покуда Люсьен спешил на пытку, ожидавшую его в доме г-жи де Баржетон, его сестра надела розовое перкалевое платье в мелкую полоску, соломенную шляпу и шелковую косынку; в этом простом одеянии она казалась нарядной, что обычно случается с людьми, природное благородство которых сообщает прелесть любому пустяку в их одежде. Потому-то Давид чрезвычайно робел перед нею, когда она сбрасывала с себя рабочую блузу. Хотя типограф решил поговорить о своих чувствах, все же он не знал, что сказать, когда рука об руку с прекрасной Евой шел по улицам Умо. Сладостен этот благоговейный страх любви, сходный со страхом верующих перед величием Божиим. Влюбленные шли молча к мосту Сент-Анн, направляясь на левый берег Шаранты. Ева, тяготясь молчанием спутника, остановилась на средине моста, откуда открывался вид на пороховой завод, чтобы полюбоваться на реку, раскинувшуюся широкой своей гладью, на которую заходящее солнце в ту минуту бросило лучистую веселую дорожку.

– Прекрасный вечер! – сказала она в поисках темы для разговора. – Воздух и теплый, и свежий, цветы благоухают, небо чудесное.
– Все говорит сердцу, – отвечал Давид, пытаясь путем сравнений перейти к своей любви. – Для любящих бесконечное наслаждение находить в причудливости пейзажа, в прозрачности воздуха, в ароматах земли ту поэзию, что скрыта в их душе. Природа говорит за них.
– И развязывает им язык, – сказала Ева, смеясь. – Вы были так молчаливы, покамест мы шли по Умо. Знаете ли, я была просто смущена…
– Я был поражен вашей красотою, – отвечал простодушно Давид.
– Стало быть, теперь я менее красива? – спросила она.
– О нет! Но я так счастлив, гуляя с вами вдвоем, что…
Он остановился в совершенном смущении и стал смотреть на холмы, по которым спускается дорога в Сент.
– Я очень рада, если наша прогулка доставляет вам хоть какое-то удовольствие: вы из-за меня пожертвовали нынешним вечером, и я у вас в долгу. Отказавшись пойти к госпоже де Баржетон, вы поступили так же великодушно, как и Люсьен, рисковавший разгневать ее своей просьбой.
– Не великодушно, а благоразумно, – отвечал Давид. – Мы тут одни под небесами, и нет иных свидетелей, кроме камышей и прибрежных кустов Шаранты, так позвольте мне, дорогая Ева, поделиться с вами своей тревогой, и причина тому – теперешнее поведение Люсьена. После того, что я ему сегодня высказал, вы, надеюсь, объясните мои опасения лишь чуткостью дружбы. Вы с вашей матушкой сделали все, чтобы поставить Люсьена выше его положения; но, льстя его тщеславию, не обрекли ли вы его неосмотрительно на великие муки? Откуда он возьмет средства, чтобы вращаться в свете, куда влекут его желания? Я знаю его! Он из тех натур, что любят пожинать плоды, не прилагая к тому труда. Светские обязанности поглотят все его время, а время – единственное достояние тех, у кого весь капитал – это их ум. Он любит блистать, соблазны света разожгут в нем желания, а удовлетворить их недостанет никаких средств, он станет проматывать деньги, а зарабатывать их не будет; вы приучили его к мысли, что он – великий человек; но прежде, нежели признать чье-либо превосходство, свет требует блистательных успехов. Литературные же успехи даются лишь уединением и упорным трудом. Чем возместит г-жа де Баржетон вашему брату те долгие часы, что он провел у ее ног? Люсьен слишком горд, чтобы принимать помощь от женщины, а мы знаем, что он еще чересчур беден, чтобы бывать в ее обществе, притом вдвойне опустошающем. Рано или поздно эта женщина бросит вашего милого брата, но прежде она внушит ему пренебрежение к труду, привьет вкус к роскоши, презрение к нашей скромной жизни, любовь к наслаждениям, склонность к праздности – этому распутству поэтических душ. Неужто знатная дама забавляется Люсьеном, как игрушкой? Я трепещу при одной этой мысли. Но, может быть, она любит его? Ну, тогда он бросится к ее ногам очертя голову. А если она его не любит? Какое это будет несчастье, ведь он от нее без ума!
– Сердце леденеет от ваших слов, – сказала Ева, остановившись у плотины, преграждавшей течение Шаранты. – Но, покуда у матери достанет сил заниматься ее тяжелым трудом и покуда я жива, мы, может быть, как-нибудь прокормим Люсьена, а там он станет на свои собственные ноги. Мне грешно унывать, – сказала Ева с воодушевлением, – когда трудишься для любимого существа, как можно поддаваться унынию и отчаянию? Стоит только вспомнить, ради кого терпишь такие муки, если только это можно назвать муками, и сердце радуется. О, не бойтесь, мы заработаем достаточно, Люсьен будет принят в свете. Там его счастье.
– Там и его гибель, – возразил Давид. – Выслушайте меня, дорогая Ева. Чтобы создать гениальное произведение, требуется не только настойчивость, но и время, а для этого надобно обладать или солидным состоянием, или мужеством глядеть открыто в глаза вопиющей нищете. Видите ли, Люсьен так страшится нужды, он так упивается ароматами пиршеств, хмелем успехов, его самолюбие так возросло в будуаре госпожи де Баржетон, что он испробует все средства, лишь бы не быть отлученным; и вам, с вашим заработком, не угнаться за его прихотями.
– Стало быть, вы не настоящий друг! – вскричала Ева яростно. – Иначе вы не стали бы нас так разочаровывать!
– Ева! Ева! – отвечал Давид. – Я желал бы быть братом Люсьена. И вы одна можете дать мне это право, которое позволит ему принимать от меня любую помощь, а мне позволит посвятить ему свою жизнь с тою же святой любовью, с какою вы идете на все жертвы ради него, но я иду на это как рассудительный человек. Ева, моя дорогая, любимая, не в вашей ли власти предоставить Люсьену сокровищницу, откуда он мог бы черпать, не смущаясь? Разве кошелек брата не то же, что собственный? Ежели бы вы знали, на какие мысли наводит меня новое положение Люсьена! Мальчик желает бывать у госпожи де Баржетон? Стало быть, ему не пристало работать у меня фактором, не пристало жить в Умо, вам не пристало работать мастерицей, вашей матушке не пристало заниматься своим ремеслом. Если бы вы согласились стать моей женой, все бы уладилось. Люсьен мог бы жить у меня в мансарде, покуда я не отделаю ему помещение над пристройкой в конце двора, в случае ежели отец не пожелает вывести над домом третий этаж. Мы создали бы ему жизнь беззаботную, жизнь независимую. Желание поддержать Люсьена придаст мне решимость разбогатеть, а ради себя одного мне ее недоставало; но от вас зависит дать мне право на такую преданность. Может быть, наступит день, когда он поедет в Париж, единственное место, где он может действовать и где его таланты будут оценены и вознаграждены. Жизнь в Париже дорога, и даже втроем нам все же трудно будет его там содержать. Притом разве вы и ваша матушка не будете нуждаться в опоре? Дорогая Ева, будьте моею женой из любви к Люсьену. Может быть, позже вы полюбите меня, когда увидите, как я стремлюсь помочь ему и сделать вас счастливой. Мы оба скромны в своих вкусах, мы удовольствуемся малым; счастье Люсьена будет главной нашей заботой, и его сердце будет той сокровищницей, в которую мы вложим состояние, чувство, мечтания – все!
– Условности нас разделяют, – сказала Ева, растроганная самоуничижением этой великой любви. – Вы богаты, а я бедна. Надобно сильно любить, чтобы стать выше подобных преград.
– Стало быть, вы меня еще недостаточно любите? – вскричал Давид, сраженный.
– Как знать, не воспротивится ли ваш отец…
– Отлично, отлично, – отвечал Давид. – Ежели дело только в моем отце, вы будете моей женой. Ева, моя милая Ева, благодаря вам я уже не чувствую тяжести жизни. Увы, я не мог и не умел выразить своих чувств, и это мучило меня. Скажите, любите ли вы меня хоть немного? И я найду в себе мужество, чтоб поведать вам свои мечты.
– Право, вы меня совсем смутили; но раз мы поверяем друг другу наши чувства, признаюсь вам, что никогда в жизни я не думала ни о ком, кроме вас. Вы для меня были человеком, принадлежать которому честь для любой женщины, и я, простая, бедная мастерица, не смела надеяться на столь высокую судьбу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































