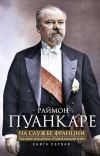Автор книги: Оттокар Чернин
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
2
Война никогда не входила в программу Вильгельма II. Я не могу сказать, какими границами он мысленно наделял Германию, и оправдываются ли или нет выставляемые против него упреки в том, что «в своем честолюбии для Германии» он зашел слишком далеко. Он, конечно, никогда не мечтал о мировой гегемонии Германии, потому что не был так наивен, чтобы думать, что она может быть достигнута без войны, но его планы были, конечно, направлены к тому, чтобы Германия заняла бы устойчивое положение одной из первых держав в мире.
Я знаю наверняка, что в идеале у императора всегда мелькала мысль прийти к соглашению с Англией и некоторым образом поделить с нею мир. В его представление о таком дележе входило также уделение известной роли России и Японии, но для других государств, и в особенности для Франции, у него оставалось мало, так как он был твердо убежден, что они клонятся к упадку. Сейчас принято говорить, что Вильгельм нарочно подготовил и затем провоцировал эту войну, но такое суждение противоречит его мирному правлению в течение нескольких десятков лет.
В своей книге «Об истории, предшествующей мировой войне» Гельферих пишет о поведении императора Вильгельма во время балканских осложнений. Он говорит:
«Что касается политики германского императора в этот момент, весьма тяжелый для германской политики и имеющий большое сходство с положением в июле 1914 года, то знаменательна телеграмма, посланная тогда Вильгельмом II государственному канцлеру и гласящая: “Союзный договор с Австро-Венгрией заставит нас выступить в случае, если Россия нападет на Австро-Венгрию. В таком случае будет втянута также и Франция, а при таких условиях Англия едва ли останется нейтральной. Спорные вопросы, висящие сейчас в воздухе, не имеют никакого отношения к этой опасности. По смыслу союзного договора мы вовсе не обязаны выступать на борьбу на жизнь и смерть, раз жизненные интересы союзников не затронуты, ради одного лишь их каприза. Если, однако, выяснится, что противная сторона рассчитывает начать военные действия, то придется взять на себя весь риск”. Такая спокойная и твердая точка зрения, которая одна только могла сохранить мир, руководила германской политикой и в дальнейшем ее развитии. Она проводилась, несмотря на сильное давление со стороны России, с одной стороны, и противоположных тенденций и преходящих неудовольствий в Вене – с другой».
Действительно ли господствовало тогда в Вене неудовольствие, я не берусь сказать, но с этой оговоркой я считаю вышеизложенные соображения совершенно правильными.
Выше уже было упомянуто, что все громкие слова, лозунги, которые император выбрасывал во всеуслышание, имели свое начало в ложно понятой оценке производимого им впечатления. Император хотел импонировать, он, пожалуй, хотел даже запугать, в этом надо сознаться, но он хотел править по принципу «si vis pacem, para bellum»[4]4
«Si vis pacem, para bellum» (лат.). – «Хочешь мира, готовься к войне», крылатое выражение, приписываемое древнеримскому историку Корнелию Непоту.
[Закрыть], и он нарочно громко превозносил военную мощь Германии – с целью отнять у ее многочисленных врагов и соперников охоту померяться с нею силами.
Мы ни минуты не оспариваем, что такое поведение было часто неуместно и неудачно; мы не хотим отрицать того, что и оно оказало влияние на начало войны, но мы хотели сказать, что у императора вовсе не было врожденной любви к войне и что он говорил слова и принимал меры, которые помимо его воли производили впечатление подготовки к войне. Если бы в Германии нашлись люди, которые не утаивали бы от императора вредные последствия, вызываемые его выступлениями, а указывали бы ему на недоверие во всем мире – и если бы таких людей нашлось бы не один и не два, а целые десятки, то они, конечно, оказали бы воздействие на императора.
Правда, несомненно, что изо всех людей, населяющих землю, пруссаки менее всех способны вникнуть в психологию другого человека и что среди двора императора, быть может, мало кто обращал внимание на усиливающуюся тревогу Европы. Возможно, среди тех, кто непрерывно восхвалял императора, многие действительно от души считали его поведение правильным. Но за последние десятилетия в Германии имелось много умных политических деятелей, которые не могли не давать себе ясного отчета в положении дел, и остается несомненным, что ради спокойствия императора и в первую очередь ради своего собственного спокойствия они не нашли в себе мужества подойти к императору вплотную и высказать ему в лицо всю неприкрытую правду.
Я не хочу делать упреков, это лишь воспоминания – но воспоминания, которые не покажутся излишними в наше время, когда императора Вильгельма делают козлом отпущения всего мира. Правда, что, имея в виду уже сложившуюся натуру императора, правдивое отношение к нему, несомненно, натолкнулось бы на ряд препятствий. Те его подданные, которые первыми решились бы заговорить с ним простым немецким языком, конечно, были бы сначала встречены с некоторым недоумением, и потому никто не хотел начинать, никто не хотел рисковать собой. Но если бы нашлись люди, которые, оставив попечение о самих себе, все же решились бы на такую смелость, они безусловно добились бы успеха, потому что, помимо доброй воли, у императора была сильная впечатлительность – и последовательная, сознательная кампания на основе неустрашимой лояльности, конечно, оказала бы на него действие.
При этом император был в корне добрым и благожелательным человеком. Он искренно радовался возможности творить добро. И у него не было ненависти к врагам. Летом 1917 года он говорил со мною о судьбе свергнутого царя и о своем желании помочь ему, а затем и вывезти его в Германию. Желание это исходило у него не из династических соображений, а из чисто человеческих движений души. Он несколько раз повторял, что мысль о мести совершенно ему чужда и что он «подымет пораженного врага».
Мне кажется, что император Вильгельм видел, как на политическом горизонте тучи все больше сгущались, но он был искренно убежден, что они возникли без малейшей вины с его стороны, что они были вызваны лишь завистью и алчностью и что единственное средство предотвратить угрозу войны заключается в нарочитой демонстрации силы и неустрашимости. Тема его речей была всегда приблизительно одна и та же: «необходимо ежедневно оповещать мир о силе и могуществе Германии, так как, пока нас боятся, они нас не тронут». А эхо всего мира кричало в ответ: «Это постоянное напоминание о силе Германии, эти вечные попытки устрашения доказывают, что Германия хочет тиранизировать весь мир».
Когда началась война, император был всецело убежден, что дело идет о войне, навязанной ему извне, и подавляющее большинство германского народа разделяло с ним это убеждение. Вышеупомянутые выводы сделаны мною лишь из позднейшего личного впечатления о психологии императора и его двора и из сведений, полученных мною тогда косвенным путем. Сам же, как я уже говорил выше, не находился в прямом контакте с Берлином ни до войны, ни в течение первых двух лет ее.
Когда зимой 1917 года мне пришлось вновь свидеться с императором Вильгельмом в качестве министра иностранных дел, я нашел, что он поседел, но все еще полон прежнего одушевления. Несмотря на демонстративную уверенность в победе, мне кажется, что зимой 1917 года Вильгельм уже имел сомнения относительно исхода войны и страстно желал довести ее до приемлемого конца. После первых же наших разговоров я стал убеждать его идти на все жертвы, дабы закончить войну, он прервал меня словами: «Что же вы хотите? Никто не жаждет мира больше меня. Но мы же слышим ежедневно, что они не хотят мира прежде, чем Германия будет уничтожена».
Этот ответ соответствовал истине, потому что все заявления Англии сводились к тому же самому: «Germaniam esse delendam»[5]5
«Germaniam esse delendam» (лат.). – «Германия должна быть уничтожена».
[Закрыть]. Я все же пытался убедить императора пожертвовать Эльзас-Лотарингией и высказал убеждение, что при такой конъюнктуре, раз Франция добилась бы того, чего требуют ее национальные идеалы, ее ничем нельзя было бы заставить продолжать войну дальше. Мне кажется, что если бы у императора была положительная уверенность, что эта уступка положит конец войне, и если бы он освободился от страха, что Германия найдет такие условия невыносимыми, он лично дал бы свое согласие. Но опасение, что это поражение, следующее за всеми принесенными жертвами, толкнет германский народ на отчаяние, имело для него решающее значение.
Сейчас еще не приходится утверждать, что его опасение было ложно. В 1917 году, да еще и в 1918-м, вера в победу Германии была столь сильна, что остается по меньшей мере сомнительным, что германский народ согласился бы отдать Эльзас-Лотарингию. Все партии рейхстага, включая и социал-демократов, были против этого. Весной 1918 года один высокий гражданский сановник говорил мне: «У меня было два сына. Один убит на войне, но я лучше отдам второго, чем Эльзас-Лотарингию». И так думали многие.
В течение тех полутора лет, когда мне постоянно приходилось встречаться с Вильгельмом II, его душевное состояние, конечно, претерпело целую эволюцию. Каждый раз после крупных военных успехов, после падения России и Румынии его генералам удавалось увлечь его своей завоевательной программой.
Было бы совершенно неверно думать, что Вильгельм II был насквозь проникнут мыслью: «прежде всего мир». Он колебался, тогда он был настроен скорее пессимистически, иногда оптимистически, и в связи с этим изменялась и его программа мира. Ведь вполне естественно, что изменившаяся картина на фронте оказывала влияние на психологию отдельного человека, и во всей Европе не нашлось бы человека, свободного от таких колебаний.
В начале сентября 1917 года император писал императору Карлу по поводу предстоящего наступления на итальянском фронте, и в письме его есть такое место:
«Я надеюсь, что общее наступление наших союзных войск повысит настроение твоего министра иностранных дел. По рассмотрении общего положения, я нахожу, что у нас есть все основания смотреть на будущее с полным доверием».
Мы находим свидетельства таких колебаний в его настроении и в других письмах и выражениях императора. Помимо всего, и он, и германское министерство иностранных дел охотно следовали определенной тактике, состоящей в том, чтобы выказывать «Австрии, усталой от войны», нарочитую уверенность в победе, чтобы таким образом вдохнуть в нас силу сопротивления.
Делу сохранения дружеских отношений между Веной и Берлином много послужил эрцгерцог Фридрих. Разрешение щекотливых военных вопросов нередко грозило вызвать разногласия. Честная и открытая манера эрцгерцога и его всегда доброжелательные и скромные выступления часто выручали нас из тяжелого положения.
После поражения Германии и переворота, когда оскорбление императорской семьи стало вполне безопасным предприятием, некоторые газеты доставили себе удовольствие осыпать грязью также и эрцгерцога Фридриха. Но эта грязь к нему не пристанет. Это человек благородного, безупречно честного характера, который всегда выступал против злоупотреблений. Благодаря ему нас миновало много зла. Если он не мог помешать всему случившемуся, то не по своей вине.
Усталым от войны и жаждущим мира, в точном смысле этого слова, был кронпринц Вильгельм, когда я после многих лет встретился с ним летом 1917 года. Я тогда выехал на французский фронт, чтобы встретиться с ним и попытаться, нельзя ли использовать его для оказания давления на высшее военное начальствование в смысле уступчивости.
Длинный разговор с ним убедил меня, что если он когда-либо и был настроен воинственно, то сейчас он стал настоящим пацифистом.
Вот несколько записей из моего дневника:
На Западном фронте 1917 года
Мы едем в Кан-де-Ромен отдельными группами с тем, чтобы не привлекать внимания неприятельской артиллерии на наши автомобили, потому что местами дорога открыта. Меня посадили с Бетманом. Мы говорили о военных, и Бетман сказал: «Увидев меня, генералы, конечно, забросают меня ручными гранатами». Ему приходится выдерживать страшную борьбу против этих защитников «войны до победы».
Высоко над нами неприятельский аэроплан. Он кружит, не удостаивая не малейшего внимания шрапнели, разрывающиеся вокруг него. Стрельба прекращается, и он улетает на недосягаемую высоту. Издалека слышен артиллерийский огонь, точно дальний гром.
Французские линии недалеко от Кан-де-Ромен, всего только несколько сот метров. То тут, то там раздаются выстрелы и слышен рев гранаты, а так все тихо. Еще слишком рано, стрельба обычно начинается около десяти, а прекращается к полудню, чтобы поесть, а днем опять возобновляется.
Когда мы возвращались, начался ежедневный артиллерийский бой. Он непрерывно гремел по всей линии.
Сен-Миель
Мы остановились в Сен-Миеле. Там осталось много французов. Их удержали как заложников, чтобы город не обстреливали. Они стояли на площади и рассматривали прибывшие автомобили.
Я заговорил с одной старухой, сидевшей в стороне от других на ступеньках одного дома. Она сказала: «Это несчастье уже непоправимо. Хуже, чем сейчас, быть не может. Мне все равно, что случится. Я не здешняя. Мой единственный сын убит, мой дом сожжен, мне нечего больше терять. У меня осталась только ненависть к Германии, и я завещаю ее Франции». И она глядела мимо меня в пустоту. Она говорила без всякой страсти – только очень грустно.
Эта ужасная ненависть! Целый ряд поколений сойдет в землю, пока пройдет этот поток ненависти. И разве при такой психологии народов возможны правильный дележ, справедливый мир? Не дойдет ли дело до того, что один из них будет повержен в прах и уничтожен?
Сен-Прива
По дороге в Мец мы проезжали через Сен-Прива. Вдоль улицы памятники, повествующие о 1870 годе. Места все исторические, пропитанные кровью. Каждый камень, каждое местечко говорит о прошедших великих временах. Здесь были посеяны семена идеи реванша, из-за которого идет борьба.
Бетман, кажется, угадывает мои мысли. Легче было бы Германии, говорит он, примириться с любой жертвой, чем отдать Эльзас, потому что ей пришлось бы тогда стереть одну из самых блестящих страниц своей истории.
Седан. По дороге в штаб-квартиру кронпринца
Вот маленький домик, где произошла историческая встреча Бисмарка и Наполеона III. Женщина, жившая там тогда, умерла всего несколько недель тому назад. Она видела, как немцы пришли во второй раз. Они и на этот раз принесли с собой своего Мольтке – но Бисмарка нет. Но старуха едва ли задумывалась над этой маленькой подробностью.
У кронпринца
Хорошенький домик на окраине городка. Меня ждало приглашение кронпринца прийти к нему немедленно, и мы совещались почти целый час, наедине, еще до ужина.
Я не знаю, был ли когда кронпринц настроен воинственно, как это принято думать, но сейчас это прошло. Он хочет мира, он жаждет его, он только не знает, как добиться его. Он говорил весьма спокойно и разумно. Он лично стоял за то, чтобы принести и территориальные жертвы, но ему кажется, что Германия не вынесет их. Вся трудность в контрасте между фактическим военным положением, между уверенностью генералов и опасениями, засевшими в голову непосвященных. И ведь дело не в одной Эльзас-Лотарингии. Под уничтожением германского милитаризма на Темзе понимают одностороннее разоружение Германии. Разве могут свыкнуться с такой мыслью войска, стоящие на неприятельской земле, генералы, убежденные в конечной победе, и народ, еще не потерпевший поражения?
* * *
Я все же убеждал кронпринца переговорить с отцом относительно Эльзас-Лотарингии. Он вполне со мной согласился. Потом я его пригласил в Вену от имени императора, и он обещал приехать, как только получит отпуск.
Когда я вернулся, император написал ему письмо, схему которого дал ему я и в котором между прочим говорилось:
«Мой министр иностранных дел сообщил мне об интересном разговоре, которым ты его удостоил, и все твои заявления от души меня порадовали, потому что они совершенно совпадают с моими взглядами на общее положение. Несмотря на сверхчеловеческую доблесть наших войск, положение в тылу требует, чтобы война прекратилась еще до зимы. Это верно как для Германии, так и для нас. Турция будет сопротивляться еще очень недолго, а с ней мы теряем Болгарию, и наши два государства останутся тогда одни, а следующая весна принесет Америку и еще более окрепшую Антанту. С другой стороны, у меня есть несомненные данные, что Франция готова примириться, если Германия пойдет на некоторые территориальные жертвы. А раз мы сойдемся с Францией, то мы победители, и Германия может найти себе компенсацию в другом направлении. Но я не хочу, чтобы жертвы пали на одну Германию. Я сам согласен взять на себя львиную долю этой жертвы и заявил твоему отцу, что при соблюдении им вышеназванных условий я согласен не только отказаться от всей Польши, но присоединить к ней даже и Галицию и помочь делу приобщения этих областей к германской империи. Таким образом, лишившись на Западе части своей территории, Германия обрела бы на востоке целое государство. В 1915 году, не предъявляя никаких значительных требований компенсации, а исключительно в интересах союза и по просьбе Германии, мы предлагали Трентино продавшим нас итальянцам, исключительно с тем, чтобы избежать войны. Германия сегодня находится в сходном, хотя и гораздо более благоприятном, положении. Являясь наследником германской императорской короны, ты имеешь полное право бросить свое слово на весы, и я знаю, что его величество, твой отец, вполне разделяет эту точку зрения на твое сотрудничество. Поэтому я прошу тебя обдумать в этот решающий час все положение в целом и присоединить свои усилия к моим, дабы прийти скорее к почетному миру. Если Германия будет продолжать стоять на своей непримиримой позиции и разрушит шансы мира, то положение в Австро-Венгрии будет весьма критическое.
Мне бы очень хотелось переговорить с тобой лично, как можно скорее, и я страшно рад твоему обещанию навестить меня, переданному мне графом Черниным».
Ответ кронпринца был очень приветлив. Он шел нам навстречу, но ограничивался общими фразами. Было ясно, что немецким генералам удалось удушить его стремления в корне. Когда несколько времени спустя я встретил в Берлине Людендорфа, мои подозрения нашли себе подтверждение в словах, которыми он меня встретил: «Что это вы сделали с нашим кронпринцем. Ведь он стал совсем вялым. Но мы его опять накачали».
Игра продолжалась. В Германии за все время последней войны была одна только воля, и это была воля Людендорфа. Единой мыслью его была – борьба и победа.
IV. Румыния
Пост посла в Бухаресте осенью 1918 года. – Король Карл. – Тайное соглашение – клочок бумаги. – Братиану. – Румынское общество. – События в Сараеве. – Таке-Ионеску. – Внезапная перемена отношений после ультиматума. – Австрия сошла с ума. – Волна ненависти. – Король полон забот. – Кармен Сильва. – Нейтральность Братиану никогда не была искренней. – Королева Мария за войну. – Чернин интернирован. – Налеты цеппелинов на Бухарест. – Возвращение через Россию. – Три фазы дипломатических отношений. Венгрия должна пойти на уступки. – Сопротивление Тиссы. – О дипломатии. – Русские деньги.
1
Мое назначение посланником в Бухарест осенью 1913 года было для меня полной неожиданностью и совершилось против моего желания. Оно последовало по инициативе эрцгерцога Франца-Фердинанда. Я никогда не сомневался в том, что эрцгерцог когда-нибудь использует меня на политическом поприще, но не предвидел, что это случится еще при императоре Франце-Иосифе.
В оценке румынского вопроса в Вене тогда царило большое разногласие. Шла борьба между румынофильским и румынофобским направлениями. Представителем первого был эрцгерцог Франц и наряду с ним, хотя и в менее ярко выраженной форме, Берхтольд; представителем второго являлся Тисса, а с ним почти весь венгерский парламент. Первая группа стремилась к более тесному сближению Румынии с Австро-Венгрией, вторая думала заместить союз с ней союзом с Болгарией, но обе были преисполнены одним желанием – выяснить, наконец, как обстоит дело с союзом, и имеем ли мы по ту сторону Карпат друга или врага. Мой предшественник Карл Фюрстенберг давал в свое время по этому поводу совершенно ясный и правильный отчет, но он разделил судьбу многих послов. Ему не поверили.
Итак, положительная задача, поставленная предо мною, заключалась в том, чтобы исследовать на месте, имеет ли этот союз какое-либо практическое значение, а если я приду к отрицательному заключению, то предложить средства и пути, необходимые для того, чтобы сделать его жизнеспособным.
Я должен, кстати, заметить, что мое назначение посланником в Бухарест вызвало целую бурю в венгерском парламенте. Причиной этого возмущения, распространившегося по всей Венгрии, была написанная мною за несколько лет до того брошюра, в которой я в довольно энергичной форме нападал на мадьярскую политику. Я защищал точку зрения, что политика угнетения народов, населяющих Венгрию, не может долго продолжаться и что Венгрия сможет строить будущее только, если порвет с этой политикой и предоставит им полное равноправие.
Эту брошюру мне в Будапеште не могли простить, и члены венгерского парламента теперь опасались, что я открою в Румынии эру новой политики, которая по смыслу брошюры будет направлена против политики Вены и Будапешта. В это-то время я познакомился с Тиссой. У меня был с ним долгий и очень откровенный разговор, и я объяснил ему, что я должен буду и впредь стоять на точке зрения, выраженной в моей брошюре, потому что она соответствует моему твердому убеждению, но что я вполне понимаю, что с минуты принятия мною поста посланника я являюсь колесом большого государственного механизма и обязан лояльно поддерживать политику нашего министерства иностранных дел. Я и сейчас считаю такую точку зрения вполне правильной. Всякое единство в политике было бы нарушено, если бы каждый подчиненный служащий желал бы проводить в жизнь свои взгляды, независимо от того, правильны ли они или нет, и в качестве министра я сам никогда бы не потерпел посла, который пытался бы вести свою политику независимо от моей. Тисса просил дать ему честное слово, что я не буду пытаться идти вразрез с политикой Вены и Будапешта, и я согласился на это при условии, что престолонаследник примет такое разрешение вопроса.
Вслед за тем у меня был разговор также с эрцгерцогом, и он тотчас же вполне одобрил мою тактику, мотивировав свое отношение следующим образом: пока он только престолонаследник, он никогда не будет преследовать политики, противоречащей политике императора. Поэтому он и от меня не может ожидать иного поведения. Но если он вступит на престол, то он, конечно, будет стремиться к тому, чтобы провести свои собственные взгляды. Но в таком случае я буду уже не в Бухаресте, а, вероятно, в другом месте, в положении, дающем мне возможность поддержать его начинания. Эрцгерцог просил меня принять пост посланника из дружбы к нему, и я, наконец, решился послушаться его после того, как Берхтольд обещал мне не препятствовать моему уходу по истечении не более двух лет.
Дружеское отношение эрцгерцога Франца к Румынии не было широко обосновано. Румынии он почти что не знал. Он был там, насколько мне известно, только один раз, и то на коротком визите у короля Кароля в Синайе. Радушный прием, оказанный ему и его жене старым королем, сразу пленил его; он смешивал короля Кароля с Румынией. Это опять-таки может служить доказательством сильного влияния, оказываемого личными отношениями выдающихся политических деятелей на международную политику.
Старый король и королева встретили эрцгерцога на вокзале. Королева обняла и поцеловала герцогиню, усадив ее справа от себя, повезла ее во дворец. Одним словом, с герцогиней фон Гогенберг там впервые обошлись как с полноправной женой своего мужа и по всем правилам этикета. В течение нескольких часов, проведенных в Румынии, эрцгерцог испытал радость, которую каждый из нас переживает как нечто вполне естественное, а именно сознание, что его жена – то же, что и он сам, а не что-то низшее, которое должно быть затерто. На одном придворном балу в Вене эрцгерцогине пришлось становиться позади всех других эрцгерцогинь и не нашлось ни одного кавалера, который предложил бы ей руку. В Румынии она считалась супругой наследника престола, и церемониал не касался ее происхождения. По своему характеру эрцгерцог не мог не зачесть это доказательство дружеского такта раз навсегда, и Румыния была для него с тех пор полна особого обаяния.
Но, помимо этих личных воспоминаний, им руководило правильное чутье, подсказывавшее ему, что при условии изменения некоторых политических соотношений между ним и Румынией может быть достигнут тесный союз. Он не столько знал, сколько чувствовал, что вопрос о Семиградии разверзает пропасть между Веной и Бухарестом, но что стоит только ее заполнить, и вся картина изменится.
Первую часть моей задачи, состоящую в том, чтобы констатировать, в каком состоянии находится союз, было нетрудно выполнить, потому что первые же долгие беседы с королем Каролем не оставили во мне сомнения в том, что старый монарх сам считает этот союз очень непрочным. Король Кароль был человек очень умный и очень осторожный, действовавший всегда обдуманно; заставить его говорить, когда он решил молчать, было нелегко. Вопрос о жизнеспособности союза я выяснил следующим образом. Во время третьей или четвертой моей аудиенции я предложил королю Каролю узаконить союзный договор, то есть ратифицировать его в парламентах Вены, Будапешта и Бухареста. Страх, охвативший короля от одного моего предложения, одна мысль, что строгая тайна, в которой этот союз хранился, может быть нарушена, – этот страх доказал мне, что при данных условиях невозможно влить жизнь в мертвые буквы.
Мои отчеты, хранящиеся в министерстве иностранных дел, не оставляют сомнения в том, что на первый поставленный мне вопрос я ответил категорически, что при настоящих условиях союз с Румынией – просто клочок бумаги.
Разрешение второго вопроса, имеются ли пути и средства вдохнуть жизнь в союзный договор и каковы они, было так же легко теоретически, как трудно выполнимо на практике. Помехой к тесному сближению Бухареста и Вены служил, как уже упомянуто выше, вопрос о Великой Румынии, то есть желание румын соединиться с «братьями в Семиградии». Венгерская точка зрения, разумеется, шла вразрез с этими пожеланиями. Весьма характерно для тогдашней ситуации, что вскоре после моего вступления в обязанности посланника Николай Филиппеску, ставший впоследствии известным как один из зачинщиков войны, предложил мне проект слияния Румынии с Семиградией – с тем, чтобы эта объединенная Великая Румыния затем установила бы примерно такие же отношения с Австро-Венгрией, как Бавария с Германской империей. Признаюсь откровенно, что я ухватился за этот план обеими руками, потому что думал, что если он будет предложен группой, издавна считавшейся настроенной наиболее враждебно к двуединой монархии, то умеренные элементы Румынии несомненно пошли бы на него с полной готовностью.
Я и сейчас еще думаю, что если бы эта идея была бы тогда осуществлена, то она действительно имела бы своим последствием коалицию Румынии с Австро-Венгрией, что опубликование союзного договора не встретило бы тогда препятствий и что вследствие этого начало войны застало бы нас в другом положении. К сожалению, идея эта встретила с самого начала резкий отпор Тиссы. Император Франц-Иосиф вполне присоединился к его точке зрения, и сразу же выяснилось, что никакие аргументы тут не помогут. С другой стороны, никто в это время не думал, что великая война, а вместе с ней и испытание союза, уже так близки. Я утешил себя в неудаче своих стараний тем, что твердо надеялся, что эта, как мне казалось (и сейчас еще кажется), глубокая идея будет осуществлена, когда эрцгерцог Франц вступит на престол.
Как раз к моему приезду в Румынию там произошла перемена в составе правительства. Консервативное министерство Майореску уступило место либеральному правительству Братиану. Правительственная тактика короля Кароля была чрезвычайно своеобразна. Он с самого начала придерживался принципа не противиться силой или хотя бы энергическими мероприятиями вредным отечественным течениям, а скорее уступать постоянным новым попыткам к политике вынуждения. Он хорошо знал свой народ и отлично понимал, что нужно поочередно впускать в конюшню обе партии, консервативную и либеральную, пока они не насытятся вдоволь, так чтобы согласиться уступить место следующей.
Почти все перемены кабинета проходили аналогичным образом: оппозиция, желавшая захватить власть, начинала играть угрозами и революцией. Выставлялся любой лозунг, любое совершенно невыполнимое требование, и он тотчас же находил страстных защитников, поднималась сильнейшая агитация в его пользу. Правящая партия, которая, конечно, не могла выполнить этого требования, уходила со сцены, а оппозиция, получившая бразды правления в свои руки, уже не думала о том, чтобы сдержать данные обещания. Старый король отдавал себе ясный отчет в этой игре и всегда давал оппозиционной волне подняться до тех пор, пока она не грозила затопить его правительство; тогда он менял его, и игра начиналась снова.
В Румынии господствует обычай, чтобы каждая партия, захватившая власть, сменяла бы весь административный аппарат чиновников вплоть до последнего лакея. Это вечное передвижение, возведенное в правило, имеет явно дурные стороны. Но в общем нельзя отрицать, что оно целесообразно, поскольку делает совершенно излишним применение насильственных средств. В 1913 году министерство Братиану село в седло правления именно по вышеописанному методу. Майореску правил к полному удовольствию короля и мирного населения страны. Он только что успел одержать дипломатическую победу, которую румыны считали чрезвычайно важной, а именно – завоевать Добруджу и заключить Бухарестский мир, когда Братиану выступил с требованиями крупных аграрных реформ.
Эти аграрные реформы являются одним из коньков румынской политики, которым все партии всегда пользуются, как только речь идет о том, чтобы запрячь несчастных обнищалых крестьян в колесницу чьей-либо агитации. Этот маневр всегда прекрасно удается благодаря невысокому умственному развитию крестьянского населения Румынии, оно все снова и снова эксплуатируется той или иной партией, и снова попросту отстраняется, как только цель бывает достигнута. Так же и Братиану, усевшись в седло, и не подумал сдержать собственные обещания, а спокойно продолжал придерживаться курса, проложенного Майореску.
Но все же оказалось, что по вопросам внешней политики гораздо труднее иметь дело с Братиану, чем с Майореску, потому что первый стоял за западноевропейскую ориентацию и в глубине души был германофобом. Одно из существенных различий между либералами и консерваторами всегда заключалось в том, что либералы воспитывались в Париже и говорили только по-французски, а не по-немецки, тогда как консерваторы, по примеру Кароля и Майореску, были берлинской школы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?