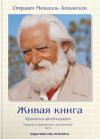Текст книги "Биография Л.Н.Толстого. Том 1. 2-я часть"

Автор книги: П. И. Бирюков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Рассуждений не бойтесь, – они все умны и оригинальны. Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которое может разрастись в большой недостаток. Тогда вы готовы сказать: у такого-то ляжка показывала, что он желает путешествовать по Индии. Обуздать эту наклонность вы должны, но гасить ее не надо ни за что на свете. Вся ваша работа над своим анализом должна быть в таком роде. Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, – почти каждое ваше достоинство имеет в себе зернышки недостатков.
Слог ваш совершенно подходит к этому заключению; вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все страницы, писанные с любовью, у вас превосходны, – но чуть вы холодеете, у вас слог пугается, и являются адские обороты речи. Поэтому места, писанные с холодностью, надо бы просмотреть и выправить. Я пробовал было выправлять местами и кинул, – эту работу только вы сами можете и должны сделать. Главное только – избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек… С частицами речи поступайте без церемонии, слова что, который и это марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому-нибудь хотите передать гладким, разговорным языком.
Пора кончить, а надо бы говорить еще много, много. Для массы читателей мало развитых «Юность» понравится гораздо менее, чем «Детство и Отрочество». За эти две вещи говорит их малый объем и некоторые эпизоды, вроде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период юности (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями, которую вы перед нами раскрываете) обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается.
Приблизить ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя-тремя забавными эпизодами и т. д., но сделать его совершенно по вкусу большинству всему – едва ли кто может.
По замыслу и по сущности труда ваша «Юность» будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию.
Уведомьте, переслать ли вам рукопись или отдать ее Панаеву. Ею вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что в вас есть и чего еще от вас дождешься».
Уж одно то, что Дружинин мог так писать Толстому, показывает, что между ними действительно существовали близкие отношения, и что Дружинин имел влияние на Толстого.
Пребывание Л. Н. в Петербурге с ноября по май было прервано короткой деловой поездкой в Орел, по семейным делам.
2-го февраля Л. Н. получил известие о смерти своего брата Дмитрия; личность его ярко изображена Л. Н-чем в его воспоминаниях, приведенных нами в главе «Юность». Здесь мы приводим 2-ю часть этих воспоминаний, касающуюся его последующей жизни, болезни и смерти.
«Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово; он и желал этого. Митеньке и Николеньке отдали остальные два имения: Николеньке – Никольское, Митеньке – курское имение Щербачевку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в 40-х годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю, и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности, но, кроме этих обязанностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немыслимо, – это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приема. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), со спокойными, прекрасными глазами, лицом, и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезен отечеству, избрал своею деятельностью законодательство.
– Ваша фамилия?
– Граф Толстой.
– Вы нигде не служили?
– Я только окончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.
– Какое же место вы желаете иметь?
– Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.
Серьезность, искренность так поразили Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновнику.
Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу, оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Д. А. Оболенского, который, в наше казанское время, был там стряпчим. Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь.
Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего круга, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в нанковом пальто. «Я сначала не узнал его, но, когда узнал, постарался le mettre a son aise, познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но, со свойственным ему тактом и внешним добродушием, он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским, и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.
После выхода его, да и моего, из университета я потерял его из виду, знаю, что он жил тою же строгою, воздержанною жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин, до 26 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходился с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукою. Он ходил в подряснике, был очень безобразен: маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необыкновенно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька и водил с собой. Как я слышал, он водился еще со стариком старого закала, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.
Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести, – сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после севастопольской войны. Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умереть, не хотел верить, что он умирал. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне, по его желанию, принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.
Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней.
Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали».
12-го марта был заключен мир, и это обстоятельство облегчило возможность Льву Николаевичу получить отпуск.
Из литературных произведений за эту зиму он закончил «Метель», «Два гусара», «Встречу в отряде» и «Утро помещика». Льву Николаевичу пришлось уже разделять свои произведения на три журнала: так, первые две повести были еще напечатаны в «Современнике», а третья уже в «Библиотеке для чтения» и четвертая в «Отечественных записках». В это время Л. Н., между прочим, писал своей тетке Т. А.: –
«Я кончил своих «Гусаров» (повесть) и ничего нового не начал, да и Тургенев уехал, которого, я чувствую теперь, я очень полюбил, несмотря на то, что мы все ссорились. Так что мне бывает ужасно скучно».
Из этого письма видно, что во Льве Н-че происходили постоянные колебания по отношению к Тургеневу.
Петербургская жизнь, видимо, не удовлетворяла Толстого. Вскоре по приезде он стал хлопотать об отставке и стал собираться за границу.
В письме к своему брату от 25 марта 1856 года он, между прочим, пишет:
«Я тронусь за границу на 8 месяцев; ежели пустят, то поеду. Я писал об этом Николеньке и звал его ехать. Ежели бы мы все трое устроились ехать вместе, это было бы отлично. Ежели каждый возьмет по 1000 рублей, то можно съездить отлично. – Пиши, пожалуйста, мне. Как понравилась тебе «Метель»? Я ею недоволен – серьезно. А теперь писать многое хочется, но решительно некогда в этом проклятом Петербурге. Во всяком случае, пустят ли меня или нет (за границу), я в апреле намерен взять отпуск и быть в деревне».
13-го мая, еще находясь в Петербурге, он записывает в своем дневнике:
«Могучее средство к истинному счастью в жизни – это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, целую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».
Можно думать, что дела «Современника», и материальные, и литературные, мало удовлетворяли главных сотрудников «Современника»; причиною этого, надо полагать, была индивидуальная рознь убеждений, взглядов, привычек, воспитания и среды, всегда так мешающих общему делу, затеваемому интеллигентными людьми. Очень скоро во всяком интеллигентном кругу происходит деление на группы: терпимое отношение между ними заменяется вскоре равнодушием, затем возникает соревнование, которое переходит в открытую вражду. Так было и с «Современником».
Уже в начале 1856 года возникает у некоторых сотрудников мысль об отделении и основании нового журнала. Об этом свидетельствует письмо Дружинина к Толстому, в котором он, между прочим, пишет:
«Пользуясь сим приливом энергии, спешу поговорить с вами о деле, которое нас занимало при последнем нашем свидании и которое теперь занимает собой многих наших читателей в Петербурге. Потребность в чисто литературном журнале с критикой, энергически противодействующего всем теперешним неистовствам и безобразиям, чувствуется в сильной степени. Гончаров, Ермин, Анненков, Майков, Михайлов, Авдеев и многие еще встретили эту мысль с высшим одобрением. Если к этому сборищу присоединитесь вы, Островский, Тургенев и, пожалуй, наш юродивый Григорович (хотя без него можно и обойтись), то можно решительно сказать, что вся изящная словесность, наконец, соединится в одном журнале. Какой будет этот орган, новый ли журнал или же «Библиотека для чтения», взятая компанией на аренду, придумайте и сообщите ваше предложение. Здесь большая часть клонит к аренде, и издатель согласен за недорогую цену. Я, со своей стороны, не говорю ни за, ни против, но предлагаю себя всего к услугам чисто литературного журнала, на каких бы основаниях этот журнал ни составился.
По ученой части можно считать усердными сотрудниками или просто участниками профессоров Горлова, Устрялова, Благовещенского, Березина, Зернина и теперешних сотрудников (я называю самых даровитых) Лаврова, Льховского, Коневича, Водовозова, Думинина. Тургенев, хотя работник ненадежный, будет драгоценным человеком по своей хлопотливости и вообще по положению в литературе. Но теперь не до подробностей, главное – надо согласиться в общем и решить основные пункты.
Судя по участию, какое вы изъявили во всем деле, я рассчитываю получить от вас предложения ваши на этот счет. Между прочим, передаю вам и следующую просьбу: так как я все-таки остаюсь при моих настоящих занятиях, а составление нового журнала может протянуться еще надолго, то я en attendant прошу у вас позволения включить вас в число сотрудников «Библиотеки для чтения». Не располагайте всеми вашими статьями, не оставивши для меня к осени какой-нибудь вещи, по вашему усмотрению, на условиях, какие вы сами назначите. Надоедать же вам на этот счет я не стану, зная, что вы и без моих упрашиваний сделаете для меня все от вас зависящее.
Черкните мне несколько слов обо всем этом и вообще о вашем житье, предположениях и о здоровье Марьи Николаевны, которой передайте мой низкий и усердный поклон. Да сообщите ваш адрес. По делу о новом журнале нам необходимо списываться, я боюсь, чтобы опять силы не раздробились, а их достаточно только на одно хорошее издание. Все равно, на каком основании предприятие будет задумано, лишь бы мы все в нем собрались. Поэтому летом, когда вы будете часто видеться с Тургеневым, постарайтесь взять над ним влияние и направить сего милейшего, но шаткого… к одной общей цели. По всему, что он мне говорил стократно, его должна занять мысль о журнале такого рода, но как полагаться на то, что им было высказываемо? Пусть он сообразит, до какой похабной степени доведены наши журналы раздроблением сил: один «Русский вестник» держался хорошо, и тот вылинял с отделением «Атенея», «Атеней» же все-таки бледен. Про Петербург и говорить нечего».
17-го мая Л. Н-ч уезжает в Москву.
26-го мая он проводит день в семье доктора Берса, женатого на его подруге детства, Иславиной, и жившего тогда на даче под Москвой, в Покровском. В дневнике Льва Николаевича есть такая краткая фраза об этом посещении:
«Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки».
Одна из них, младшая, стала через 6 лет его женой.
Затем он продолжает путь и 28 мая приезжает в Ясную Поляну. На другой день он пишет брату, Сергею, письмо, в котором, между прочим, говорит следующее:
«В Москве я пробыл 10 дней… чрезвычайно приятно, без шампанского и цыган, а немножко влюбленный – в кого, расскажу после».
По приезде в Ясную он, конечно, едет здороваться с соседями, к сестре Марье Николаевне, к Тургеневу и другим.
По двум следующим письмам к брату мы видим, что в конце лета Льва Николаевича постигла серьезная болезнь. Он пишет брату в начале сентября 1856 года:
«Теперь только, в 9 часов вечера, понедельник, могу дать тебе хороший ответ, а то все было хуже и хуже; привозили двух докторов, пускали еще 40 пиявок, но сию минуту только я заснул и, проснувшись, почувствовал себя значительно лучше. Раньше дней 5–6 все-таки и думать нельзя мне ехать. Так до свидания; пожалуйста, уведомь, когда ты уедешь и точно ли есть большие упущения у тебя в хозяйстве, и не очень без меня выбивай места. Собак, может быть, пошлю завтра».
В письме от 15-го сентября он, между прочим, сообщает:
«Любезный друг Сережа. Здоровье мое и поправилось, и нет. Боли той нет и воспаления нет, но какая-то тяжесть в груди, покалывает и к вечеру болит. Может быть, оно и пройдет понемногу само собой, но я не скоро решусь ехать в Курск, и ежели не скоро, то и совсем нечего ехать. Скорее, ежели недели две не будет лучше, я съезжу в Москву».
Вскоре он снова перебрался в Петербург, откуда писал брату 10-го ноября 1856 года:
«Извини, любезный друг Сережа, что пишу два слова, – все некогда. Мне все неудачи с моего отъезда, никого нет здесь, кого я люблю. В «Отечественных записках», говорят, сильно обругали меня за военные рассказы, – я еще не читал, но, главное, Константинов объявил мне, только что я приехал, что великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил ей солдат. Это просто гнусно. Я объяснялся по этому случаю с начальником штаба. Хорошо только то, что здоровье мое хорошо, и что Шипулинский сказал, что у меня грудь здоровешенька».
26-го ноября 1856 года Лев Николаевич вышел в отставку. Мы можем упомянуть здесь об одном добром деле, сделанном им в конце своей службы.
Командир батареи, в которой служил Лев Николаевич, штабс-капитан Кореницкий, после войны должен был быть предан суду, но благодаря влиянию и хлопотам Льва Николаевича был от этого избавлен.
С выходом Льва Николаевича в отставку начинается новый период его жизни, литературно-общественный, с прорывающимся стремлением к личному счастью.
Несмотря на свою резкость суждений, на непризнание авторитетов, Л. Н. Толстой был желанным гостем и драгоценным членом литературного кружка «Современника».
Но самого Л. Н-ча эта среда далеко не удовлетворяла. И оно не могло быть иначе. Стоит прочесть воспоминания литераторов того времени, как, например, Герцена, Панаева, Фета и др., самого разнородного направления, чтобы прийти к весьма грустным выводам о нравственной слабости этих людей, мнивших себя руководителями человечества; вспомните некрасовские обеды, попойки Герцена, Кетчера и Огарева, тургеневскую утонченную еду, все эти дружеские беседы, немыслимые тогда без большого количества шампанского, охоты, карт и т. д., – и вам горько станет за праздность и низменность интересов этих людей, не видавших всего зла этих оргий, перемешанных с проповедью народолюбия и всяческого прогресса. Среди всего этого бесстыдства, продолжающегося, быть может, в иной форме и до сего дня, раздался лишь один голос обличения и самобичевания человека, душа которого не могла вынести этого самообмана. Это был голос Л. Н. Толстого.
В своей исповеди он дает такую картину нравов тогдашнего литературного общества, т. е. общества конца 50-х и начала 60-х годов. Вот его слова:
«И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.
Взгляды на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состояли в том, что жизнь вообще идет развиваясь, и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал и учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.
Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень приятно и выгодно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учители; мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет – мы настоящие, а вот вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга.
Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности этой веры.
Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.
Но странно то, что, хотя всю ложь этой веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.
Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему».
Тем не менее, живя в кругу этих людей, Толстой проникался их интересами и был одним из деятельных участников их товарищеских предприятий. Так, одно из важных литературных учреждений – «общество пособия литераторам и ученым», так называемый «литературный фонд», – во многом обязано ему своим возникновением. Обыкновенно считают Дружинина основателем этого фонда. В дневнике же Льва Николаевича мы находим такую записку:
«2-го января 1857 года. Писал проект фонда у Дружинина».
Таким образом, к числу основателей фонда можно с полным правом присоединить имя Толстого.
К этому времени следует отнести более основательное знакомство Льва Николаевича с произведениями Пушкина и увлечение им.
По рассказам Льва Николаевича, он серьезно оценил Пушкина, прочтя французский перевод, сделанный Мериме, «Цыган» Пушкина; чтение этого произведения, изложенного в прозаической форме, с особенной силой показало Льву Н-чу всю силу поэтического гения Пушкина.
В дневнике Льва Николаевича от 4-го января 1857 года находим следующую запись:
«Обедал у Боткина с одним Панаевым; он читал мне Пушкина; я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время, упиваясь быстротой морального движения вперед».
И эта «быстрота морального движения вперед» не позволила Льву Николаевичу удовлетвориться этим сообществом и этой деятельностью, и он стал жадно искать какого-либо выхода. И как всегда мятущийся дух проявляет беспокойство и во внешних действиях, так и Толстой проявлял беспокойную деятельность, и одним из актов этой деятельности была поездка его за границу, по-видимому, без определенной цели. Вот что он говорит об этом в «Исповеди», с присущей ему искренностью, судя себя и окружающую его среду:
«Так я жил, предаваясь этому безумию, еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше в той вере совершенствования вообще, в которой я жил, потому что ту же веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалось словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – отвечаю совершенно то же, что ответит человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «куда держаться», если он, не отвечая на вопрос, скажет: «нас несет куда-то».
Но еще до этой поездки за границу Л. Н-чу пришлось отдать дань исканию личного, семейного счастья.