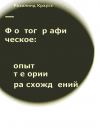Текст книги "Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм (сборник)"

Автор книги: Паскаль Гилен
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Постфордизм
Опираясь на Вирно, я установил связь между множеством и постфордизмом, а также предположил, что множество – это побочный продукт постфордистского процесса производства. Так как в работах Вирно концепция постфордизма занимает центральное место, стоит поразмыслить о характеристиках этой модели производства. Переход от фордистского к постфордистскому (или «тойотистскому») производственному процессу во многом отмечен переходом от «материального» труда к «нематериальному», от производства материальных благ к производству благ нематериальных, символическая стоимость которых перевешивает потребительскую. Современный автомобиль должен не только хорошо ездить, но и отличаться привлекательным дизайном; мы покупаем новый мобильный телефон не потому что наш старый уже не работает, а потому что «это вчерашний день» или потому что он не вяжется с нашей новой и престижной работой. Дизайн, эстетика… Сегодня внешняя атрибутика или символы являются важнейшим двигателем экономики, так как подпитывают жажду потребления. Все это хорошо известно, об этом с 1970-х годов нам рассказывают психологи, социологи и философы-постмодернисты.
Но что можно сказать о производственных площадках и производственном процессе этой символической индустрии? За последние сорок лет она претерпела существенные изменения, самое заметное из которых – переход от материального труда к нематериальному. Однако, как напоминают Хардт и Негри, не стоит думать, что материальный труд исчез вовсе. Нет, этот вид деятельности переместился в другие регионы земного шара – в страны с дешевой рабочей силой. Важно, что производственная логика нематериального труда – а возможно, и его трудовая этика – устанавливает гегемонию, вследствие которой материальный труд, даже фермерский, чем дальше, тем больше тоже повинуется законам труда нематериального. Итак, каковы характеристики нематериального труда?
Согласно Вирно (этим вопросом также занимались другие ученые, как вместе с ним, так и до него), в наши дни основными свойствами нематериального труда являются мобильность, гибкий рабочий график, коммуникация и язык (обмен знаниями), игровой характер, «широкая специализация» (благодаря которой работник может объективно оценивать процесс и обмениваться задачами с другими), а также адаптивность. Иначе говоря, работника нематериальной сферы можно «подключить» к любому делу и в любой момент. Что делает взгляд Вирно на нематериальный труд особенно свежим и неординарным, так это усматриваемая им связь между такими разными качествами, как потенциал, субъективность (под которой подразумевается неформальность и обаяние), любознательность, мастерство, умение персонализировать товар, беспринципность, цинизм и пустословие. Действительно, понятие нематериального труда на первый взгляд кажется смесью крайне разнородных характеристик. На некоторых из них, основных, стоит остановиться поподробнее. Начнем с наиболее изученных и посмотрим на них в оптике Вирно.
Физическая и интеллектуальная мобильность
Из краткого обзора вроде того, который мы дали выше, еще недостаточно очевидно, чего именно требует от людей нематериальный труд и насколько серьезны социальные последствия этой новой формы производства. Например, мобильность часто понимается в терминах растущей физической мобильности, чье отрицательное воздействие мы обычно испытываем в виде дорожных пробок, переполненных поездов, загрязнения окружающей среды выхлопами самолетов и так далее. Сегодня сотрудники больше не проводят всю свою жизнь по соседству с фабрикой или офисом, где работают; они вынуждены регулярно менять места работы или проживания вследствие карьерного роста или реорганизаций внутри компании. Однако помимо этой физической мобильности существует мобильность интеллектуальная, которая все чаще занимает центральное место в современных условиях труда. Работники нематериальной сферы работают преимущественно головой, причем могут (а на самом деле должны) думать везде, где бы ни находились. Поэтому когда работник покидает офис, его нематериальный труд не прекращается. Работники нематериальной сферы легко могут взять работу на дом, работать лежа в постели, а в крайнем случае и в отпуске. Они доступны по мобильным телефонам или через интернет и в любой момент могут присоединиться к рабочему процессу. В результате интеллектуальной мобильности рабочий график становится уже не просто гибким, а текучим, что «гибридизирует» сферы частной и трудовой жизни и почти полностью возлагает ответственность за проведение границ между ними на плечи работника. Эта зарисовка сложившейся ситуации может показаться довольно удручающей – и, по всей видимости, именно так ее воспринимает большинство работников нематериального труда, о чем свидетельствует рост числа рабочих стрессов и депрессий. Одной из причин депрессии работницы нематериального труда может быть то, что она постоянно помнит: ее мысли и идеи – не все, о которых можно подумать, – об этом ей постоянно напоминают во время работы. Идея бесконечности интеллектуального ресурса является не столько психологически, сколько социально обусловленной. В любой момент в мозгу может таиться еще одна творческая идея. Мысли о том, что можно работать еще упорнее и что у человека всегда есть скрытый и неиспользованный потенциал, порой заканчиваются психическим расстройством. Таким образом, синдром эмоционального выгорания вызван не столько ощущением исчерпанности идей, сколько досадой из-за того, что в сером веществе мозга всегда остается бездействующая и пассивная зона. Работник нематериального труда, который больше не в состоянии остановиться в своем интроспективном путешествии в сферы творческой изобретательности, залегает на дно или ищет выход в опьянении, в алкоголизме – чтобы перестать думать. В этом случае творческий потенциал намеренно отключается. Но после столь мрачного рассказа о последствиях нематериального труда надо также заметить, что эта форма интеллектуальной деятельности может быть освобождающей. В конце концов, никто не может заглянуть в умы дизайнеров, художников, инженеров, программистов или менеджеров, чтобы проверить, действительно ли они думают продуктивно и в интересах бизнеса. Более того, трудно измерить время, затраченное на разработку идеи. Работник нематериальной сферы может придумать хорошую идею или прекрасный дизайн за секунду – или за несколько месяцев. Кроме того, все та же работница нематериальной сферы может отложить свои лучшие идеи до той поры, пока не будет готова начать свое дело. Иначе говоря, обладатель нематериального капитала может распоряжаться им незаметно – в данном случае в буквальном смысле.
Потенция, биовласть, биополитика и лень
Из вышесказанного следует, что в нематериальной сфере работодатель инвестирует не столько в эффективный труд, сколько в потенциал: в творческие возможности и задатки. Работник нематериального труда таит в себе еще нереализованные и желанные способности. Может случиться так, что замечательный дизайнер, инженер, менеджер или программистка, которую только что взяли на работу с большим окладом, выдохлась. Или она может просто влюбиться, направив свои мысли в ином направлении, нежели производительный труд. Может быть, ее недавняя блестящая идея или дизайнерское решение оказались последними, или по крайней мере последними на ближайшие десять лет. Кто знает?
Эта разновидность рабочей силы представляет собой нереализованный потенциал, который, тем не менее, покупается и продается, как если бы он являлся материальным благом (а с точки зрения работницы мы можем рассуждать в категориях рабочей силы, так как, пусть даже частично, работница контролирует свое мышление и поэтому обладает определенной властью). Согласно Вирно, эти парадоксальные характеристики требуют биополитических практик. Это означает, что наемный работник нуждается в создании – предпочтительно усилиями правительства (или государства) – тонких инструментов для оптимизации или по меньшей мере обеспечения защиты своего нематериального труда. Поскольку физические способности и мышление неразделимы, эти инструменты направляются на саму жизнь работника нематериальной сферы – отсюда и следует биополитика. Вирно пишет: «Если нечто, что существует только как возможность, продается, то оно оказывается неотделимо от живой личности продавца. Живое тело рабочего является субстратом этой рабочей силы, которая сама по себе не обладает независимым существованием. Жизнь, чистый и простой bios, приобретает специфическую важность в качестве вместилища чистой потенции, dynamis.
Капиталиста интересует жизнь рабочего и его тело только по косвенной причине: эта жизнь и это тело являются тем, что содержит способность, потенцию, dynamis. Живое тело становится управляемым объектом. <…> Жизнь размещается в центре политики, когда ставкой в игре становится нематериальная (и сама по себе не присутствующая) рабочая сила» [Вирно, 2004][4]4
Цит. по: Вирно, П. Грамматика множества: К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 82.
[Закрыть].
Таким образом, биополитика вступает в игру, когда центральное место занимает потенциальное измерение человеческого существования. Тем не менее Вирно интерпретирует это понятие весьма односторонне: он рассматривает биополитику как форму контроля, как инструментализацию человеческого тела с помощью рациональных экономических обоснований или, в терминологии Макса Вебера, в пределах целерационального действия. Однако это лишь один из возможных подходов к данному понятию. Если мы вспомним, как разрабатывал его автор, у которого биополитика впервые стала актуальной философской проблемой, то сможем обосновать его более многозначную интерпретацию. У Мишеля Фуко биополитика действительно обозначает двойные возможности контроля, производства и трансформации жизни на индивидуальном уровне, а также определения или настройки общественных отношений и образа жизни. Иными словами, биополитические практики направлены как на индивидуальное тело из плоти и крови, так и на «тело» социума. В работах Фуко префикс «био-» указывает на двойственную взаимосвязь политики и жизни. С одной стороны, в эпоху модерна физические силы становятся управляемыми и приносят прибыль, поскольку сама жизнь целерационально поставлена под контроль, или «нормализована» и дисциплинирована. На социальном уровне этот контроль представлен управлением рождаемостью, здравоохранением, городским планированием и т. д. Вирно придерживается такой же точки зрения. Но в последней работе Фуко [1984] нам встречается совершенно иное употребление этого понятия, которое можно описать как виталистическое. В своих замечаниях о том, что именуется им «практикой самости» и «заботой о себе», он, как правило, обращается к возможности создания жизни, новых образов жизни и взаимоотношений. Чтобы установить четкое различие между контролирующей и нормализующей функцией, с одной стороны, и самосозидательными, виталистическими возможностями – с другой, Негри и Хардт проводят различие между биовластью и биополитикой. В свете сделанных выше утверждений о нематериальном труде этот диалектический подход к субъекту выглядит вполне уместным. Впрочем, он не был бы таковым, предположи мы, что биовласти можно бросить вызов, обозначить ее пределы или по крайней мере, держаться от нее на расстоянии только благодаря похожим биополитическим мерам. Если конкретнее, то, как мы уже видели, работница нематериальной сферы всегда контролирует творческое мышление в своей голове. Поэтому у нее всегда есть возможность создать новую творческую жизнь и ускользнуть из-под контроля биовласти. Кроме того, у этой работницы всегда есть свобода выбора, которая позволяет развивать интеллектуальные способности, соответствующие или не соответствующие желаниям работодателя. А уж в какой степени она это будет делать – кто узнает? Или, например, работница умственного труда может затуманить свой разум употреблением кокаина. В определенный момент работодатель может догадаться о ее пристрастии, но сколько времени ему на это понадобится? Дело в том, что в арсенале работника нематериальной сферы есть разные инструменты сопротивления. Однако в силу его нематериальной природы выявить это сопротивление не так-то легко. В то время как бунт работника материальной сферы обычно является зримым и выражается, например, в форме забастовки, то работник нематериальной сферы может воспользоваться куда менее заметными формами «непродуктивного» сопротивления. В конечном счете разве народная мудрость не гласит, что настоящий гений всегда с ленцой?
Коммуникация, языковое мастерство и неформальность
С известной долей иронии Вирно вспоминает, что в старом добром заводском цехе фордистской эпохи иногда вывешивался плакат со словами: «Тихо, идет работа». В наши дни, полагает он, на плакате должно было быть написано: «Идет работа. Говорите!» – потому что в постфордистском контексте коммуникация занимает центральное место. Может быть, это недвусмысленное напоминание о том, какую важную роль в условиях нематериального труда играет обмен знаниями и идеями. Поэтому на современном рабочем месте коммуникация продуктивна, тогда как для занятого в материальной сфере она считалась контрпродуктивной: работник является «исполнителем», который должен работать руками, даже если вся его работа сводится к нажатию одной кнопки. Любая болтовня отвлекает.
Но когда ключевую роль на рабочем месте играет коммуникация, то одним из основных навыков становится умение вести переговоры и отстаивать свою позицию с помощью языковых средств. Отныне умение убеждать является как никогда важным. Более эффективен тот, кто обладает лучшими вербальными навыками (и может привлечь к себе больше внимания). Основополагающее «мастерство» переходит с навыков ручного труда (особенно заметных в ремеслах) на вербальные навыки. С точки зрения Вирно, у такого мастерства есть две характеристики: она самоценна, поскольку не ведет к созданию готового материального продукта, и она всегда предполагает присутствие других, то есть публики. Иначе говоря, работник нематериальной сферы – это хороший актер. Единственным способом убедить коллег в том, что идея удачна, является вербальный способ, он же язык. Но даже если удачной идеи нет, работница нематериальной сферы по-прежнему зависит от своих лингвистических способностей, поскольку вынуждена постоянно производить впечатление, что у нее есть глубокие мысли и что она упорно работает над созданием (нематериальных) благ. А роль других людей в том, чтобы высказывать свое согласие или несогласие. Поскольку публика и язык на постфордистском рабочем месте так важны, Вирно говорит о его политическом характере. Он также проводит параллели с мастерством пианиста, а именно Гленна Гульда. Это сравнение можно легко распространить на танец или театр. В этих дисциплинах производство тоже неотделимо от тела, и мастерство тоже занимает почетное место и ценится аудиторией. Но давайте продолжим рассуждать.
Вирно говорит, что коммуникация подразумевает нечто большее, чем просто мастерство, что она оказывает особое влияние на взаимоотношения работников нематериальной сферы. По меньшей мере она требует умения взаимодействовать с тем, что имеет мало общего с производственным процессом. Работники нематериальной сферы должны уметь ладить друг с другом, и поэтому на рабочем месте важную роль приобретают человеческие взаимоотношения. Вирно рассуждает о «включении самого антропогенеза в существующий способ производства». Когда в офисе или на фабрике особую роль начинает играть аспект взаимоотношений, в игру включается еще один элемент – неформальность. Чтобы ладить друг с другом – или, если выразиться точнее в данном контексте, – чтобы отважиться проверить свои идеи на коллегах, нужно определенное доверие. Эта идея выходит за рамки работы Вирно и заслуживает дальнейшего рассмотрения. Зададимся вопросом: а может, неформальное общение служит не только для поддержания дружелюбной атмосферы и обмена информацией, но и выполняет какую-то другую функцию? Помимо всего прочего, оно помогает людям лучше узнать друг друга – например, интересуясь делами детей или внепрофессиональной жизнью коллег. Не являются ли эти сведения о частной жизни хорошим критерием, который позволяет выяснить, справляется ли работница нематериальной сферы со своими задачами? Действительно ли она мыслит эффективно и в интересах бизнеса? Этот вопрос можно сформулировать более категорично и поэтому более умозрительно: не является ли «неформальность» рабочего места тотальным инструментом биовласти? Мышление работницы нематериальной сферы можно проверить, непринужденно болтая с ней, и она об этой проверке может даже не догадываться. Помимо всего прочего, «хорошая рабочая атмосфера» намекает на то, что люди время от времени мило беседуют в коридоре, вместе обедают или идут в пивную после работы. Такая атмосфера выполняет двойную функцию. С одной стороны, она может увеличить производительность труда, потому что работник идет на работу как на праздник (даже если работа сама по себе не очень интересна, дружелюбные коллеги спасают ситуацию), но, с другой стороны, это еще и изощренная форма контроля, а именно контроль над реальными жизнями людей. В конечном счете переход на неформальный уровень позволяет уличить работницу нематериальной сферы в неумении создавать продуктивные идеи. Это и есть биовласть в подлинном смысле слова: не власть формальных правил, а контроль, который всегда и повсюду, прячется за углом, готовый посягнуть на тело, причем в крайне субъективизированной манере.
Оппортунизм
Последняя характеристика нематериального труда, о которой здесь пойдет речь, – это влияние одной хорошо известной особенности постфордизма, а именно «дерутинизации». В то время как в фордизме рутинный труд и повторение одних и тех же действий находились в центре производственного процесса, постфордизм характеризуется непрерывными изменениями в рабочем пространстве. Впрочем, Вирно рассматривает этот широко известный феномен в новой теоретической перспективе. Хроническая нестабильность, вызванная неожиданными событиями, постоянными инновациями, бесконечно расширяющимися перспективами и возможностями современной рабочей среды, а также ее расширение требует от постфордистских работников определенного навыка. Они должны постоянно извлекать выгоду из меняющихся возможностей и калейдоскопа вариантов, уметь обращать всякий предоставленный им шанс в беспроигрышную ситуацию. Поэтому хорошая работница нематериальной сферы – это большая оппортунистка, так как она может приступить к работе на самых разных условиях. Но Вирно рассматривает данную ситуацию вне моральных категорий, не давая ни позитивных, ни негативных оценок. В конце концов, «хорошей» оппортунистке известно, как обратить любую ситуацию себе на пользу, будь то ради финансовой выгоды или ради какой-то высшей цели. Важно при этом следующее: работница нематериальной сферы отличается умственной гибкостью. Она всегда должна быть открыта новым веяниям и новым идеям и думать о том, как включить их в процесс нематериального производства.
Искусство и постфордизм
Многие художники и творческие личности вполне могут узнать себя в представленном выше портрете работника нематериальной сферы. Рабочее время художника также не ограничивается интервалом с девяти до пяти, и от него тоже всегда ждут свежих идей и реализации потенциала. А из-за ослабления ремесленной стороны творчества – по крайней мере в современном визуальном искусстве – художник тоже зависит от коммуникации, языкового мастерства и эффективности своих идей. И разве художника периодически не обвиняют в лени? И наконец: разве художник не оппортунист?
Описать художника как работника нематериальной сферы не составит большого труда. Это легко проделать для таких видов искусства, как театр, танец и музыка, где творческий продукт неотделим от тела актера, по крайней мере тогда, когда речь идет о живых представлениях. Более того, в этих областях язык и коммуникация играют главную роль в художественном произведении, особенно когда речь идет не о сольном выступлении, но о концерте театрального коллектива, танцевальной труппы или музыкального ансамбля. Такие представления требуют постоянного взаимодействия и общения во время репетиций. Представить визуальное искусство как форму нематериального труда куда сложнее. Основной контраргумент таков: 99 % процентов художников, работающих в области визуального искусства, по-прежнему создают законченный материальный продукт. К тому же, согласно стереотипному представлению эпохи романтизма, художник обычно творит в одиночестве. Впрочем, на все это можно возразить: в современном визуальном искусстве основополагающим является не материальный продукт, а нематериальный труд, что выводит коммуникацию и языковое мастерство на первый план. Однако данная идея не ограничивается проведением параллели между изобразительным искусством и нематериальным трудом. Приведя несколько примеров из художественной сферы, я выдвину гипотезу, что мир современного искусства стал социальной лабораторией для нематериального труда и, следовательно, для постфордизма. С точки зрения Хардта и Негри, Вирно, а также де Серто, начало 1970-х было поворотным моментом в переходе от фордизма к постфордизму, а значит, к гегемонии нематериального труда. Ключевые эпизоды – это студенческие протесты 1968 года и забастовки на заводе «Фиат» начала 1970-х. Анализируя эти бунты, Вирно выдвигает любопытное утверждение, что данный перелом принципиально отличался от того, что произошел в 1920-е годы. Общественным конфликтом 1960-х и 1970-х двигали несоциалистические и даже антисоциалистические требования, такие как радикальная критика труда (социализм видит в нем главный двигатель общества), право выражать индивидуальные вкусы и право на далеко идущий индивидуализм в целом. Эти требования были быстро подхвачены капитализмом, и в итоге появились описанные выше постфордистские формы производства. В конечном счете кто, как не рабочие 1960-х годов, требовали «более гуманных рабочих условий», консультаций с ними, гибкого графика и сокращенной рабочей недели? Что ж, в том числе и их стараниями сегодня созданы условия нематериального труда, что Вирно иронически описал так: «Постфордизм – это коммунизм капитала».
Время появления постфордизма – 1970-е годы – не вызывает никаких сомнений и подкреплена вескими эмпирическими доказательствами. Но мы можем задаться вопросом: существовали ли некие социальные пространства, где (вероятно, неосознанно) вызревала его логика и этика? Как я уже упомянул, лабораторией для этого процесса, очевидно, стали ранние этапы современного искусства. Далее я попытаюсь обосновать эту гипотезу, ссылаясь на примеры из визуального искусства – по той простой причине, что большинство моих исследований лежат в этой области. Хотя и в других искусствах можно было бы обнаружить аналогичную лабораторную функцию.
Сингулярность, потенциал и авторство
Множество, которое Вирно рассматривает как побочный продукт постфордизма, состоит из множества различных индивидуальностей. Именно эта особенность отличает множество от масс. Взяв на вооружение труды Натали Эник по социологии искусства, мы можем отстаивать тезис, что именно эта сингулярность была продуктивным социальным принципом, который зародился в мире искусства. В своем первом опубликованном исследовании «Слава Ван Гога» [Эник, 1991] Эник описывает возникновение сингулярности. Она не изображает ее как трансцендентный или универсальный принцип, но подробно анализирует ее появление в определенный период времени в истории искусства. В историческом разрыве между академизмом и современным искусством имя Ван Гога чаще всего упоминается при описании перехода к индивидуалистическим ценностям и отказе от коллективного режима академического искусства. Традиционный механизм признания искусства опирался на верность традициям как показатель художественного качества. Положение художников на иерархической лестнице зависело от соблюдения ими установленных художественных правил. Этот принцип означал, что художник мог добиться славы и признания еще при жизни. Суть коллективного режима заключается в относительном групповом соответствии. В мире искусства начала XIX века это соответствие включало в себя подчинение коллективным правилам академии. В современном западном обществе, напротив, больше всего ценится следование демократическим принципам равенства. Вполне очевидно, что коллективный порядок меняет свой облик в зависимости от времени и места. Согласно Эник, в мире искусства взлет модернизма предвещал отказ от анализа произведений искусства на предмет соответствия установленному набору правил. В конце XVIII века первые художники эпохи романтизма добились признания именно вследствие своей анормальности, несоответствия обычаю, исключительности. При жизни они в основном встречали непонимание. Эксцентричность художника означала, что на протяжении всей своей жизни он балансировал между славой и позором, между оригинальностью и недозволенностью. Лишь позже потомки будут готовы оценить его подлинное художественное значение.
В период с конца XIX века до окончания Второй мировой войны системы ценностей коллективного академического режима и индивидуализма тесно сосуществовали. Только в конце 1940-х годов режим индивидуализма одержал верх и завоевал весь мир искусства [Эник, 1996]. Если художник эпохи романтизма сопротивлялся пережиткам аристократических правил академии, то авангард ополчился против буржуазного общества, которое поддерживало художника эпохи романтизма. И тем не менее в основе этого художественного авангарда лежала система ценностей, установленная художником романтизма. С романтизмом художника-авангардиста роднила убежденность в том, что бедность творца свидетельствует о качестве его работ, а маргинальность служит признаком исключительности. Именно поэтому взгляды Эник вызывают споры. «Официальная» история искусства заявляет, что в эпоху исторического авангарда с художником романтизма уже было покончено, однако Эник утверждает, что последователи авангарда крепко держатся за основные ценности романтизма. С одной стороны, авангардистское сопротивление буржуазному искусству раскололо художественную среду. С другой – авангардисты переняли и даже радикализировали индивидуалистический режим, установленный художником эпохи романтизма. Противостояние между индивидуалистическим и коллективным режимом усилилось из-за разногласий между авангардом и буржуазным обществом [Эник, 1991].
Важность социологического и исторического анализа Эник заключается в утверждении, что еще в конце XIX века сингулярность была признана ценностью специфического социального пространства – мира изобразительного искусства. На первых порах распространение сингулярности шло постепенно, а с 1950-х она считается важнейшим принципом. Отсюда можно вывести первую субгипотезу: разве не признание сингулярности в качестве основы новаторства стало общепринятым принципом в расширившемся списке профессий с 1970-х годов?
В своем исследовании «Холсты и карьеры» [Уайт и Уайт, 1965] Харрисон и Синтия Уайт придерживаются схожей точки зрения. Они считают, что разрыв с академической системой послужил прелюдией к ряду важных трансформаций в профессии художника. Когда Парижская Академия живописи и скульптуры и ежегодный Салон развалились, отчасти под тяжестью собственной структуры, это событие возвестило о появлении на свет системы, которую Уайты назвали «торговец-критик». Ключевую роль в этом процессе приобретает не только принцип первичности языка и слова, обусловленный возвышением фигуры художественного критика, – сама сфера компетенции художника претерпела коренные изменения. Как известно, индивидуальный стиль стал важнее единой системы правил. Теперь от художника ожидают не одного шедевра в год, а последовательного развития творчества, которое подтверждает стабильность профессионализма. Или, как подчеркивается в заголовке исследования Уайтов, в постакадемической системе искусства центральное место занимают не картины, а карьера художника. Впрочем, за этой трансформацией можно увидеть простую капиталистическую логику. Потенциальный покупатель нуждается в доказательстве ценности художественного произведения. Во-первых, продавец может рассказать об экспертной оценке работы, а во-вторых – упомянуть положительные отзывы о предыдущем творчестве художника. Признание качества более раннего творчества воспринимается как обещание будущей ценности. Здесь очевиден механизм, который я описал в одной из своих работ как «ретроспективную» природу художественной карьеры [Гилен, 2003]. Однако крайне важно здесь то, что мы в очередной раз наталкиваемся на одну из основных характеристик постфордизма, которую приписывает ему Вирно. По мнению итальянского мыслителя, с экономической точки зрения в нематериальном труде ценится не продукт (читай: картины), а продуктивная сила и способность. Очевидно, что в основе этого утверждения лежит гипотеза о тесной взаимосвязанности потенциальных возможностей и тела. Разве не это мы видим в индивидуальном стиле? Как раз благодаря безмолвной связи произведения искусства и художника произведение практически неотделимо от своего создателя. В пользу этого факта говорит та легкость, с которой работы художника и его имя взаимозаменяются в художественном дискурсе. Например, картина Дюма или Тёйманса обычно так и называется: «Дюма» или «Тёйманс». И вообще, разве в дальнейшем эта индивидуализация и субъективация не была заимствована другими сферами нематериального труда, например дизайном? (Вспомните дизайнерскую компанию «Alessi».) Другими словами, не обнаруживаем ли мы в мире искусства раннюю форму «персонализации продукта», как назвал Вирно одну из обнаруженных им особенностей постфордизма? Назовем ее второй субгипотезой.
Художественная теория, лингвистическая виртуозность и цинизм
Бельгийский теоретик искусства Тьерри де Дюв [Де Дюв, 1991] утверждает, что демократизация искусства началась с первой скандальной выставки импрессионистов. С тех пор дедуктивный анализ художественного артефакта на предмет его соответствия правилам стал невозможен, но всякое художественное движение заново индуктивно конструировало и проповедовало свою систему правил. Итак, как продемонстрировали Уайты, на закате академической системы возникла не просто фигура художественного критика, но сама критическая оценка искусства, положившая начало трудному процессу демократизации, который продолжается по сей день, когда практически любой может высказать свое мнение о ценности искусства или о том, что можно назвать искусством. Здесь особенно важно, что сам вопрос – что можно, а что нельзя назвать искусством – открыт для комментариев, или, выражаясь словами Вирно, для языкового мастерства или перформативности. Вероятно, американский философ Артур Данто руководствуется аналогичными идеями, когда в своей бурно обсуждаемой книге «Лишение искусства его философских привилегий» [Данто, 1986] провозглашает конец искусства. Данто утверждает, что наиболее важным фактором становится разрыв между артефактом и его восприятием. Этот разрыв заполняется теорией, а сам художественный объект перемещается на задний план. Объявляя о конце искусства, Данто не подразумевает прекращение художественной деятельности, но говорит о том, что рассуждение об искусстве присвоит функции самого артефакта. Подтверждение тому он находит в реди-мейдах Марселя Дюшана или «коробках „Брилло“» (Brillo Boxes, 1964) Энди Уорхола. Это языковое мастерство сыграло ключевую роль в изобразительном искусстве за несколько десятилетий до стремительного распространения нематериального труда, что наглядно демонстрирует весьма занятный отрывок из интервью Марселя Дюшана, которое приводит Пьер Бурдьё:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?