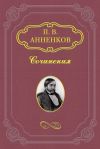Текст книги "Пушкин в Александровскую эпоху"
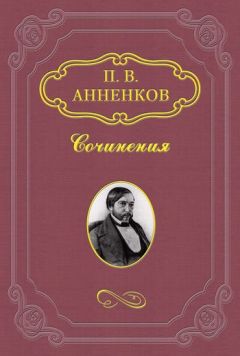
Автор книги: Павел Анненков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Вероятно, по просьбе своего внучатного племянника, А.С. Пушкина, этот генерал-от-артиллерии уступил ему листок своих записок, начатых гораздо ранее автором – в чине еще артиллерии полковника. Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах, и служит печальным образчиком тех познаний в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, какими обладал генерал-от-артиллерии и родной брат исторического лица, Ивана Абрамовича Ганнибала. Вот этот листок, списанный нами, без малейшего изменения в слоге и орфографии: «Отец мой служил в российской службе происходил во оной чинами и удостоился Генералом аншефского чина орденов святыи Анны и Александра Невского, был негер, отец его был знатного происхождения то есть владетельным князем и взят вомонаты отец мой константинопольского двора из оного выкраден и отослан к государю Петру Первому, детей после себя оставил Ивана – Генерал Поручика – Петра артиллерии полковника – Иосифа морской артиллерии второго ранга капитана – Исаака – морской артиллерии 3 ранга капитана; дочерей Елизавету, которая была за Пушкиным вдовою, Анну, коя была за Генерал Майором Нееловым, Софья за Роткирхом. Братья сестры и зятья волею Божею все вроди и чада помре; остался я один, я и старший в роде Ганнибалов; теперь начну писать о собственном рождении, происходящим в чинах и приключениях. Родился я в 1742 году Июля 21 число по полуночи в городе Ревеле где отец мой в оном городе был Обер-Комендантом; восприемники были за очно вечно достойна Императрица Елизавета Петровна достойной памяти с Петром Третьим – в то же время пожаловано отцу моему 500 Псковской Губернии». Здесь и обрывается, к сожалению, записка, не исполнив обещания повествовать о приключениях.
Что касается до третьего сына (деда Пушкина по матери) Януария или Осипа Ганнибала, то это был сорвиголова и ужас семьи. Впрочем, первые основы математического образования и ему доставили, разумеется, при покровительстве брата Ивана Абрамовича, звание «морской артиллерии капитана второго ранга», но он уже, кажется, не признавал для себя обязательными никакие гражданские установления и порядки. Было уже говорено прежде о том, как от живой жены он обвенчался с девушкой, которую обманул самым наглым образом, но эта проделка обошлась ему весьма дешево: по приказанию императрицы Елизаветы, разведенный с обеими своими женами, он был сослан только на жительство в свое имение, с. Михайловское, где и мог предаться вполне обычным сельским наслаждениям помещиков того времени. Первой и законной его жене, известной бабке Пушкина, Марье Алексеевне, выделена была при этом часть из его другого имения, именно сельцо Кобрино (Петерб. губ.), где она вместе с дочерью, будущею матерью поэта, и жила сравнительно в бедности, под охранением своего шурина, соседа, помещика Суйды и опекуна, Ивана Абрамовича Ганнибала.
Нужда и горе развили в Марье Алексеевне практический ум, хозяйственную сноровку и способность понимать предметы в их отношениях к действительной и повседневной жизни. Простота, ясность и меткость ее речи, впоследствии так восхищавшие Пушкина и друга его, Дельвига, обусловливались отчасти и ограниченным кругом понятий, в котором вращалась Марья Алексеевна и через который смотрела на остальной мир. Предание изображает нам ее, как настоящую домостроительницу, по образцу, существовавшему еще очень недавно. Девичья ее, слышали мы, постоянно была набита дворовыми и крестьянскими малолетками, которые, под неусыпным ее бдением, исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки и каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно также, чтобы ни одна сила не пропадала даром и т. д. В этой сфере вырастала дочь ее, Надежда Осиповна – балованное дитя, окруженное с малолетства угодливостью, потворством и лестью окружающих, что сообщило нраву молодой красивой креолки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера. Жених ее – скромный, рассеянный и застенчивый гвардейский офицер, Сергей Львович Пушкин, умел пленить прежде всего Ивана Абрамовича Ганнибала, который, решаясь выдать за него свою бойкую крестницу, примолвил: «он не очень богат, но очень образован». Предания о фамилии Ганнибалов на этом и кончаются. Мы покидаем ее для того, чтобы заняться ее антиподом, полной, совершенной ее противоположностью, именно фамилией Пушкиных.
Не мудрено, что чесменский воин, герой Наварина и проч., принял Сергея Львовича Пушкина за очень развитого человека. Будущий племянник должен был внушить ему уважение, как представитель нового поколения, успевшего развиться на других основаниях, чем те, которые существовали еще в его собственной, патриархальной, полудикой и полуграмотной семье.
Сергей Львович и брат его, столь известный Василий Пушкин, получили полное французское воспитание, писали стихи, знали много умных изречений и острых слов из старого и нового периода французской литературы, и сами могли бойко размышлять о серьезных вещах с голоса французских энциклопедистов, последнего прочитанного романа или где-нибудь перехваченного суждения. Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов: сближение с аристократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредство слухов и новинок для неумолкаемых бесед, для умножения шума и говора столицы. К числу необходимостей своего положения причисляли они и ухаживание за всякой своей и иностранной знаменитостью и проч. Дом Сергея Львовича в Москве действительно посещаем был членами того блестящего литературного круга, который в начале столетия образовался там около Карамзина; в числе друзей и знакомых дома встречаются самые почетные имена того времени – Жуковский, А. Тургенев, Дмитриев и проч., вместе с именами заезжих эмигрантов, туристов, артистов. То же было и у другого брата. Разумеется, внешние формы их жизни при этом уже во многом разошлись со старыми, первобытными обычаями дворянского существования. Сергей Львович, например, терпеть не мог деревни, если она не была видоизменением или продолжением городской жизни, и ни разу не посетил иных наследственных своих имений, как, например, Болдина (Нижегородской губ.), в чем его упрекали родные и еще упрекают доселе биографы; но это отвращение от сельского уединения помогло отцу нашего поэта, по крайней мере, освободиться от наклонностей, замашек и привычек тогдашнего помещичьего быта. Бесспорно, это был своего рода прогресс, но, к сожалению, по крайней своей ничтожности и ограниченности, он мало изменял все другие нравственные стороны человека и ничего не изменял в положении людей, зависевших от наших утонченных землевладельцев. Когда, гораздо позднее, для спасения Болдина послан был туда дельный управляющий, то он просто бежал из имения, при виде страшного разорения крестьян, в которое они были погружены беспечностью и образованными стремлениями помещика. Форма прогресса была не менее оригинальна и у Василия Львовича, но здесь нет надобности описывать ее, так как биография автора «Опасного Соседа» до нас не касается.
Вообще, следует заметить, что у обоих братьев не было и времени для своих собственных дел: они занимались только чужими. Люди, страстно искавшие всю свою жизнь гостиных и эффектных бесед, переносившие удачное бонмо, перед ними сказанное, из дома в дом, и, со своей стороны, сами занятые, для потехи других, тем, что французы называют деланием ума, faire de l'esprit, – такие люди уже, конечно, не имели ни времени, ни возможности устроить свое существование на прочных основаниях. Вот почему вся их жизнь, проведенная в беготне за высшим светом и модными формами существования, в толкотне между людьми и в пересудах слышанного и виденного, оставила их под конец материально и умственно разбитыми и несостоятельными.
А между тем, Василий Львович, принятый в «Арзамасе» после шутовской церемонии, устроенной В.А. Жуковским нарочно для него, как замечает Ф.Ф. Вигель, считался влиятельным литератором, а после своего «Опасного Соседа» достиг даже некоторого рода знаменитости[13]13
Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в «Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроту – и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» исключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком друзей, в числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуковский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников найдет», направленный против кн. Шаховского и так много смешивший партию антишишковскую.
[Закрыть]. Он заслуживал благодарности литераторов за неослабное свое хлопотание около них и около русской литературы вообще, в течении добрых 25-ти лет. Он уже едва двигался от подагры в 1830 г., но, сохраняя свою важную осанку, за которой скрывалось у него так много добродушия, легковерия и беспечности, продолжал толковать о журналах, и раз в одном из сильнейших пароксизмов болезни нашел минуту сказать окружающим: «Как скучны статьи Катенина об испанской литературе»! (в «Литературной газете», 1830 г.)[14]14
См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853, № 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате, шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет последним его словом».
[Закрыть]. Самая смерть его, последовавшая в тот же год, имела одинаковый характер с его жизнью. Нам рассказывал один из близких его знакомых, что раз, утром, больной старик поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоняя друг друга, отыскал там Беранже, и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником. Сергей Львович скончался гораздо позднее. Закат его представлял нечто в роде правильного, логического вывода из всей предшествовавшей его жизни. Уже в глубокой старости, овдовелый, потерявший знаменитого сына и наполовину разоренный, он влюбился в ребенка, девушку лет 16-ти, соседку свою по Михайловскому (Александру Ивановну Осипову), и предлагал ей свою руку. Почтенному старцу пришлось пережить у дверей гроба все волнения юношеской и безнадежной страсти, начиная с пламенных посланий на французском языке и робких угождений предмету поклонения, до покорных жалоб на судьбу и горьких слез отчаяния. Он еще мечтал о браке, второй молодости, медовом месяце и проч.
Как ни забавно может показаться это чахлое подобие эпохи Людовика XV на русской почве, но оно имело и свою очень серьезную сторону. Благодаря праздности, внешнему существованию людей и пустому волнению их, оно еще вело неизбежно к расстройству и уничтожению состояния. Действительно, только при относительно громадных средствах можно было безнаказанно тешиться жизнью на манер философствующих маркизов и дюков прошлого века. Там же, напротив, где крепостничья нерасчетливость в соединении с невообразимым отвращением к какому-либо занятию одни могли бы потрясти даже солидное состояние – там подделка под развязную эпоху Людовика XV-го сопровождалась довольно печальными и вместе комическими последствиями. Известно, что Сергей Львович, из желания развязать себе руки вполне, передал все управление домом супруге своей, Надежде Осиповне, которая не менее его обожала свет и веселое общество, а в управление домом внесла только свою вспыльчивость, да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего происходящего вокруг. Это уже лежало в самой ее природе. Вот почему нет никакой возможности сомневаться в истине нижеследующих строк, которыми один весьма умный наблюдатель описывает нам дом Пушкиных, когда они, в 1814 году, переехали окончательно на жительство в Петербург из Москвы: «Дом их, – говорит он, – всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана». Вот с чем могла уживаться претензия на образованность, и это еще при весьма достаточных средствах: Пушкины – владели тогда всеми своими наследственными и очень немаловажными имениями. Надо прибавить, что они никогда уже и не выходили из положения, описанного выше. Впрочем, и то следует сказать: один ли их дом представлял тогда хаотическое смешение крайностей и совместное существование признаков развития с крупными чертами доморощенных нравов, один ли их внутренний быт отличался помесью европеизма и терпимости к нелепому деревенскому обычаю?.. Вспомним одно любопытное свидетельство по этому предмету, кажется, раз уже и указанное в нашей литературе. Известный германский патриот и писатель Е.М. Арнт, сопровождавший барона Штейна в его поездке в Петербург (1812), рассказывает в своих записках об этом времени поучительный анекдот из сношений прусского реформатора с петербургской знатью. Барон Штейн очень любил одну весьма умную и благородную женщину из нашего высшего круга (графиню О., урожденную Стр.[15]15
Муж графини, В. В. Op., проживший потом много лет за границей, имеет в нашей литературе некоторую известность, как переводчик басен Крылова и других русских произведений на французский язык.
[Закрыть]), которая, со своей стороны, дорожила каждым словом знаменитого министра. Разговорившись однажды о лихоимстве тогдашних наших провиантских чиновников, которые даже умели сделаться помехой русскому оружию и повредить русской политике вообще, барон Штейн привел почти в слезы свою слушательницу, указав с укором на собственный ее дом, наполненный воспитанниками и воспитанницами, в числе которых были и калмыченки: «Какого нравственного чувства, – заметил строгий барон, – хотите вы от собственных детей, когда они живут в обществе лиц с разнородными привычками, различных сословий, различных полов и возрастов до юношеского включительно? Где тут может развиться и сохраниться в надлежащей чистоте чувство порядка, обязанностей, долга?» (Выдержка из «Meine Wanderungen mit dem Freiherr Stein», E.M. Арнта, в приложениях к «Allgemeine Zeitung», № 204, 1858 г.).
Возвратимся, однако же, назад к прерванному биографическому рассказу.
Через год после брака с Надеждой Осиповной, Сергей Львович, по заведенному тогда порядку, стал помышлять об отставке и переезде в Москву. Тотчас после рождения дочери Ольги (1798), он привел в исполнение свой план: покинул семеновский полк и уехал в Москву на покой. Здесь первым делом семейства было обзавестись подмосковной, как необходимым условием порядочной столичной жизни. Бабушка поэта, Марья Алексеевна, променяла свое Кобрино, близ Петербурга, на село Захарово, близ Москвы, которое тоже, в свою очередь, было продано, когда Пушкины задумали переселиться снова в Петербург. Вплоть до нашествия французов они жили попеременно, то в Москве, то в новой деревне, и в течение этого именно времени успел развернуться и обнаружиться характер второго их ребенка, сына Александра, рожденного в 1799 г., который так мало был похож на все, чего они могли ожидать от своего семейства, что весьма скоро сделался для них загадкой. Из соединения двух разнородных фамилий и двух противоположных нравственных типов возникла натура до того своеобычная, независимая, уступчивая и энергичная в одно время, что она сперва изумила, а потом и ужаснула, как увидим ниже, своих родителей.
После всего сказанного нами, кажется, нет надобности распространяться о том, что при воспитании подобной натуры и подобного характера не только не было употреблено в дело какого-либо определенного правила или обдуманной системы, но даже и простого здравого смысла. Подробности о детских годах Александра Пушкина, приведенные в Наших «Материалах» 1855 г. со слов его родных, очень любопытны; но они ничего не говорят о началах и основаниях, принятых в семействе относительно воспитания нового его поколения, и не говорят потому, что, их, кажется, вовсе и не было. Да откуда и было им взяться при посторонних и внешних интересах, поглощавших все внимание как отца, так и матери этого семейства, при гувернерах и гувернантках с различными взглядами и характерами, при влиянии каждого, кто захотел, на детей, растерянных в этом множестве руководителей. В программе автобиографических записок, к сожалению, несостоявшихся или уничтоженных поэтом, встречаются лаконические слова его: «Первые неприятности – гувернантки. Мои неприятные воспоминания. – Кат. П. и Ан. Ив. – Нестерпимое состояние». Для того, чтобы в позднейшие годы жизни так настойчиво отмечать неприятности первых лет, даже три раза повторять почти одну и ту же мысль и фразу, надо было глубоко испытать в свое время горечь и оскорбление окружающей среды. Биографический смысл этих заметок для нас теперь потерян, да мы и не старались отыскать ключа к нему. Несколько маловажных, по всем вероятиям, фактов домашней или учебной жизни, которые он мог бы открыть, не очень нужны нам для того, чтобы отчетливо представить себе теперь обстоятельства, сопровождавшие детство поэта.
Часто случается, что все врожденные, темные и светлые силы характера долго спят в душе ребенка и не показываются на свет до тех пор, пока их не пробудит к жизни какое-либо обстоятельство. Нет никакой причины полагать, что такое решающее событие всегда должно быть серьезного, потрясающего свойства; напротив, в большей части случаев, оно, по маловажности своей, проскальзывает едва замеченное теми, которые были его свидетелями. Случается так, что роль таких пробуждающих толчков играет для ребенка легкая, испытанная им, напраслина, пустая, но незаслуженная обида, наконец, патетический рассказ, неожиданно попавшийся ему в руки и сильно поразивший его воображение и т. д. Чем-то в роде подобного толчка ознаменовались и детские годы А. Пушкина. Искрой, внезапно оживившей его природу и раскрывшей разнородные нравственные элементы, таившиеся в ней, была тут, как нам кажется, библиотека С.Л. Пушкина. Молодой Пушкин рос до 9-ти лет тяжелым, флегматическим, неповоротливым мальчиком (какая разница с энергией, подвижностью и неутомимостью позднейших его годов!). Первое искусственное и нездоровое возбуждение ума и страстей должно отнести насчет, так называемых, публичных jeux d'esprit, которые были в большом ходу у его воспитателей, да и вообще считались тогда хорошим педагогическим приемом, а второе следует возложить на распорядки почтенного Сергея Львовича, позволявшего детям присутствовать при приеме гостей и быть постоянными слушателями всех разговоров своего кабинета, только под условием молчания и невмешательства в беседу. Молодой Пушкин бросился со страстью к французской фамильной библиотеке дома. Библиотека могла быть также и средством для него уйти от семейных огорчений, да она же еще и соответствовала тогда его ленивой физической природе, требовавшей покоя. Мальчика предоставили вполне его страсти, как и следовало ожидать от семейства с сильным «литературным» оттенком, и, разумеется, не заметили коренного перелома, который неожиданно совершился, благодаря этому обстоятельству, в физической и нравственной природе его.
Можно догадываться о составе библиотеки как по характеру Сергея Львовича, так и вообще по характеру библиотек того времени. Более, чем вероятно, что книгохранилище Пушкиных состояло из французских эротических писателей XVIII-го века, из философских трактатов сенсуальной школы, из Вольтера, Руссо, Гельвеция и самых крайних их толкователей. Зная это, мы можем уже определить и самую сущность перелома, совершившегося в молодом Пушкине. Прежде всего оказалось, что постоянное умственное, мозговое раздражение ускорило обновление и изменение его организма, уже подготовленное годами. Затем, параллельно с неустанным чтением, развился настоящий отроческий его нрав, тот самый, который несколько позднее видели лицейские товарищи и учители молодого человека, оставившие и свои заметки о нем[16]16
Поразительные их отзывы о моральной стороне его воспитания и преждевременном развитии его ума и всех способностей увидим ниже.
[Закрыть]. Библиотека отца оплодотворила зародыши ранних и пламенных страстей, существовавшие в крови и в природе молодого человека, раздвинула его понятия и представления далеко за границу возраста, который он переживал, снабдила его тайными целями и воззрениями, которых никто в нем не предполагал и, наконец, – что всего важнее – мало-помалу воспитало великое самоуважение, не допускающее власти над собой и не признающее ее законности ни в каком виде, ни под каким предлогом. Как тогда отнеслись к этим новым проявлениям его личности домашние, наемные и не наемные его пестуны, что происходило между ним и воспитателями его – мы, конечно, не знаем. Можно полагать, однако же без особенного риска, что они были ниже предстоявшей им задачи успокоения, объяснения и направления этих первых порывов освобождающейся мысли. Надо сказать, что все брожение страстей не исключало у молодого Пушкина некоторого рода застенчивости и даже робости при людях, о чем свидетельствуют многие старые друзья этого дома. Известно, что застенчивость и робость часто бывают приметами высокого понятия человека о самом себе. В первых столкновениях с возникающим характером и нарождающимся образом мыслей, гувернеры и гувернантки, конечно, не могли играть очень благотворной роли для такого сложного характера, каким уже являлся молодой Пушкин. Они свели всю свою задачу на то, чтобы добиться от него наружного повиновения, и встретили совсем неожиданное сопротивление, которое устояло и перед попытками побороть волю мальчика развитием так называемой начальнической строгости. Все настойчивые или вспыльчивые требования самих родителей приводили к одному и тому же результату, – яростному отпору. Молодое сердце, оскорбляемое ими и уже способное к вражде и ненависти, начинало не скрывать своих чувств. Так как ближайшая причина этого непонятного явления оставалась все-таки неизвестной воспитателям, то объяснение его одной жестокостью чувства и врожденным упорством ребенка само собой напрашивалось на ум. От этого уже недалеко было придти под конец к заключению о несчастной, извращенной природе мальчика, и после сожаления и негодования достичь, наконец, отвращения и ужаса. Так оно, если не ошибаемся, в самом деле и случилось.
Ограничиваемся этим кратким очерком семейных дел Пушкина, который мы и предприняли только для того, чтобы дать читателю правдивое понятие о первоначальном воспитании поэта. После всего в нем сказанного уже становится понятным единогласное свидетельство знавших дела семьи, что когда, в 1811 году, пришло время молодому Пушкину, ехать в Петербург для поступления в лицей, он покинул отеческий кров без малейшего сожаления, если исключим дружескую горесть по сестре, которую он всегда любил. Это подтверждает и друг поэта – И.И. Пущин. Будущий лицеист наш ничего не оставлял дома, и дом, провожая его в другую столицу, ничего не ожидал от него. Любопытно, что разрыв с семейством у Пушкина продолжался до 1815 года, когда успехи его в литературных упражнениях понудили тщеславного родителя его сделать первый шаг к примирению.
Заканчиваем эту главу сообщением дополнения к программе Пушкина для будущих несостоявшихся записок о годах своего детства и пребывания в лицее. Программа без этого дополнения была уже напечатана в наших «Материалах» для биографии А. С. П. (1855 г.). Если бы программа была осуществлена поэтом, то, конечно, мы имели бы в литературе поучительную картину нравов эпохи и изображение главных ее личностей, после которой труд разъяснения дела значительно был бы облегчен для биографа. Вот это дополнение:
1811.
«Философские мысли. – Мартинизм. – Мы прогоняем Пилецкого.»
1812. 1813. 1814.
«Государыня в Сар. Селе. – Граф Кочубей. – Смерть Малиновского. – Безначалие.»
1815.
«Известие о взятии Парижа. – Приезд матери. – Приезд отца. – Стихи etc. – Отношение к товарищам. – Мое тщеславие.»
Мы скоро будем говорить о философских мыслях в лицее и об истории иллюмината Пилецкого, а теперь сделаем пояснение одного места в прежде напечатанной «программе», оставшегося не разъясненным, как и многие другие ее места. В нем Пушкин отмечает следующее: «Юсупов сад, землетрясение. Няня…» О землетрясении в Москве было уже говорено прежде, а Юсупов сад связывается с анекдотом из жизни Пушкина, когда он был еще годовалым ребенком. Няня его встретилась на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошел к няне, разбранил за нерасторопность и сам снял картуз с ребенка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались еще при императоре Павле.