Текст книги "Город Под Облаками"
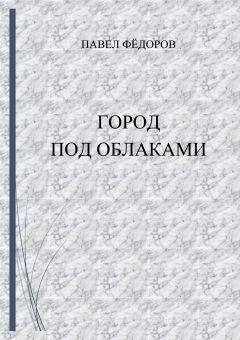
Автор книги: Павел Федоров
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ровно в десять вечера в субботу во двор, перед домом, где находилась студия, въехал огромный фургон. Лена, суетясь, открыла настежь большую входную дверь и, ни слова не говоря, группа рабочих, одетых в одинаковые комбинезоны, очень быстро и профессионально начали вкатывать оборудование и расставлять его в студии. К двенадцати ночи все было готово и рабочие, так и не сказав ни единого слова, ушли. Лена иногда бывала в различных музыкальных студиях, но такого там даже близко не было. Более всего ее поразило то, что свет, акустика и все оборудование такое впечатление было изготовлено прямо под заказ, специально учитывая все нюансы занимаемой площади и специфики именно этого помещения – ее студии. Все пространство в середине зала было абсолютно свободно и туда направлен свет софитов таким образом, что казалось, будто занавес только подняли и освещена таинственным светом сцена, причем большая сцена в театре и вот сейчас начнется действие. Мощность динамиков была, как видно, запредельной и Лена боялась даже подумать, что будет, если они сейчас «грянут» во всю мощь, обвалится потолок или приедут за ними по вызову соседей с улицы.
В двенадцать ночи подъехал огромных размеров роскошный автомобиль, из которого вышли четыре человека и направились в студию. Лена стояла посередине зала и встречала гостей. Первой буквально впорхнула в студию через настежь открытую дверь светловолосая девушка в наглухо застегнутом от шеи до пола сине-черном плаще. Кружась, она, буквально не касаясь пола, подлетела к Лене, плащ, до этого, вращавшийся следуя ее движениям как колокол, как только на мгновение девушка остановилась, завернулся по инерции, плотно обвив ее тело по спирали, и тогда она исполнила глубокий реверанс, с почтением застыв в этом положении перед Леной, сразу превратившись в статую, высеченную из черного мрамора, до того весь ее облик был идеален. Потом, подобрав руками спереди подол своего плаща, она, согнувшись пополам, и быстро перебирая ногами, понеслась вокруг зала, рыская настороженными глазами во все стороны, пока не нашла свое место перед пультом, тогда она легко вспорхнула в кресло с ногами и застыла, закутавшись в плащ, как некая нахохлившаяся черная птица. Лена понимала, что это танец, и она даже видела эту сцену, только не могла вспомнить в каком именно спектакле, но мастерство этой девушки просто поражало своей отточенностью, реальностью происходящего. За ней вошел пожилой негр в идеально сидящем смокинге, он нес перед собой огромный контрабас. Поставив его у стены, он подошел к Лене и представился: «Бас», «Лена», – протянув ему руку, удивленно и нерешительно произнесла она. Бас учтиво поклонился, слегка прикоснувшись к протянутой ему руке и, сияя в улыбке, с явным удовольствием направился к своему инструменту. Валентин и Дин вместе не спеша шли через двор к входу, что-то обсуждая, войдя, они сразу подошли к Лене.
– Дин, Лена – радушная хозяйка, вот этой студии, – представил их друг другу Валентин.
– Да, это то, что надо, спасибо Вам большое, – Дин одной головой обозначил короткий поклон и, будучи значительно выше Лены, сверху он изучающее всмотрелся ей в глаза, от чего у Лены холодок пробежал по спине, но она все равно, даже немного улыбнулась ему.
Лена, очень сухо и даже с некоторой отстраненностью, провела Валентина по студии, все показав и объяснив, где что находится, взяв с него честное слово, что они будут аккуратны, передала ему ключ, чтобы когда они закончат он закрыл студию и бросил его в почтовый ящик на двери и ушла, пожелав им успеха. Но Лена не собиралась уходить. С самого начала, как она разрешила занять им студию, для себя она решила, что обязательно должна послушать и посмотреть, что же здесь будет происходить. «Пусть это даже не честно, что я подслушаю, но может это последняя возможность увидеться с Валентином…», – повторяла она себе, оправдываясь. Все это время до субботы, до того момента, когда Валентин должен был прийти сюда, для Лены это было время сплошного тягостного ожидания и самокопания. Она постоянно прокручивала у себя в памяти, почему она вдруг начала ему и, только одному ему, читать эти «дурацкие» стихи, что ее толкало, ей было почему-то стыдно за все это. Но, почему? Ну прочитала, что из этого, а он встал при этом и стоял напротив нее, смотрел на нее, слушал. А что он видел, слышал, Лене становилось горько до слез от того, что она не может ему объяснить ничего, а напротив ведет себя как дура…
В студии одна стена была целиком занята под огромный деревянный стеллаж, на котором стояли макеты декораций, лежали различные материалы, рулоны, бумага, холсты, стояли небольшие скульптуры и прочее. Самые верхние полки до потолка были завешены картинами и задернуты занавесями. Но на самом деле там располагались две маленькие комнаты, в которых отец Лены, иногда работая по ночам, мог приготовить себе что-нибудь или немного поспать. Об этом никто не знал кроме Лены, туда можно было попасть или по приставной лестнице, либо с черного хода позади студии, по маленькой железной лестнице. Лена заранее все приготовила, чтобы оставаясь незамеченной, все видеть и слышать, как с балкона в театре. Она тихо поднялась по железной лестнице и уселась поудобнее на пол, обхватив руками колени, наблюдая за происходящим внизу через широкие щели между картинами, специально ею заблаговременно раздвинутые. Видно и слышно было все прекрасно.
Музыканты ни спеша пробовали и настраивали свои инструменты. Валентин выбрал именно то кресло, в котором он сидел при первой встрече с Леной. Он достал, из мягкого чехла, свою электрогитару и Лена ахнула от неожиданности, это была одна из самых дешевых китайских копий электрогитары, которые ее друзья называли не иначе как – «гладильные доски». На Лену разом, как ушат холодной воды, обрушилась та накопившаяся тревога, которая не осознанно все это время ее съедала изнутри и она поняла – больше всего на свете она боялась разочарования! И даже не от того, что они споют или сыграют какую-нибудь тривиальную популярную попсу, а больше всего она не хотела услышать идеально вылизанную, отрепетированную и до ужаса банальную «высокую» классику, в какой-нибудь своей, только ими осознанной и понятой интерпретации замысла автора. И, вдруг, эта дешевая китайская подделка, но она же видит уникальный инструмент Баса, невероятную и, наверное, вообще, единственную такую на свете барабанную установку Дина…, все эта техника, расставленная… Лена сжалась в комок, чтобы не дать разочарованию окончательно захлестнуть ее и не убежать, оставив хоть в памяти… его таким, каким он ей кажется.
Диана включила пульт, все сразу пришло в движение, в зале, как на сцене, загорелся таинственный темно синий свет, лунной ночи. Чувствовалось колоссальное внутреннее напряжение во всем, колонки готовы были взорваться в своей нереальной мощи, Бас низко наклонив голову, зажмурившись, улыбался, Дин, одетый в какую-то средневековую белоснежную рубашку, сидел как изваяние весь бледный и смотрел в глубь зала, все были готовы и ждали.
– Сцены. Чтения из пяти книг. Для чтеца и четырех голосов, – голос Валентина, не знакомый, насыщенный, тихий и спокойный, раздался сверху и заполнил собой все пространство. Лена слышала о таких технологиях, когда звук находился только в периметре определенного круга, а достаточно выйти из него хоть на метр и уже ничего не не было слышно. Но Лена находилась внутри него и ее наполнил голос Валентина до краев, который был уже записан ранее и они все собрались здесь и сейчас чтобы его озвучить. Лена еще больше напряглась, первый звук, он и ни какой другой, самый главный, самый важный, самый неповторимый. Уникальность вступления не сопоставима ни с чем по напряжению и важности и потому Лена, как музыкант, вся слилась в концентрированную точку ожидания и доверия.
И вот он этот первый звук раздался. Все что угодно ждала и была готова услышать Лена кроме этого, нет, это была не музыка, раздался огромной мощи скрежет и лязг металла, мгновенно переходящий в подхваченный высокий диссонирующий звуками аккорд, буквально разорвавший этот мир в клочья, и он понесся сквозь бесконечность пространства черного космоса с такой невероятной властью, мощью и, самое главное волей – чудовищной волей некой живой сущности. Мысли Лены метались как бешенные, не находя пристанища, все неслось, как буд-то весь мир стронулся со своего привычного места, увлекая ее за собой в ритмическом и звуковом хаосе и одновременно, это было невероятно, но эта была размеренная и спокойная вокальная беседа, пение, даже можно сказать камерное, никто не орал, не колотил, бил или ревел, а все три голоса слились в единый поток, состоящий из множества голосов, и все они были живыми, страдающими, веселящимися или суровыми. Валентин играл очень странно для электрогитары, он будто играл на ситаре, а скорее даже на каком-то неизвестном инструменте, не медиатором, а пальцами, гриф высоко поднят и каждый звук был отдельным живым существом, он, закрыв глаза, прислушивался к грифу гитары, наклоняя голову и буквально, можно сказать, разговаривал со звуком, который был полностью подвластен ему и в тоже время свободен. Дин по манере своей очень напоминал Лене барабанщика Сэма Вудьярда, а Баса она ни как не могла с кем-нибудь сопоставить, настолько он отличался от того, что ей приходилось до этого слышать.
Диана, при первом же звуке не встала, а сползла с кресла, на котором она сидела перед пультом, она явно была в каком-то своем отрешенном от действительности состоянии. Плащ она сняла и, держа его раскрытым за спиной высоко над головой, длинными прыжками пересекла сцену по диагонали. Плащ развивался над ее головой, а она в своем странном одеяние стала не танцевать, а повторять, как кукла, одно за другим заученные хореографические упражнения, какие выполняют ученицы в училище, точно и ритмично. Потом неожиданно в самом центре сцены она застыла на мгновение, сделал оборот, и тихо опустилась на пол, плащ плавно лег вокруг нее ровным кругом. Лене со своего места наблюдения видно было, что это образ некоего черного цветка, в центре которого, покоится белая безвольная фигура человека. Наступила абсолютная тишина.
Раздался голос Валентина:
«Из Единой Книги.
На кусте колючем, сером, красный цвет – что глаз Пророка
Дай ответ Пророк?! Подумай! – у жизни, что в основе, и поведай нам о судьбах века
Почему ты красный, почему не синий? – Мы холодным свой рассудок держим
Глаз Пророка, что колючий куст в основе – как огонь за светом от горящих окон
Ваш рассудок холоден, но беден, жизнь есть смерть, как кровь – Пророк тысячелетник».
Зазвучала труба, далеко, напевно и нереально, также очень далеко был слышен мужской хор, как эхо. При первых звуках трубы, Диана просунула руки снизу в прорезь своей накидки, руки выпрямились вверх, и как будто ее сверху за руки тихонько вытягивал кто-то невидимый наверх и она стала медленно подниматься. Ее накидка спала с ее тела и она обнаженная в лунном свете, слегка покачиваясь, встала во весь рост, а руки безвольно упали и голова была опущена на грудь. Она пыталась поднимать безвольные руки, а они извивались как веревки в бессилии и падали, снова и снова. Сцена была настолько страшной в своей беспощадности, что Лена спрятала лицо в колени, чтобы не видеть, но совладав с собой, заставила себя поднять глаза.
Гитара вступила как рок, как приговор, как будто некий всесильный судья возвестил о своем присутствии, она прозвучала как фанфары, властно и непреклонно. Диана застыла и ее руки сразу почувствовали еле уловимую силу, они начали подниматься волнами все более нарастающих и, в конце концов, превратились в крылья. Диана стремительно понеслась по сцене, кружась и летя в непреодолимой, захватывающей ее энергией, обретения силы и свободы. Лунный свет стал меркнуть и все наполнялось ясным свежим голубоватым и розовым свечением приближающегося утра. Восход был ярко красным, он заполнил все пространство сцены, а на противоположной стене от Лены появился образ высокого окна, или зеркала и в нем светилось что-то красное, переливающееся и развивающееся на ветру. Ну да Лена видела, как Дин с коробкой в руке подошел к этой стене, вынул что-то из нее и развесил там. Диана в нерешительности остановилась и, кружась, стала осторожно приближаться, подошла, взяла в руки и стала внимательно рассматривать – это было ярко-красный наряд Дианы-охотницы. Диана постояла некоторое время, рассматривая его, потом надела, оглядела себя со всех сторон, как будто перед зеркалом, вышла на середину сцены, как перед публикой и начала танец Дианы.
Действие началось.
С этого момента чтец, читая из книг, и музыканты уже не останавливались. Но вот что странным показалось Лене, чтец как будто и не был главным, его голос ушел далеко на второй план и, порой даже было не разобрать слов за музыкой.
«Из Белой книги.
Две черные птицы в ночи друг за другом летели в молчании гордом
Светало. Одна закричала: над небом, над светлым!
Летели в ночи две черные птицы
Они петь не могли, они были не певчи, они только в ночи – они черные птицы
На светлое небо кричала, на светлое небо
Просила наверно от неба …, а что же просила?
Одного – темноты!
Из красной книги
В чем смысл?
А в чем и быть ему как не в фантазии да суете
Молча сидели, и думали, сами себе разумели безбожники. Как!? Согрешив, жить остаться, и можно ли
Разве безумно пророку не впасть и в отчаяние, а человеку дать ту лишь свободу, что нужно народу
Всякий решает свое, только, что можно иметь, а понять не грешно, что! дозволено им же
Так что ж ему так претит – честолюбцу. Или его не учили законову слову!? Что не убий – и не оскверни свой язык наветом и ложью
А-а про покорность и добродетель!? Вот видишь, сколько законов положено слышать Счастья лишь нету в законах боговых
Стань только тем, кем тебя нарекают – философом мысли, в них тоже есть правда «безумного» Будды
Сильный и гордый, свободный и одинокий – вот в чем загадка
Свобода дана для молений о рабстве, а с рабством в войне ты при людях и вечно на месте
Мир искусён и рожденье сказаний не радует боле
Пустые слова на ветру, как шелест травы по воде и я их берегу
Что ж ты о рабстве беседу ведешь, коли песни поешь о кручине – судьбе
Мне ль не видать тех беспомощно – сильных и горького слова молчащего взгляда
Мне ль не услышать, птиц на ветвях, взирающих тихо
Вот! И лес замолчал – они понимают, а более знают былины
О рождении в сути однажды спросил я ответ
Как насмешка беспомощно мягких падение рук на колени сидящей
Вот и весь разговор о любви и рождений
К Пророку – неизменимый под бременем к сроку готов, как сидящий на камне
Хитрость в подмогу призвать и дать богу прощенье, а искупленье – усопшим оставить и замолчать
Ты спросил о цене – Мы! видели то, что мы никогда не поймем?
В руке пустота, рука в кулаке, все боимся терять и себя для души бережем
Надо б отдать, да на что вам менять
Так вот, глядя на ветер, без умолку спорим, что зря и незнаем, себя проклиная, на холоде грея себя
Где повезет? В чем? – не важно
Главное, чтоб было реально, когда вдруг поймем, так и скажем – вот гениально!
И, может быть, верно поймем – для себя
Он хвалил не цветы, ствол в пустыне земли не расцвел, но на воду сквозь ветви глядел: «было слово в начале, а потом уже дело» – прочел и голос упрятал в ладони
Так, среди множества скорби бесчестья, умом постигая, душа обозлилась на вечность и на тебя и на горе, любя человечность и не узнавая себя
Так говорят об искусстве! – о чем говорить!?
Искусство обсуждать того, чего уж нет – бродяг?
И впроголодь и не без драк кочуют по душе, но с факелом в руке, хоть ночи белы
Вот и считай – откуда мы
Всем правит красота – ее порой никто не видит, но слышат, слышат, что поет, на арфе продает, танцует, бегает, орет, на людях вся блестит, беседу милую со скукою ведет, цинична, светлая до боли, с упреком нежна, колка, едка… и все без умолку – продажа с торга, а торги здесь не редко
ЕЁ и нет – и словом древним в безчестии сим нарекают верность
И, что ж из этого, коль не пришлось вам пережить безвременно и радуйтесь веселью вашему
Беседы об искусстве не сделают вас более искусным! – ведь так!?
А что хотите вы взамен? Что? Жертву вы готовите искусству?
Ведь в этом ваша жизнь – подчинена без малого – служенью!
Безликих суждено похоронить. Пусть и хоронят. А вас к безликим, что без лица – одно перо в руке, в портрете рама … одна лишь ерунда!
Похоже всех свалила наземь такая же могущая рука как смерть!
Толкаясь, заплетались ноги сами за себя и от себя же убегали, давая шуму водопада войти в противоречие с водой лежащей
С собою на плечах, держа лежащего с раскрытыми глазами
Бегущую собаку увидав, в безмолвии цветов. Они растут, но мертвые, как память, а в память верим и в вере мы к себе идем и сами же себя хороним, чтобы осталась память по собаке
Так для себя пусты умы, как пусто озеро с холма
Из Синей книги
Шум воды с водопада под ней вдоль стены – бесконечно томление времени
Он брода искал, он бежал от воды и к ней он пришел – ты оставь его с бременем
Я вас упрошу дать мне руку и помощи – Вы дали мне руку, а сами ушли, но осталась вода и товарищи брошены
Три слуги – твои силы по прихоти собрались у огня – тянут песню о вечности
Холод! Утро с ржавой водой, вот состав прогремел, обнажив мертво-бледные истины
Взяв часы он ушел, все оставив … потом: «он позвал …, я пошла …, я только за ним …, я осталась одна!»
Три столпа, три души – смысл общества
Надо ли быть, если нечего больше начать и что говорить, если хочется больше молчать, и что я хочу, если я не хочу, то, чего я хочу
Руку дать я тебе не могу, впечатленье оставь, дав возможность себе рассказать
И надо б сказать, но остался лишь голос воды проплывающих рыб
Самый хороший тот – что с тоской на глазах, чтоб закрыть мир от слез, а слез нет, их и не было
Что ж уж так – остается терпеть, теряясь в догадках. Вот и представь себе мир, который перестал существовать
Рваным голосом – набежали холопы, кричали, руками махали, да что вам нужно – бездарность свою прославляли
В молитвах наврали, писания бросив, на растерзанье зевающим свитам
Я взял богослов, там все вынул и внутрь заглянул, там же пусто и нет ничего – ты не видишь, ослеп ты!?
Он на взрыд и взахлеб нам сказал, что с ума он сошел там по нас
И плача руки воздел и к воде обратясь и крестясь взял свой век и к ней: «воскреси» он кричал
Волосы седы, душа обнищала, спаси, дай мне душу, а все что можешь возьми – отдай мне меня
Из Черной книги.
Цветочные поляны, грядки, клумбы, посаженные и посажёные отцы
И молчаливые бездельники – цветов молчальники – эй, расступись, и дайте же ему пройти
Седой туман с утра окрашивает зелень молочной кислотой. Вчера под вечер у костра сидели, тянули песню, не слушая себя, так, наедине с собой, а может для себя
« … канаты кожу рвали с рук …» – услышали там где то за рекой « … и якорная цепь визжала чертом …» и небо расступилось подомной, я приподнялся, потом опять упал
Как заору: эй расступись всесильные Пророки, ему идти, а человек, что заново родился и обличающие сроки мешают нам на нас взглянуть
Но, рот молчал, зубами сжав слюну
Туман, окрашивая зелень, клубится над травой, болота погребая под собой
Открыл глаза, ее уж нет – она ушла. Один под пологом. Светает. А здесь пока что темнота и сырость пробирает. Похоже подо мной болотная вода. Откуда!?
Не узнаю я что-то утра. И зелень ржавая и темная роса и все течет и чавкающая слизь свисает с потолка и подо мною не вода, а что-то темное, как будто чьей-то кровию рука обагрена
Змея на камне, свернувшаяся, глядя на меня молчит, а неподвижным взглядом говорит, что раз пришел, то значит ВЫ! пришли, а уж пришли, то проходи и не молчи так скупо, а расскажи себя, хотя не нужно, хватит обращений. Его уж не вернуть, а те, кто рядом, видимо ушли и не оставили себя – из обличений
В награду нас они подставили любя и плащ, с лицом закрытым плачущего я, подбросили обглоданный волкам. А те, оскалившись как лошади, в табуны сбившись, не нарушая тишины с обрыва в воду бросились. Они! – для той змеи на камне высшим были
А мы запели рыцарей души – псов-рыцарей в общине
Остов разверзнутый – безмозглой мудрости мечты
И голос с неба с потоком брани покарать готовый все живое на этой бренной.
А с острова ковчега боги ликовали, смотря на суету – и всех ровняли
Лишь только выделив глубоких, с рваною душой, да взглядом сатаны, что был у каменной змеи
Из красной книги.
Всесильные и славные почили, про нас не вспомнили – так вот! – об этом нас учили Боги: не брать и не судить, а выживать
Стреляющий, иль страждущий, мы от себя бежали, мыслили и растворились. Да! И, в сущности, мы обозлились
С надтреснутой душой мы плакали в плечо и некому нам рассказать и не о чем нам попросить, все кануло в бездушии, что как вода от берега вдруг отошла и дно безбрежное открыло
Все твари из глубин вдруг поползли наверх, но здесь и так темно
Но, плотно прилегая, в траве они ползли
России положить на лоб пятак из меди, похолодней!
Разгоряченный лоб остыл и хладность будущего ливнем бьет в незащищённые тела, а защищаемся руками
Но руки в кулаки ладонями на горле спрятаны не дураками, а страх ползет – червяк. Нам неумелым грех роптать, тем более судить и осуждать безгрешных, но в хаосе гармоний, потерянных, но интересных, невежды и пророки не смеют рассуждать, а остальным – не до чего
Пока они роптали мы развеличили и не подали по вашей темноте
Крича, беснуясь и бушуя, несли в руках удилища и тварей, что наловили у себя на дне безводном
Ах! Радость стонет от бесчестий. За шиворот волочащую радость смехом оскорбили лошадиным и умилясь остановились
Зато леса в воде. И так коряги, впроголодь, еще и слизь. Для всех потеха, живостью овеянные чувства разладились, а оскорбясь, вдруг разошлись: кто в лес, к воде поближе, а кто на дно в безводном море
Вой Сумасшедших, как от лавины вы шарахнулись и снова, как говорили, набираясь храбрости тряслись в слезах от трусости и слабости, превозмогая вялость и дрожь зубов в руках
Из Синей книги.
Дай руку черт – тебя не поколебала вся суета мирская, как на ладони
Для смеха разве здесь тебя мы ждали, а эко вышло!
Знать сатана подумал о себе и ты уже не нужен стал для всех. А улыбаешься ты черт за нас, кривя душой с кровавыми руками
В проем дверей внесли два гроба. Один в сенцах оставили, второй – втащили в кухню и заперли избу. Без права входа. Изба полна – людей, не духов!? А может мертвецов?
И девочки тряслись и вздох грудей заполонил все выходы из дому. Видать, не встать ему среди детей
Из Черной книги
Вода вдруг отошла, я лег на землю отдышаться. О памяти? И не было и речи – ведь память искалечит, а мне не хочется, мне надо с вами быть, мне надо видеть, мне надо жить, и смутно – представлять и чувствовать и пребывать в таком как это утро. И вопль заглушил отчаянье души, и каменный обрыв как застонал, нет, это смехом камни отозвались – они ж к нему все обращались и только он их знал – и все его боялись, любя.
И эхо тоже насмехалось и, глядя на коней, волков и даже на людей она слезами? – нет! – она молчанием тем жутким отозвалась той каменной змеи с надтреснутой короной и так расхохоталась, что поперхнулась и, прихватив с собой, вдруг уползла не оборачиваясь, но! глядя на тебя
«… они зацепят меня за одежду …» – так крики тонущих за совесть зацеплялись, а песни пели все о том одном певце и глупо ухмылялись, читая правду на своем лице
Но правды нет, а есть прозренье и сожаление с призреньем, к своей судьбе – среде, кочующей во мне
Флаг красный надорвом с серпом, а ров землей присыпан, а чернозем, как хлеб и масло в нем
Здесь соловей, а там журавль, лишь крик его с того болота, что средь полей за лесом Пролетая – твоя земля журавль – смотри твоя. Ты удивлен? – что? – новая могила?, да черт с ней пусть хоть старая обновлена – какая суть. Земли так много! На ней болото б только было. Червей для соловья, и пусть перекопаем, потом переживем
Найдем ухмылку – лязганье зубов истории своей, да множество костей, что обросли налетом невежества плывущих кораблей
Ползу с земли за той водой, что отступила. Не так все – не идет вода ко мне. Я все за ней и не догнать – устал видать. Устал!
Стоять! – окликнули. Бежать?
Вот меч в руке, откуда ни возьмись. Кто меч вложил!? К костям прирос, не оторвешь – как бить им надо? – Змею бей. Их камня же она. Да черт с ней – меч лишь обломаешь и руки, так немного, замараешь … так бей же, бей!
А чавкающая слизь, вдруг с потолка как понеслась, дрожа и заливаясь и вкруг меня. Как змеи извивались орущие и стонущие руки – а я кромсал их тем мечом и обломал его, но он опять и вновь возник и возникает бесконечно
Я верю, и полагаюсь, и боюсь, ведь больше нет же ничего!
Могилы даже шевелились – а за кого? – да кто поймет ни соловья, ни журавля не дозовешься, вокруг болота. Все разбежались от меня.
Союз с мечом в костях – ни рук, ни ног и голова уж где-то, какой-то воющий мелькнул, а я за ним – Ха! – его уже и след простыл
Ну, лег опять да поостыл
В гробу? Похоже, тихо слишком. Опять на утро не похоже и надо бы вставать, а я боюсь дышать
Глаза открыл – все тоже, но рядом кто-то, руки протянул – ну, слава богу, прошептал. Весь липкий и в лохмотьях выбираюсь, пусть темнота, но лишь бы воздух был
Из Синей книги.
Певец почил и, песня прозвучав, не затихая смолкла. Ему не встать, а наши без умолку, не слушая обвисшими грудями потрясая среди колец и славно, в захлеб вещают ему конец – все! И, затихая, уходили наконец.
Как мертвецу ты объяснишь, что жил не правильно мертвец – не жил, а умер и конец всему ему.
Дай руку черт, пожми ее и передай привет. Кому? – Сатане и Богу
В сенцах-то гроб открыт, и для просмотра на людей и очередь теней вкруг гроба все ходила
Не по любви, а все по памяти – по звуку и кашляя, как будто слишком много водки или воды и захлебнулась
Да разве все на этом: «… мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду …»
Ты в кухню в кухню проходи в дому не топлено с весны, а ты, не раздеваясь, здесь посиди да посмотри в его черты в его нарывы.
Из Черной книги
Доски – по дюйму с надрывом трещали, а тяжко нести се тело худое. И плакали в здоровьи мужички – как дальше быть. Вот горе! И пели доски и тяжко так несли.
Здравствуй величье да создание, тебе привет от целого мироздания и еще всякого – человек тебе кланяться, тебе повелел. Рад бы главу положить – отсекут, а что без нее, да по воле гулять не придется! Ай не придется, все вперемежку к себе обратятся
Завели пересуду, дай напиться и буду я слушать, как поют за рекой – надрываются, да гуляют. Парень девицу любит да целует, а девица не надивится, да приплясывает, что чудной такой – праздник, а он надрывается. Пожалеть бы тебя ей, да ей некогда – красна девица. Развели костер и птиц пустили в круг. Сидят смотрят как птицы пугаются, да зерна поклевывают, про огонь забывая.
Что надрываешься?! – аль не любит тебя? Ай не любит!
Из Красной книги.
Пророку все не впрок, его не удивит твоих печальных рук движенья, твоих опущенных чуть плеч в безволии и речь – твоих безликих слов о прошлом
Грядущие века, сжирая душу мелочного «Я», откуда-то тебя достали для меня – гляди! и чтобы не упасть дай руку лучше, а покарать всегда успеет меч Пророка
Ух! Вой какой из леса да болот – знать чернь живет, и все себе вменяя, себя передает чрез стон и вой
Вон из ворот гроба – все боком выходило, хоть окна заколочены и двери на запор, а ветки под ноги кидали, когда несли тебя мы из ворот
И хор – хор детских голосов – холодный хор. И чист и светел, нет там ни драм и нету там трагедий, все за живот берет как будто ты один на свете. Себя хоронишь и смотришь как в укор на тех, которых с нами нет. А те, которых здесь, не надо
Себя в ответе и тебя прошу мне спеть. Друзей иметь не грех, но лучше не иметь. Подруг же так хотеть, чтобы забыть и смерть.
Писал иконы лик. Без лиц, без суеты, на возвышении холма смотрю, смотри же вниз – философ!
Может быть, да про людей нам думать, стало быть, и думаем
Волной людей, всем общим пожеланьем, так восхвалят тебя, тем самым возвеличив – «творцов своих» – приемника глупцов лишь для того всего, чтоб нас-то не забыли, что рядом были, хотя и не были
« … в начале было слово …» – не притворясь взгляни на древо – за ним вода блестит, лучи от ряби ветра на воде на нас взирая не думают о нас – так им до нас, подумай сам, что раньше? – было ль слово, или дела? Дела усопших – творения героев, гениев, пророков – там не было людей. Дела их здесь – что ж им вменялось в жизнь и честь – идея хоть глупа, да …, а стоит ли так бередить те трещины, что нам не до ума, а для кармана. Поди уж всякому в обязанность в пеняли – чтоб за себя! Не дай бог дашь или отдашь – продать! И ты продашь. Кого? Нет не тебя, а в лучшем случае себя. Всю душу заложив за полгроша и счастлива душа, что за судьбу ей не придётся думать. Все можно, с плеч долой – на плечи друга-дурака – пущай дружище думает и знает честь
За стоном визг. Свиней видать погнали, пока их крысы не сожрали – на растерзанье псам и поскорей забыть. Как будто, так и было. Мило!
Немного жестко, да что ж из этого, что неудобно, зато легко и так вот проще жить.
Все жить и жить – навязло уж, довольно бередить беззубым ртом хватая воздух – ты прокричишь о жизни пару слов и сдохнешь, а остановишь этот крик и воспаленный глаз слез не уронит. Замолкнут все уста и уши все закроют.
Из Единой книги
«Душа усопших» во все века живая та душа – в том крике о себе, даря нам жизнь свою для жизни тех людей, что так не проживут
Для тех, которые возьмут, со скрещёнными на груди руками, и зубы сжав, до хруста всех костей, передадут, вложив туда свои мечтанья – всех людей!»
Музыка, танец и чтец одновременно закончили свое повествование. Диана стояла в середине сцены в солнечном свете, высоко подняв голову, гордая и величественная. Дин подошел к ней и тихо позвал: «Надюша…», Диана посмотрела на него и спросила, просто, обыденно: «Дин…, ты…, наконец-то, как хорошо, что пришел», – взгляд ее сиял от счастья. Дин подошел к ней, и они обнялись, вдруг Надя стала оседать в его руках и со смехом сказала: «Меня ноги не держат, я так устала», – Дин не отпуская ее, сел на пол на колени, он не мог плакать, не умел, но держа ее на руках, прижимая ее к себе, все шептал: «Ну, вот и все Надюша, все позади и уже больше никогда не повторится, теперь все будет хорошо. Вот увидишь». Бас и Валентин не торопясь собирали инструменты, потом пришли рабочие, погрузили все оборудование в фургон и все уехали. Свет погашен, тишина.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































