Текст книги "Тургенев без глянца"
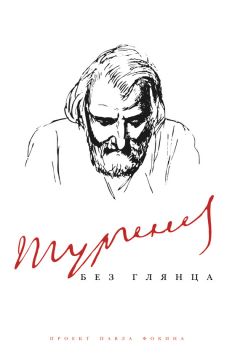
Автор книги: Павел Фокин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Характер
Павел Васильевич Анненков (1813–1887), критик, историк литературы, мемуарист, многолетний друг И. С. Тургенева:
Образец гуманности, Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве не судить о нем по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей.
Алексей Дмитриевич Галахов (1807–1892), историк литературы, профессор Московского университета, мемуарист:
Независимо от крупного таланта, он сам по себе, своею личностью, с первого раза привлекал к себе искренно и крепко. Тайна влечения объясняется его мягкостью и добротою, а потом капитальным образованием. В нем не было покушений на нетерпимость. Случалось нередко, что в литературных спорах он становился скорее на сторону защиты, чем на сторону нападения. Даже в карточной игре, когда плохой партнер делал промахи, у него всегда находились в запасе «обстоятельства, смягчающие вину».
Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1899), писатель, мемуарист, многолетний друг И. С. Тургенева:
Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора; его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости.
Елена Ивановна Апрелева (урожд. Бларамберг, псевд. Е. Ардов; 1846–1923), писательница, переводчица, мемуаристка:
Он был и остался большим барином в силу своего происхождения и той сферы материального обеспечения, в которой вырос, в силу привычки благовоспитанности, от которой не мог, да и не желал отрешаться; но барство его проявлялось не в оскорбительном высокомерии в обхождении с теми, кто стоял ниже по происхождению или состоянию, а в брезгливом отношении ко всему мелкому, пошлому, наглому, лживому и продажному.
Генри Джеймс:
Он, отличаясь такой простотой, естественностью, скромностью, таким отсутствием каких-либо личных претензий, так лишен был сознания своей силы, что иногда на мгновение думалось, действительно ли пред тобой гениальный человек? Все хорошее, все плодотворное было близко ему: казалось, он интересовался всем на свете и в то же время в нем ни на мгновение не проявлялось той самоуверенности, какая обыкновенно присуща не только людям, пользующимся действительной славой, но и всякого рода мелким «известностям». В нем же не замечалось ни капли тщеславия, стремления «поддержать свою репутацию», «играть роль». Его юмор нередко обращался на него самого, и он с веселым смехом рассказывал анекдоты о самом себе. <…> Я живо помню улыбку и тон голоса, с которыми Тургенев однажды повторил выразительный эпитет, приложенный к нему Густавом Флобером, эпитет, долженствовавший характеризовать расплывчивую мягкость и нерешительность, преобладавшие в натуре Тургенева, как и в характерах многих из его героев. Он искренне наслаждался остротой Флобера и признавал в ней значительную долю правды. Вообще, он был необычайно естествен; скажу больше, – я никогда еще не встречал человека, обладавшего в такой степени этим качеством. Как и у всех незаурядных натур, в нем совмещались многие противоположные черты и в нем особенно поражало сочетание простоты с самой утонченной культурой.
Дмитрий Васильевич Григорович:
Недостаток воли в характере Тургенева и его мягкость вошли почти в поговорку между литераторами; несравненно меньше упоминалось о доброте его сердца; она между тем отмечает, можно сказать, каждый шаг его жизни. Я не помню, чтобы встречал когда-нибудь человека с большею терпимостью, более склонного скоро забывать направленный против него неделикатный поступок. <…>
В натуре Тургенева не было ничего агрессивного, не было признака того, что называется задором; его, напротив, можно было упрекнуть в излишней уступчивости, даже против тех, кто не стоил его мизинца, не мог равняться с ним ни в каком отношении.
Генри Джеймс:
Тургенев был способен краснеть, как 16-летний юноша. Он не любил условных форм и церемоний, что же касается его «манер», то, вследствие присущей ему простоты и естественности, таковых у него не было. Он всегда был самим собой. Все, что бы он ни делал, дышало простотой; если он ошибался и ему указывали на ошибку, Тургенев принимал такое указание без тени раздражения или неудовольствия. Дружелюбный, искренний, благосклонный, Тургенев прежде всего производил впечатление человека неисчерпаемой доброты, и это впечатление выносили все знавшие его.
Ги де Мопассан:
Доводя свою скромность почти до смирения, он не желал, чтобы о нем писали в газетах, и не раз бывало, что статьи, в которых его восхваляли, воспринимались им как оскорбление, ибо он не допускал, что можно писать о чем-либо, кроме литературных произведений. Даже критика литературного творчества казалась ему простой болтовней, и когда какой-то журналист в статье по поводу одной из его книг сообщил некоторые подробности о нем самом и его частной жизни, он пришел в настоящее негодование, испытывая своего рода стыд писателя, у которого скромность кажется целомудрием.
Алексей Дмитриевич Галахов:
По доброте своей Тургенев оказывал помощь своим товарищам по ремеслу, то есть ссужал их деньгами во дни безденежья. Однажды я застал его за письменным столом с реестром в руках. На вопрос мой: «Чем вы занимаетесь?» – он отвечал: «Да вот свожу итог деньгам, взятым у меня взаймы такими-то и такими лицами». – «Сумма немалая», – заметил я. «Конечно, так; но знаете ли что? Я нисколько не раскаиваюсь в ссудах: я уверен, что каждому лицу, означенному в реестре, ссуда принесет пользу, поправит его временную нужду. За одного только должника не ручаюсь; боюсь, что помощь не пойдет ему впрок…» И он указал мне на означенном реестре: А. А. Г<ригорье>ву (столько-то).
Марк Матвеевич Антокольский. Из письма Е. Мамонтовой:
Раз я пришел к нему и застал его грустным, что редко случалось. «Представьте себе, – сказал он мне, – сегодня в первый раз в жизни я должен был отказать человеку в помощи». Замолчал, пожал плечами и прибавил: «Ничего не поделаешь», – и опустил голову… Видно, что тяжело ему было отказать человеку, который протянул ему руку. И. С., как видите, никому никогда не отказывал ни в чем.
Дмитрий Васильевич Григорович:
Бескорыстие Тургенева можно причислить к отличительным чертам его характера. <…> Можно привести целый ряд случаев, доказывающих, с какою беспечностью Тургенев относился к денежному вопросу.
Тронутый положением бедного семейного родственника, Ив. Серг. предложил ему заняться управлением имения; желая окончательно успокоить его и упрочить его судьбу, Ив. Серг. поспешил выдать ему, на случай своей смерти, вексель в пятьдесят тысяч. Два года спустя благодарный родственник представил вексель ко взысканию, поставив своего благодетеля в трагическое положение. Ив. Серг. ограничился только тем, что попросил его оставить Спасское и передал его управление другому лицу. После кончины матери Тургенева жена его брата, пользуясь отсутствием Ив. Серг., явилась к нему в дом, забрала оставшееся после покойницы серебро и драгоценности и увезла их. Вернувшись домой, Ив. Серг. не нашел ни одной ложки и должен был снова всем завестись. Из чувства деликатности к брату, который, – думал он, – мог не знать о поступке жены, Тургенев шагу не сделал, чтобы вернуть так незаконно отнятое у него имущество. А история его с г. Маляревским, мужем приемной дочери брата Тургенева, оставившего ей после своей смерти восемьсот тысяч, из которых сто тысяч должен был получить Ив. Серг.? Приезжает Тургенев в Москву, чтобы получить свою долю наследства, и едет к г. Маляревскому; тот объявляет ему, что на его долю приходится всего двадцать тысяч. «Как так?» – спрашивает удивленный Тургенев. «А так, – отвечает г. Маляревский, – я нахожу, что для вас и этого слишком еще много!..» – «Ну, – ответил Ив. Серг., – на этот счет позвольте мне думать иначе!» На этом дело и кончилось. А сколько, в явный убыток себе, роздано было им дворовым и крестьянам земли и разных сельских угодьев?
Если б возможно было составить список деньгам, которые Тургенев роздал при своей жизни всем тем, кто к нему обращался, сложилась бы сумма больше той, какую он сам прожил.
Афанасий Афанасьевич Фет:
Тип людей, совершенно равнодушных к материальным своим средствам, готовых горстями разбрасывать свое добро и в то же время скупых на копейки и неразборчивых в источниках нового прилива денег, – далеко не новый… Тургенев самым решительным образом… принадлежал к этому типу.
Дмитрий Васильевич Григорович:
Тургенев представлял исключение между своими собратами. Редко его произведение печаталось прежде, чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей, не посоветуется; замечания возбуждали иногда спор, но принимались всегда без признака самолюбивого укола; рукопись потом сверху донизу перечитывалась, исправлялась и часто переписывалась заново.
Павел Васильевич Анненков:
Он радовался всякому разбору своих произведений, выслушивал его с покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправления. Одного замечания о неуместности сравнения Хоря и Калиныча с Гете и Шиллером, допущенного им, достаточно было, чтобы сравнение осталось только на страницах «Современника» 1847, где впервые явилось, и не перешло в следующие издания. Вообще говоря, нельзя было никогда угадать, куда увлечет его голова, работающая в различных направлениях, но можно было указать, зная его прямое сердце, место, где он остановится. Было что-то женственное в этом сочетании решимости и осторожности, смелости и расчета, одновременной готовности на почин и на раскаяние, сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию.
Уильям Рольстон (1829–1889), английский славист, переводчик:
За все время нашего знакомства я никогда не слышал от него ни слова, в котором сквозила бы хотя тень зависти или высокомерия. Никто не был способен с такой готовностью, как он, признать и поощрить нарождающийся талант, оценить достоинства своих преуспевающих соперников, как живых, так и умерших. Его кротость по отношению к тем, кто иногда осмеливался порицать его, была поистине удивительна, и малейший знак восхищения всегда был для него неожиданностью. Как и покойный Дарвин, он постоянно бывал слегка удивлен всяким доказательством уважения к нему.
Дмитрий Васильевич Григорович:
Строгий к самому себе, он не только был снисходителен к другим, но часто открывал в их произведениях несуществующие достоинства. Стоило ему прочесть повесть или рассказ и покажись ему сгоряча, что в том или другом есть проблеск дарования, он носился с ними всюду, торжественно провозглашал нарождение нового таланта, спорил, раздражался против недостатка чуткости к художественным приемам и в конце концов, когда убеждался или ему ясно доказывали несостоятельность предмета его увлечения, он охотно сознавался в своем заблуждении и сам над собою добродушно подтрунивал.
Генри Джеймс:
Тургенев нередко открывал таланты, из которых потом ничего не выходило. Вероятно, в этом была некоторая доля правды, и если я упоминаю о способности Тургенева увлекаться в этом отношении, то лишь потому, что это была благородная слабость, вытекавшая из его доброты, а не из отсутствия у него художественного вкуса.
Павел Михайлович Ковалевский:
Зато было у него чутье там, где другие ничего не чуяли. Помню его замечательные слова при появлении Льва Толстого: «Вот, наконец, преемник Гоголя и, как и следовало ожидать, нисколько на него не похожий».
Дмитрий Васильевич Григорович:
Где бы он ни жил – в Париже или Петербурге, – нельзя было к нему зайти без того, чтобы не встретить множество молодежи обоего пола; раз в Петербурге, направляясь в номер гостиницы, где он жил, мне пришлось проходить по коридору мимо целого ряда таких посетителей и посетительниц, сидевших на подоконниках в ожидании очереди. Его терпимость и снисхождение в этих случаях могли основываться на мягкости характера, готового скорее стеснить себя, чем решиться на отказ, но, во всяком случае, не на желании популярничать, как распускали слух его недоброжелатели. <…>
В терпимости и снисхождении Тургенев доходил иногда до самоунижения, возбуждавшего справедливую досаду его искренних друзей.
Одно время он был увлечен Писемским. Писемский, при всем его уме и таланте, олицетворял тип провинциального жуира и не мог похвастать утонченностью воспитания; подчас он был нестерпимо груб и циничен, не стеснялся плевать – не по-американски, в сторону, а по русскому обычаю – куда ни попало; не стеснялся разваливаться на чужом диване с грязными сапогами, – словом, ни с какой стороны не должен был нравиться Тургеневу, человеку воспитанному и деликатному. Но его прельстила оригинальность Писемского. Когда Ив. Серг. увлекался, на него находило точно затмение, и он терял чувство меры.
Раз был он с Писемским где-то на вечере. К концу ужина Писемский, имевший слабость к горячительным напиткам, впал в состояние, близкое к невменяемости. Тургенев взялся проводить его до дому. Когда они вышли на улицу, дождь лил ливмя. Дорогой Писемский, которого Тургенев поддерживал под руку, потерял калошу; Тургенев вытащил ее из грязи и не выпускал ее из рук, пока не довел Писемского до его квартиры и не сдал его прислуге вместе с калошей.
Елена Ивановна Апрелева:
Тургенев не умел отказывать, и если не мог удовлетворить просьбу тотчас же, то давал обещание по возможности ее исполнить. Обещаний своих он не забывал, что мог – делал, и огорчался искренне, если попытки не увенчались успехом.
Олимпиада Васильевна Аргамакова, соседка В. П. Тургеневой по имению:
Кстати, отмечу еще одну особенность характера Ивана Сергеевича. Если случалось, что его глубоко огорчали, то у него на глазах навертывались слезы, и он тотчас уходил в свой кабинет, где оставался до тех пор, пока совершенно не успокоится.
Дмитрий Васильевич Григорович:
Он сам добродушно величал себя «овечьей натурой». Он, кроме того, не был способен к практической деятельности, доказательством чего служат его собственные запутанные дела. <…>
Но слабость характера отличала Тургенева только в делах житейских. Известно, как много нужно силы воли, энергии, твердости, чтобы долгое время неотступно преследовать одну и ту же задачу, бороться против нервного и физического утомления, заставить себя довести до конца продолжительный умственный или художественный труд. С этой стороны, Тургенев – автор многих длинных литературных произведений – подтверждает только факт двойственности в артистических натурах с выдающимся творческим талантом.
Творчество
В. Колонтаева, приживалка в доме В. П. Тургеневой:
Помню также я и то время, когда Иван Сергеевич писал свою вторую поэму «Андрей». Тогда он жил в том же помещении, которое занималось живущими у Варвары Петровны. Он помещался во втором этаже наверху, мы же занимали rez-de-haussee того же флигеля. Летом при томительной духоте в комнате, понятно, окна отворялись как в нашем помещении, так и в его. Вот почему, когда мы расходились уже на покой, каждый в свою половину, мы долго слышали шаги Ивана Сергеевича над нашими головами, потому что он долго не спал и, шагая по своей комнате, как будто что-то читал вслух. Однажды, благодаря открытым окнам в наших комнатах и его помещении, мне, долго не спавшей, удалось сначала убедиться, что читаемое вслух были стихи, а потом, при более напряженном внимании, мне даже удалось записать то, что читалось, так как прочитанное повторялось несколько раз, потом несколько изменялось, вновь прочитывалось, и, уже после окончательных исправлений и поправок, чтец переходил к следующим строфам, которые в свою очередь подвергались той же тщательной отделке и исправлениям. При совершенно тихой летней ночи, когда все спокойно и каждый звук делается осязательно слышен и ясен, мне удалось записать несколько строф из прочитанного Иваном Сергеевичем, и на другой день, встретив его по утру и желая его несколько поинтриговать, я прочла ему мной записанные стихи, выдавая их за свои собственные и испрашивая его о них мнения. <…>
Он был очень удивлен, слушая мое чтение, и немедленно признался, что эти стихи его, но удивился, как они сделались мне известны. Когда я объяснила ему, <…> он очень смеялся и признался, что пишет поэму в стихах под названием «Андрей», что он читает самому себе вслух написанное, чтобы, так сказать, испытать благозвучность стихов и исправить то, что режет ухо и нарушает гармонию стиха…
Иван Сергеевич Тургенев. В записи Х. Х. Бойесена:
Я никогда не могу заставить себя писать, если не имеется для этого внутреннего импульса. Если работа не доставляет мне полного удовольствия, я тотчас же прекращаю ее. Если меня утомляет сочинение повести – значит, и самая повесть должна утомить читателей.
Наталья Александровна Островская:
– Поэты недаром толкуют о вдохновении, – говорил Иван Сергеевич. – Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не внушает им готовых песен, но особенное настроение, похожее на вдохновение, бывает. То стихотворение Фета, над которым так смеялись, в котором он говорит, что – не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет… – прекрасно передает это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать – еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что писаться будет. Вот именно это-то настроение поэты называют «приближением бога». Я, например: какой я творец?..
Мы хотели было протестовать, но он улыбнулся нам и продолжал:
– Я только подобие творца, но я испытывал такие минуты. И эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге, – тут-то и начинается мученье. Вот я вам расскажу, как явилась у меня мысль маленького рассказа, который вы, может быть, помните, – «Ася». Вот как это было. Проездом остановился я в маленьком городке на Рейне. Вечером, от нечего делать, вздумал я поехать кататься на лодке. Вечер был прелестный. Ни об чем не думая, лежал я в лодке, дышал теплым воздухом, смотрел кругом. Проезжаем мы мимо небольшой развалины; рядом с развалиной домик в два этажа.
Из окна нижнего этажа смотрит старуха, а из окна верхнего – высунулась голова хорошенькой девушки. Тут вдруг нашло на меня какое-то особенное настроение. Я стал думать и придумывать, кто эта девушка, какая она, и зачем она в этом домике, какие ее отношения к старухе, – и так тут же в лодке и сложилась у меня вся фабула рассказа. А то вот еще: в «Затишье», в описании сцены свидания, мне никак не давалось описание утра. Только сижу я раз в своей комнате за книгой, – вдруг точно что-то толкнуло меня – прошептало мне: «Невинная торжественность утра». Я вскочил даже: «Вот они! вот они, настоящие слова!»
– Говорят, Занд, – заметил мой муж, – писала так легко, что излагала свои идеи прямо набело?
– Да, но она долго вынашивала их в себе; у каждого писателя своя манера работать. Со мной бывает разно. Чаще всего меня преследует образ, а схватить его я долго не могу. И странно: часто выясняется мне прежде какое-нибудь второстепенное лицо, а затем уже главное. Так, например, в «Рудине» мне прежде всего ясно представился Пигасов, представилось, как он заспорил с Рудиным, как Рудин отделал его, – и после того уже и Рудин передо мной обрисовался. Иной раз напишешь с вечера сцену, – как будто хорошо, на другой день перечтешь и приходишь в отчаяние: кажется, если бы сам черт на смех водил твоим пером – хуже бы не могло выйти. Так и мучаешься над каждой страницей. Я обыкновенно, когда кончу какую-нибудь вещь, перечту, перепишу и уже больше не перечитываю. Дам сначала прочитать кому-нибудь такому, кто мне правду скажет, – Анненкову, например, – а там уж прямо и отправляю в печать.
Людвиг Пич:
Он был по природе ленив: в его крови глубоко жила «обломовщина». Он брался за перо почти всегда под влиянием внутренней потребности творчества, не зависевшей от его воли. В течение целых дней и недель он мог отстранять от себя это побуждение, но совершенно от него отделаться он был не в силах. Образы, вызываемые личными воспоминаниями, картины, сохранившиеся в его памяти, возникали в его фантазии неизвестно почему и откуда и все более и более осаждали его и заставляли его рисовать – какими они ему представляются, и записывать, что они говорят ему и между собою. Часто слышал я, как он во время этих рабочих часов, под влиянием непреодолимой потребности, запирался в своей комнате и, подобно льву в клетке, шагал и стонал там. В эти дни, еще за утренним чаем, мы слышали от него трагикомическое восклицание: «Ох, сегодня я должен работать!» Раз усевшись за работу, он как бы физически переживал все то, о чем писал.
Петр Дмитриевич Боборыкин:
– Сочинять, – продолжал он, – я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было.
Иван Сергеевич Тургенев. В записи Н. А. Островской:
Всякий раз, как я пробовал писать, задавшись какою-нибудь идеею, – выходило плохо. Выходило хорошо и нравилось только то, что я писал просто, из какого-то глупого удовольствия писать, при этом писать так именно, как я понимал что бы и кого бы то ни было.
Иван Сергеевич Тургенев. В записи Л. Н. Майкова. 1880 г.:
Я не только не хочу, но я совершенно не могу, не в состоянии написать что-нибудь с предвзятою мыслью и целью, чтобы провести ту или другую идею.
У меня выходит литературное произведение так, как растет трава.
Я встречаю, например, в жизни какую-нибудь Феклу Андреевну, какого-нибудь Петра, какого-нибудь Ивана, и представьте, что вдруг в этой Фекле Андреевне, в этом Петре, в этом Иване поражает меня нечто особенное, то, чего я не видел и не слыхал от других. Я в него вглядываюсь; на меня он или она производит особенное впечатление. Вдумываюсь, затем эта Фекла, этот Петр, этот Иван удаляются, пропадают неизвестно куда, но впечатление, ими произведенное, остается, зреет. Я сопоставляю эти лица с другими лицами, ввожу их в сферу различных действий, и вот создается у меня целый особый мирок… Затем нежданно, негаданно является потребность изобразить этот мирок, и я удовлетворяю этой потребности с удовольствием, с наслаждением.
Таким образом, никакая предвзятая тенденция мною совершенно и никогда не руководит.
Иван Сергеевич Тургенев. В записи Е. И. Цветкова:
В большинстве случаев я списывал с натуры. Конечно, я не мог списывать целого типа с одного человека. Одну черту берешь с одного, другую подходящую берешь с других. Замечательно, многие скверные черты я брал с людей, которых я просто обожаю; многие гадкие черты брал у самого себя, поймаешь этакую гадину и пришпилишь: «на, мол, вот тебе». Конечно, не обходилось и без чистой выдумки, особенно, когда дело касается чувств; возьмешь и рассиропишь себя: «И невольная слеза катится с глаз» и тому подобное.
Иван Сергеевич Тургенев. В записи Е. М. Гаршина:
В конце концов мастерство художника в этом и состоит, чтобы суметь наблюдать явление в жизни и затем уже это действительное явление представить в художественных образах. А выдумать ничего нельзя.
Хьялмар Хьорд Бойесен:
<…> Я не знаю, как объяснить вам самый процесс развития характеров в моем уме. Всякая написанная мной строчка вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Не то что я копирую действительные эпизоды или живые личности, – нет, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя: для чего предназначила природа ту или иную личность? как проявится у нее известная черта характера, если ее развить в психологической последовательности? Но я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женский образ; напротив, я всячески стараюсь не выделять особенностей; я стараюсь показать моих мужчин и женщин не только en face, но и en profil, в таких положениях, которые были бы естественными и в то же время имели бы художественную ценность. Я не могу похвалиться особенно сильным воображением и не умею строить зданий на воздухе.
– Ваши слова, – сказал я, – поясняют мне тот факт, что ваши характеры обладают ярко определенными чертами, запечатлевающимися в уме читателя. Так было, по крайней мере, со мной. Базаров в «Отцах и детях» и Ирина в «Дыме» так же знакомы мне, как мои родные – братья; мне знакомы даже их физиономии, и я гляжу на них как на старых друзей.
– Так же смотрю на них и я, – сказал Тургенев. – Это люди, которых я когда-то знал интимно, но с которыми оборвалось знакомство. Когда я писал о них, они были для меня так же реальны, вот как вы теперь. Когда я заинтересовываюсь каким-либо характером, он овладевает моим умом, он преследует меня днем и ночью и не оставляет меня в покое, пока я не отделаюсь от него.
Мемуарист Н. М.
«Все мои повести, – говорил он, – или, по крайней мере, детальная сторона их, представляют почти фотографический снимок с того, что я видел и слышал. Я часто соединяю ваше лицо с словами вашего приятеля NN и с жестами Т., но ни того, ни другого, ни третьего не выдумываю, а списываю. После каждой встречи с знакомой и незнакомой личностью я вношу в свою тетрадь все обратившие мое внимание характерные черты наружности и речи моих собеседников. По этим характерным и выдающимся чертам я стараюсь воспроизвести целую фигуру, сливая, где это можно, черты нескольких родственных лиц в одну».
Аделаида Николаевна Луканина (урожд. Рыкачева, во втором браке Паевская; 1843–1908), врач, писательница:
«И я никаких особенных приемов не знаю, – отвечал Иван Сергеевич, – я думаю, что навык приобретается работой. Я скажу вам, как я пишу, то есть писал – теперь я уже давно не пишу ничего. Я делал так: выбрав сюжет рассказа, я брал действующих лиц и на отдельных листках писал их биографии. Затем излагал весь рассказ на двух-трех страницах коротко и просто, ну, как для детей пишут. После этого я уже начинал писать самый рассказ. Из биографий остается очень мало, иногда лица изменяются и по характеру, но такой способ очень помогает. Впрочем, сознаюсь, что постройка повестей, архитектурная сторона их, у меня самая слабая. <…> Затем, когда вы пишете, пишите как можно проще. Мысль может быть какая угодно: чем новее, чем оригинальнее, тем лучше; выражение же ее никогда не должно быть вычурно. Посмотрите у Шекспира: в самых высоких и трагических местах он переходит в прозу. Вычурность, подчеркиванья и т. п. большею частью служат прикрытием пошлости и посредственности. Когда вы переписываете свои работы, вычеркивайте не только неясности, но и все то, что вам самой может показаться слишком красиво, что поражает вас самое. Вы, в сущности, сидите с головой во всем том, что описываете, вы не судья, и если вам что-либо особенно нравится, то это нравится вам, автору; читатель может отнестись совсем иначе, ему нет дела до того, что нравится вам лично». <…>
После этого Иван Сергеевич заговорил о том, как вообще пишет художник и как должен писать ввиду цензуры. Вот какой совет он дал мне: «Пишите так, как вам хочется, не урезывайте себя сами, редактор уже выпустит то, что нецензурно. Художник не должен писать в виду чего-нибудь, он передает жизненную правду; в том, во что она складывается, он не виноват; нечего обращать внимание и на то, что говорит критика».
Павел Васильевич Анненков:
Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно.
Генри Джеймс:
Особенно интересны и ценны были замечания и признания Тургенева о методах его творчества. <…> Зародыш повести никогда не принимал у него формы истории с завязкой и развязкой – это являлось уже в последних стадиях созидания. Прежде всего его занимало изображение известных лиц. Первая форма, в которой повесть являлась в его воображении, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинация индивидуумов, которых он затем заставлял действовать. <…> Лица эти обрисовывались пред ним живо и определенно, причем он старался, по возможности, детальнее изучить их характеры и возможно точнее описать их. Для большего уяснения себе он писал нечто вроде биографии каждого из действующих лиц, доводя их историю до начала действия в задуманной повести. Словом, каждое действующее лицо имело у него dossier наподобие французских преступников в парижской префектуре. Запасшись такими материалами, он задавался вопросом: в чем же выразится деятельность моих героев? И он всегда заставлял их действовать таким образом, чтобы пред читателем вполне обрисовался данный характер. Но, как говорил Тургенев, его всегда упрекали в изъянах художественной архитектоники произведения, иными словами, композиции, построения.
Лидия Филипповна Нелидова (1851–1936), писательница, мемуаристка:
Он не любил слова «писательница» и говорил, одинаково относя к женщине или к мужчине, что есть «писатель» и у каждого есть муза.
Эдмон Гонкур. Из дневника:
5 мая 1876.
– Мне для работы нужна зима, – говорит Тургенев, – стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристалликами инея… Вот тогда… Однако еще лучше мне работается осенью, в дни полного безветрия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина… У меня на родине есть небольшой деревянный домик, в саду растут желтые акации, – белых акаций в нашем краю нет. Осенью вся земля покрывается слоем сухих стручков, хрустящих под ногами, а кругом множество птиц, этих… как бишь их, ну тех, что перенимают крики других птиц… ах, да, сорокопутов. Вот там-то в полном уединении…
Не закончив фразы, Тургенев только прижимает к груди кулаки, и жест этот красноречиво выражает то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке старой России.









































